
Огай Мори
Танцовщица
Вскоре я окончательно оправился от болезни. Я неутешно рыдал, обнимая женщину, от которой отлетела душа. Перед тем как вместе с министром уехать в Японию, я, по совету Аидзавы, оставил ее матери некоторую сумму на повседневные расходы и отдельно на ребенка, которому предстояло родиться у несчастной безумной.
Да, Аидзава Кэнкити – редкостный друг, но я и по сию пору испытываю к нему неприязнь.
1890
Рассказы
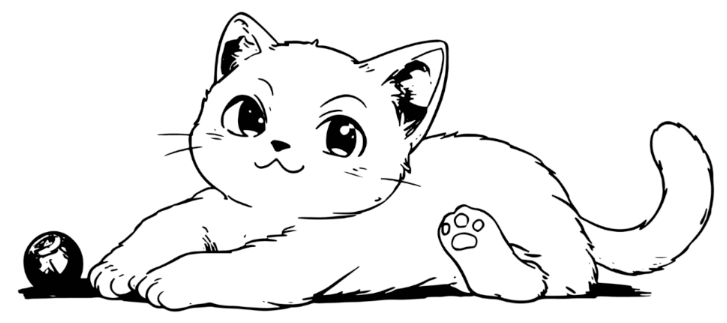
Ханако[14]

Просторная студия Огюста Родена в «Отеле Бирон»[15] залита утренним солнцем. Построенный в свое время неким богачом, «Отель Бирон» являл собою роскошное здание. Но позже оно было приспособлено под женский монастырь ордена Сакре-Кёр, где жили девочки из Фобур Сен-Жермен, которых монашки «Святого сердца» обучали пению псалмов. Можно себе представить этих певиц, разевавших розовые рты на манер птенцов, с вожделением ждущих принесенных родителями лакомств.
Ныне здесь звонких голосов не слышно. Здесь царит иная, тихая жизнь. Да, тихая, но вместе с тем исполненная напряженного, страстного и даже яростного творчества.
На бесчисленных подиумах громоздится множество гипсовых заготовок, а также мраморные глыбы. Одновременно в работе находится несколько вещей. Роден занимается то одной, то другой – в зависимости от настроения. Одна скульптура оставлена неоконченной, зато другая быстро обретает зримые формы и как бы сама собой оживает под руками мастера. Его способность концентрировать волю необычайна. У него не бывает разминок, он с ходу включается в творческий процесс, словно бы и не прерывался ни на минуту.
Роден окидывает любовным взглядом творения своих рук. Широкое лицо, нос с горбинкой, густая окладистая белая борода.
Слышится осторожный стук в дверь.
– Entrez![16] – его сочный, отнюдь не старческий голос эхом отзывается в просторном помещении.
На пороге – щуплый, еврейского типа мужчина лет тридцати с густой темной шевелюрой. Он сообщает, что, как и обещал, привел мадемуазель Ханако.
Роден выслушивает это сообщение довольно равнодушно.
Когда-то обосновавшийся в Париже правитель Камбоджи представил ему танцовщицу, которая вызвала в нем профессиональный интерес. Изящные движения ее рук и ног производили колдовское впечатление. Тогда он набросал наскоро рисунок, который у него хранится до сих пор. Любой расе присущи свои эталоны красоты. По убеждению Родена, красота эта проявляется в той степени, в какой она доступна пониманию ее созерцателя. Теперь вот до него дошел слух, что в варьете выступает японка по имени Ханако, и он изъявил желание видеть ее у себя в студии.
И вот сейчас явился как раз ее антрепренер, или импресарио.
– Пожалуйста, пригласите ее сюда, – сказал Роден своему визитеру. Садиться он обычно не предлагал, – и не только потому, что дорожил своим временем.
– С ней переводчик, – вкрадчиво сказал гость.
– Кто такой? Француз?
– Нет, японец. Студент, работает в Институте Пастера. Услышав, что Ханако приглашена к вам в студию, он охотно взял на себя роль переводчика.
– Ладно, пусть тоже войдет.
Антрепренер вышел.
Вскоре перед Роденом предстали японец и японка, оба на редкость миниатюрные. Они едва достигали ушей стоявшего рядом отнюдь не высокого антрепренера.
Когда Роден на чем-то сосредоточивался, у него на лбу залегала глубокая складка. Именно так было и сейчас. Он разглядывал Ханако.
Студент поклонился, пожал протянутую Роденом шершавую натруженную руку. Ту самую руку, которая ваяла «Данаиду», «Поцелуй», «Мыслителя». Затем протянул Родену свою визитную карточку, на которой значилось: «Кубота, кандидат медицины».
Роден взглянул мельком и спросил:
– Работаете в Институте Пастера?
– Да.
– И давно?
– Уже три месяца.
– Avez vous bien travaillé?[17]
Студент поразился. Он и раньше слышал, что Роден любит задавать этот вопрос. Но сейчас эти простые слова были обращены лично к нему.
– Oui, beaucoup, Monsieur![18] – При этом у Куботы было такое чувство, будто он приносил клятву богу неустанно трудиться до конца дней.
Кубота представил Родену Ханако. Роден одним взглядом охватил всю ее крохотную сжавшуюся фигурку – от небрежно уложенной прически «симада»[19] до кончиков ног, обутых в сандалии «тиёда» и белые таби[20]. Пожал ее маленькую крепкую руку.
Кубота испытывал при этом смущение и даже стыд. Если уж Родену понадобилась японка, можно было бы найти женщину попривлекательней. В какой-то степени Кубота был прав. При всем желании красавицей Ханако не назовешь. Она выступала в различных городах Европы и слыла известной японской актрисой. В Японии же никто о ней и не слыхал, равно как и Кубота. Да, красавицей она не была, ее скорее можно было уподобить невзрачной кухарке. Впрочем, ухоженные руки и ноги свидетельствовали о том, что черной работы она не касалась. Тогда, может быть, ей подошла бы служба горничной. Тоже вряд ли. Пожалуй, больше всего она похожа на «няньку».
Роден же, казалось, был, как ни странно, вполне удовлетворен. В Ханако угадывались крепкое здоровье и чуждость сибаритским наклонностям. Под тонкой кожей лица, шеи, рук четко проступали эластичные, тренированные мышцы. И никакого, даже тончайшего, слоя жира. Именно это и нравилось Родену. Он протянул Ханако руку, и она пожала ее с приветливой улыбкой – видно, уже поднаторела в европейских манерах.
Роден пригласил их сесть, антрепренера же попросил подождать в приемной. Угостил Куботу сигарой и поинтересовался у Ханако, из каких она мест – из горных или с морского побережья?
Гастролируя по разным городам, Ханако приходилось часто давать интервью, и в конечном итоге у нее сложился стереотипный рассказ о себе. Как у Золя в «Лурде», девушка, чудом исцелившая себе ногу, привычно рассказывает об этом пассажирам битком набитого поезда. От многократного повторения рассказ обрел вполне законченную и убедительную форму. К счастью, в данном случае конкретный вопрос предполагал конкретный ответ.
– Горы от нас далеко, а море рядом.
Ответ понравился Родену.
– На лодке приходилось плавать?
– Приходилось.
– И веслами гребли?
– Я была тогда еще маленькая, так что на веслах сидел отец.
Видимо, Роден живо представил себе эту картину. Он помолчал. Он вообще был немногословен. Потом без всякой видимой связи обратился к Куботе:
– Мадемуазель, по-видимому, известна моя профессия? Могла бы она снять с себя кимоно?
Кубота задумался. Вообще-то, его соотечественницы обнажаться перед чужими людьми не привыкли. Но Роден… это ведь совсем особенный случай. Как отнесется к этому Ханако?
– Я попробую ей объяснить.
– Пожалуйста.
И Кубота сказал следующее:
– Мастер – непревзойденный в мире скульптор. Вероятно, ты знаешь, он ваяет человеческое тело. Так вот, ему нужно взглянуть на тебя без одежды. Как видишь, мастер в почтенном возрасте, ему уже под семьдесят; человек он весьма серьезный. – Кубота смотрел на нее, стараясь угадать, какая последует реакция – сконфузится она, возмутится или начнет ломаться. Но она ответила просто:
– Я согласна.
– Она согласна, – перевел Кубота.
Роден был явно обрадован и сразу принялся готовить бумагу и пастель.
– Вы останетесь здесь? – спросил он Куботу.
– С подобной необходимостью я иногда сталкиваюсь по роду профессии, но мадемуазель, наверное, будет стесняться.
– В таком случае пройдите в библиотеку, минут за пятнадцать-двадцать я управлюсь. А вы пока выкурите сигару.
Кубота объяснил Ханако, что позировать ей придется не более двадцати минут, зажег сигару и вышел в соседнюю комнату.
Библиотека представляла собой небольшую комнату с двумя дверями и окном. Вплотную к окну был придвинут простой стол, стены уставлены стеллажами с книгами. Кубота поинтересовался библиотекой мастера и заключил, что она сложилась из книг, случайно попадавших в руки Родена, начиная с той далекой поры, когда он бедным подростком бродил по улицам Брюсселя. Некоторые из книг имели весьма потрепанный вид, наверно, были дороги ему как память.
Кубота подошел к столу стряхнуть пепел с сигары. Среди лежавших на столе книг Кубота обратил внимание на изящную книжицу с золотым обрезом, которую он поначалу принял за Библию; при ближайшем рассмотрении это оказалось карманное издание «Божественной комедии». А рядом с ней – томик из полного собрания сочинений Бодлера. Кубота раскрыл книгу и на первой странице увидел заглавие «Метафизика игрушки». «Это еще что такое?» – подумал он и стал читать. Оказалось, в детстве Бодлера водили в гости к какой-то девочке. У той было много игрушек, и он вспоминает, как ему было интересно в них играть. Как бы ребенок ни любил игрушку, у него обычно возникает желание ее сломать, потому что хочется узнать, что у нее внутри. Особенно если игрушка заводная; тогда тем более интересно – что приводит ее в движение. Таким образом, ребенок от физики переходит к метафизике.
Кубота так увлекся, что прочел от начала до конца весь этот небольшой трактат.
Тем временем Роден успел сделать набросок и пришел за Куботой.
– Ну как, вы, наверное, тут скучаете?
– Нет, я читал Бодлера, – ответил Кубота.
Ханако была уже одета, на столе лежали два эскиза.
– И что же вы прочитали из Бодлера? – продолжал Роден.
– «Метафизику игрушки».
– Да, вот так же и человеческое тело, оно интересно не внешней своей оболочкой, а душой, которая в ней заключена. Самое ценное в человеке – пламя души, которое прорывается наружу сквозь телесную оболочку.
Кубота робко взглянул на эскизы, а Роден заметил:
– Это очень приблизительный набросок, так что здесь что-нибудь понять трудно. – И добавил: – У мадемуазель поистине прекрасное тело, полное отсутствие жировой прослойки, четко выражена каждая мышца. Как у фокстерьера. Кроме того, она идеально сложена. И к тому же очень вынослива – может долго стоять на одной ноге, вытянув другую под прямым углом. Как дерево, пустившее в землю глубокие корни. Совершенно удивительный тип телосложения, в корне отличающийся от средиземноморского или североевропейского типа телосложения. Для первого характерны широкие бедра и плечи, для второго – широкие бедра и узкие плечи. Красота Ханако – это красота силы.
1910
В процессе реконструкции[21]

До театра Кабуки советник Ватанабэ доехал на трамвае. Недавно прошел дождь, и местами еще стояли лужи. Старательно их обходя, он направился в сторону Департамента связи, смутно припоминая, что ресторан должен быть где-то совсем рядом, за углом.
Улица была совершенно пуста. На всем пути от трамвайной остановки до ресторана ему повстречалась лишь компания оживленно беседовавших мужчин в европейских костюмах – судя по всему, они возвращались со службы, – да яркая девица, по-видимому, служанка из ближайшего кафе, посланная куда-то с поручением. Проехала мимо коляска рикши с задернутыми шторками.
Еще издали видна вывеска «Европа-палас». Вдоль улицы, ограниченной с противоположной стороны каналом, тянется дощатая изгородь, а за ней – здание, обращенное фасадом в тихий переулок. Два косых лестничных марша по фасаду образуют нечто вроде усеченного треугольника, на месте усечения – две двери. Ватанабэ поднимается наверх и останавливается перед дверьми, не зная, в которую войти. Потом замечает слева табличку «вход» и, аккуратно вытерев ноги, переступает порог ресторана.
Перед ним простирается широкий коридор с ковриком у входа. Ватанабэ еще раз вытирает ноги, смущенный тем, что вынужден идти во внутренние помещения в уличной обуви[22]. Не видно ни одной живой души, лишь откуда-то из глубины здания доносится стук молотков. Вспомнив дощатую изгородь, Ватанабэ сообразил: идет реконструкция. Так никого и не дождавшись, он прошел в конец коридора и снова остановился в раздумье.
Спустя некоторое время появился меланхоличный официант.
– Вчера я сделал заказ по телефону.
– Вы имеете в виду ужин на две персоны? – уточнил официант. – Пожалуйте на второй этаж, – и жестом указал дорогу.
Официант шел сзади[23], поэтому, чтобы понять, куда следует идти, Ватанабэ вынужден был то и дело оборачиваться. Здесь, на втором этаже, стук молотков стал еще громче.
– Веселая музыка, – заметил Ватанабэ.
– Не извольте беспокоиться. В пять часов рабочие уйдут, и будет совсем тихо. Сюда, пожалуйста. – Он забежал вперед и распахнул двери залы, обращенной на восток. Для ужина вдвоем обстановка была слишком громоздкой: три стола, у каждого по четыре-пять стульев; возле окна – диван и декоративное карликовое растение[24].
Не успел Ватанабэ осмотреться, как официант распахнул следующую дверь:
– Сервировано будет здесь.
Эта комната выглядела поуютней: в центре – стол, на нем корзина с азалиями и два куверта – один против другого. Обстановка этой комнаты больше соответствовала случаю, и Ватанабэ успокоился. Официант, извинившись, удалился, а вскоре стих и стук молотков. Часы показывали пять, до назначенной встречи оставалось тридцать минут.
Взяв из коробки сигару, Ватанабэ обрезал кончик и закурил. Предстоящая встреча не особенно его волновала, словно бы ему было безразлично, кто будет сидеть по ту сторону цветочной корзины. Он и сам удивлялся своему спокойствию.
С сигарой во рту он опустился на диван и посмотрел за окно. На земле у забора громоздились штабеля строительных материалов. Похоже, зала помещается в торцовой части здания, потому что видна стоячая вода канала и на противоположном его берегу – особнячки, похожие на дома свиданий.
Улица по-прежнему пустынна, только где-то в самом конце ее маячит одна-единственная фигура женщины с ребенком за спиной. Со второго этажа отчетливо видно массивное здание из красного кирпича – это Военно-морская библиотека.
Сидя на диване, Ватанабэ изучал внутреннее убранство залы. Стены украшали картины, ни в малейшей степени не согласующиеся между собой по стилю. Цветущая слива с соловьями, и Урасима-таро[25], и какая-то одинокая хищная птица. Продолговатые и узкие декоративные свитки выглядели под высокими потолками несоразмерными, словно их развернули только наполовину. Над дверью красовалась матерчатая полоска с письменами «века богов»[26]. «Да, современная Япония – не эталон вкуса!» – решил Ватанабэ и продолжал курить, стараясь ни о чем больше не думать.
Но вот в коридоре послышались голоса. Дверь отворилась, и перед ним предстала та, ради которой он сюда явился. Большая соломенная шляпа а-ля Мария-Антуанетта, украшенная огромным пером; серое пальто нараспашку, под ним – серая же юбка и тончайшей работы батистовая блуза. В руке – изящный, как игрушка, летний зонтик.
Ватанабэ расплылся в приветливой улыбке, положил сигару и стремительно встал. Дама кивнула сопровождавшему ее официанту и лишь затем подняла глаза на Ватанабэ. Огромные карие глаза, от которых он когда-то не мог оторваться. В те дни под ними еще не лежали густые лиловые тени.
– Кажется, я опоздала, – сказала она по-немецки нарочито небрежным тоном. Зонтик перекочевал в левую руку, правая же, в перчатке, была протянута ему. «Сковывает присутствие официанта», – подумал Ватанабэ, вежливо пожимая пальцы дамы.
– Доложите, когда ужин будет готов, – распорядился он, и официант тотчас же удалился.
Зонтик был брошен на диван, туда же со вздохом облегчения опустилась дама. Она неотрывно смотрела ему в лицо. Ватанабэ придвинулся ближе.
– Как тихо, – наконец проговорила она.
– Когда я пришел, здесь стоял немыслимый грохот, идет реконструкция.
– Ах, вот оно что! Видно, поэтому так неуютно. Впрочем, мне теперь везде неуютно.
– Когда и какие дела привели тебя сюда?
– Я приехала позавчера, а вчера мы виделись с тобой.
– Так какие же тебя привели дела?
– С конца прошлого года я находилась во Владивостоке.
– Выступала в ресторанах?
– Да.
– Одна или с труппой?
– Ни то, ни другое. Мы вдвоем, ты его знаешь. – Немного помедлив, она добавила: – Со мною Косинский.
– Тот поляк? Ты что же, стала пани Косинской?
– Нет, просто я пою, Косинский аккомпанирует.
– И только?
– Видишь ли, когда путешествуют вдвоем, отрицать было бы…
– Понятно. Значит, он тоже в Токио?
– Да. Мы остановились в «Атагояме».
– Как же он отпускает тебя одну?
– Концерты даю я, он только аккомпанирует. – Она сказала begleiten, что можно было истолковать двояко: аккомпанирует, сопровождает. – Я не утаила от него нашу встречу на Гиндзе, он тоже выразил готовность повидаться.
– Избавь, пожалуйста.
– Не беспокойся. Денег у нас пока много.
– Сейчас много, потом потратите – и станет мало. Что тогда?
– Поедем в Америку. Еще во Владивостоке нас предупреждали, что на Японию не следует рассчитывать.
– Правильно вас предупреждали. После России надо ехать в Америку. Япония пока не доросла, она – в процессе реконструкции.
– Что я слышу? И это говорит японец, да еще сановная особа! Вот расскажу в Америке! Ты ведь правда важный чиновник?
– Чиновник.
– И, наверное, из респектабельных?
– До противного. Настоящий филистер. Сегодняшний вечер, конечно, не в счет.
– Слава богу.
Дама сняла давно расстегнутые перчатки, протянула заледеневшие руки. Он торжественно пожал их. Она не сводила с него глаз. От залегавших под ними теней они казались еще больше.
– Можно я тебя поцелую? – спросила она.
Ватанабэ поморщился:
– Мы же в Японии.
Как раз в эту минуту дверь отворилась и вошел официант:
– Кушать подано.
– Мы в Японии, – повторил Ватанабэ, встал и пригласил даму в соседнюю комнату.
Вспыхнул электрический свет. Дама осмотрелась, села к столу.
– Ghambre separe![27] – сказала она с улыбкой. Ватанабэ почувствовал какую-то неловкость; возможно, мешала корзина с цветами. Выдержав паузу, он сухо заметил:
– Это получилось совершенно случайно.
Налили шерри. Подали дыню. Вокруг пары гостей суетились три официанта.
– Смотри, сколько их тут, – заметил Ватанабэ.
– И никакого толку. В «Атагояме» то же самое.
– В «Атагояме» неважно?
– Да нет, ничего. Правда вкусная дыня?
– Поедете в Америку, там по утрам вам будут приносить гору всякой еды. – Они ужинали и перебрасывались ничего не значащими фразами.
Подали шампанское.
– Есть ли в тебе хотя бы капля ревности? – неожиданно спросила она.
В продолжение всей этой беседы ни о чем она вспоминала, как, бывало, сидели они после спектакля в кабачке «Голубые ступеньки», как ссорились и мирились. Хотела будто бы в шутку спросить, а помнит ли он то время, но вопрос прозвучал серьезно и с явной болью.
Ватанабэ поднял бокал шампанского и твердо произнес:
– Kosinski soll leben![28]
Дама молча подняла свой бокал, лицо ее застыло в улыбке, рука немилосердно дрожала.
Было всего половина девятого, когда коляска рикши пересекла залитую огнями Гиндзу и повернула в сторону Сибы. Лицо ехавшей в ней дамы скрывала густая вуаль.
1910
Семейство Абэ
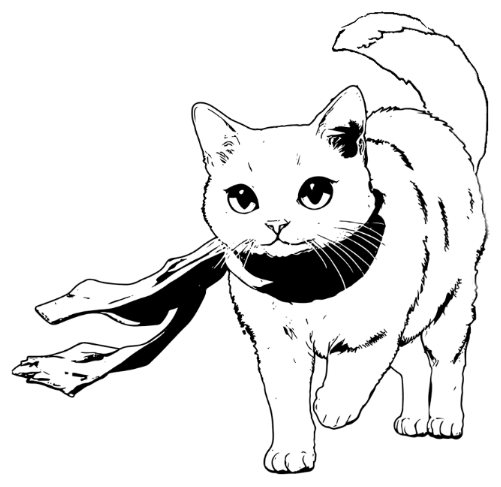
В соответствии с правилами заложничества[29] Хосокава Тадатоси[30] – военачальник третьего ранга сёгунской гвардии, состоявший в должности правителя провинции Эттю, – весной восемнадцатого года Канъэй[31] собирался в Эдо. Ему предстояло, не дождавшись цветов, расцветавших в его владениях раньше, нежели в других местах, отправиться на север в сопровождении свиты и вооруженного отряда, как полагается даймё с доходом в пятьсот сорок коку[32].
Нежданно-негаданно Тадатоси занемог, да так, что придворный лекарь со всеми его снадобьями оказался бессилен, а болезнь с каждым днем набирала силу. Послали нарочного в Эдо просить об отсрочке. В ту пору сёгуном был Иэмицу[33], третий из дома Токугава, правитель блистательный и милостивый. Помня о заслугах Тадатоси в усмирении мятежников во главе с Амакуса Сиро Токисадой[34] во время восстания в Симабаре, сёгун проявил великодушие – двадцатого числа третьего месяца он приказал своим приближенным Мацудайре Идзуноками, Абэ Бунгоноками, Абэ Цусиманоками выразить сочувствие больному и послать к нему лекаря-иглоукалывателя из старой столицы[35].
Далее, двадцать второго числа, с нарочным – самураем по имени Сога Матадзаэмон – ему было отправлено письмо за подписью трех высокопоставленных чиновников «Бакуфу»[36].
Внимание сёгуна к Тадатоси расценивалось как знак наивысшего благоволения. Сёгун и прежде одаривал его милостями: три года назад, весною пятнадцатого года Канъэй, после усмирения восстания в Симабаре, когда вновь воцарилось спокойствие, сёгун пожаловал ему угодья в эдоских владениях и птиц для соколиной охоты. Так что теперешние знаки внимания были вполне естественны.
Однако, не дождавшись сёгунских милостей, Тадатоси скончался в своей усадьбе Ханабатакэ в провинции Кумамото. Случилось это семнадцатого числа третьего месяца в час Обезьяны[37], от роду ему было пятьдесят шесть лет.
Супруге его, дочери Огасавары Хёбудаю Хидэмасы, удочеренной самим сёгуном и им же выданной замуж, в том году исполнилось сорок пять. Звали ее Осэнноката. Старший сын Тадатоси – Рокумару – шесть лет назад отпраздновал совершеннолетие и по этому случаю получил от сёгуна право присоединить к своему имени иероглиф «Мицу»[38], так что одним из его имен стало Мицусада. Он получил высокий ранг и должность правителя провинции Хиго.
Следуя в Эдо, Мицусада уже добрался до Хамамацу, что в провинции Тотоми, и тут его настигло известие о кончине отца. Он вынужден был повернуть обратно. К этому времени Мицусада сменил свое имя на Мицухиса.
Второй сын Тадатоси – Цурутиё – сызмальства принял монашество в храме Тайсёдзи на горе Тацутая-ма. Он стал учеником настоятеля Тайэн-осё, прибывшего сюда из киотоского храма Мёсиндзи, и получил имя Согэн. Третий сын – Мацуноскэ – воспитывался в семействе Нагаока, исстари связанном с домом Хосокава. Четвертый – Кацутиё – был усыновлен Нандзё-тайдзэном[39], управляющим продовольственным ведомством.
Были у Тадатоси также две дочери. Старшая, Фудзихимэ, была просватана за Мацудайру Суоноками Тадахиро. Вторая, Такэхимэ, вышла замуж за Ариёси Таномо Хидэнагу.
Сам Тадатоси являлся третьим сыном Сансая. За ним шли еще трое: четвертый сын – Накацука Садаю Тацутака, пятый – Гебу Окитака, шестой – Нагаока Сикибу Ёриюки. Младшие его сестры – Тарахимэ, бывшая замужем за Инабой Кадзумити, и Манхимэ, выданная за советника императорского двора Карасумару Мицукату. Дочь этой Манхимэ, Нэнэхимэ, впоследствии стала женой Мицухисы.
Два старших брата Тадатоси носили фамилию Нагаока. Две старшие сестры его вышли замуж и жили теперь в семействах Дзэнно и Нагаока. Здравствовал еще и сам старик Сансай Сорю, ему исполнилось семьдесят девять лет. В момент смерти Тадатоси он, как и старший сын покойного Мицусады, направлялся в Эдо, другие родичи находились кто в Киото, кто в иных дальних провинциях. До них печальное известие дошло позднее. Особенно велика была скорбь тех, кто пребывал в самой усадьбе Кумамото. Двое – Мунусима Сёкити и Цуда Рокудзаэмон – отправились с печальным известием в Эдо.
Поминовение первой недели пришлось на двадцать четвертый день третьего месяца. Двадцать восьмого числа четвертого месяца состоялась церемония поднятия гроба, до той поры он стоял в одном из покоев усадьбы прямо на земле, по этому случаю дощатый настил пола разобрали.
По указанию из Эдо сожжение усопшего произвели в храме Соунъин деревни Касугамура уезда Акита, прах захоронили на горе за воротами Кораймон. Зимою следующего года возле усыпальницы воздвигли храм Гококудзан Мёгэдзи; из эдоского храма Токайдзи, что в районе Синагава, прибыл бонза Кэйсицу-осё, ученик знаменитого Такуана-осё[40]. Впоследствии, когда он по старости отошел от дел и поселился во флигеле Ринрюан при том же храме, его место унаследовал второй сын Тадатоси, в монашестве Согэн, принявший имя Тэнган-осё. Тадатоси получил посмертное имя Мёгэиндэн Тайун Сого Дайкодзи.
Сожжение в храме Сюунъин совершалось по воле самого Тадатоси. Как-то раз во время охоты он отдыхал и пил чай в этом храме. Потом ему вздумалось побрить бороду, и он сказал об этом настоятелю. Вызванный настоятелем прислужник принялся ловко орудовать бритвой, а Тадатоси тем временем поинтересовался: «Видать, немало покойников побрили вы этой самой бритвой?»
Настоятель смешался, не зная, что ответить. С тех самых пор Тадатоси питал расположение к храму Сюунъин и завещал именно там предать огню его тело.
Церемония сожжения была в самом разгаре, когда среди сопровождавших гроб самураев пробежал шепоток:
– Смотрите, соколы, соколы!
В небесной голубизне, просвечивавшей сквозь кроны храмовых криптомерий, показались два сокола. Они описали круг над колодцем, прикрытым, словно зонтиком, ветвями цветущей сакуры, и стремительно опустились в него. На глазах у изумленной публики две птицы, одна в хвост другой, камнем упали в колодец.
Толпа у ворот храма загомонила. Два человека отделились, подошли к колодцу и, облокотясь о каменную ограду, заглянули внутрь. Соколы к тому времени погрузились на дно, поверхность воды снова была невозмутимой, как прежде. В обрамлении водорослей она сверкала, подобно зеркалу. Эти двое были сокольничие. Погибшие же соколы Ариака и Акаси – любимцы Тадатоси.
– Значит, соколы тоже последовали за господином, – пронеслось над толпой.
Со дня смерти князя покончили с собой более десяти вассалов[41]. Позавчера совершили харакири восемь человек разом, один сделал харакири вчера. Во всем княжестве не было человека, который не помышлял бы о самоубийстве. Никто не задавался вопросом, как это пара соколов сумела ускользнуть от сокольничих и почему они влетели в колодец.
Соколы были любимцами князя, и всем было ясно: они приняли добровольную смерть. Оснований доискиваться иных причин не было.
Пятого числа пятого месяца истекли доложенные сорок девять дней траура[42].
Во всех храмах – Кисэйдо, Конрёдо, Тэндзюан, Сёсёин, Фудзиан – читались заупокойные сутры. Но кое-кто еще готовился совершить харакири на следующий день. Эти люди, равно как и их родственники, жены и дети, не принимали участия ни в торжественных встречах высокого гонца из Эдо и иглоукалывателя из Киото, ни в поминках. Их помыслы всецело сосредоточились на самоубийстве. Они забыли даже о собственных детях: не рвали листьев ириса, чтобы украсить, как полагается, карнизы крыш в Праздник мальчиков[43], все вывешивали традиционных карпов, жизнь для них остановилась.
Никто не отдавал распоряжений, когда и как совершать самоубийство, – все разумелось само собой. Близость к князю, даже самая тесная, еще не давала права каждому поступать по своей воле. Даже тот, кто при жизни сопровождал князя в поездках к сёгуну в столицу Эдо или делил с ним бивачный быт в дни сражений, нуждался в особом дозволении, чтобы сопутствовать своему господину на гору Сидэ и по реке Сандзу[44]. Смерть без дозволения приравнивалась к собачьей смерти.
Для воина главное – честь, собачья же смерть чести не приносит. Погибнуть на поле брани, сражаясь с врагом, почетно; но опередить других на смертном пути, не имея на то дозволения, – это в заслугу не ставится. Та же собачья смерть, что и самоубийство без дозволения. Лишь в случае особой близости к князю может предполагаться как бы молчаливое дозволение.
Возьмем учение Махаяны[45]. Оно возникло уже после того, как Будда погрузился в нирвану, то есть родилось без прямого одобрения Будды. Но тот, кому ведомо прошедшее, настоящее и будущее, должен был предвидеть и возможность подобного учения. Поэтому можно считать, что проповедь Махаяны возвещена самими златыми устами[46].
Как же получали дозволение на самоубийство? Наглядное представление об этом может дать история Найто Тёдзюро Мотодзуку. Тёдзюро прислуживал Тадатоси в его кабинете. Он пользовался особым расположением князя и во время его болезни неотлучно находился при нем.
Когда Тадатоси понял, что ему не суждено выздороветь, он призвал Тёдзюро:
– Приближается конец, повесь-ка у меня в изголовье изречение: «Двух не дано»[47], что начертано крупными иероглифами.
Семнадцатого числа третьего месяца состояние Тадатоси резко ухудшилось, и он повторил:
– Принеси же тот свиток.
Тёдзюро повиновался. Тадатоси посмотрел на свиток и в раздумье закрыл глаза. Через некоторое время он сказал:
– Ноги у меня отяжелели.
Тёдзюро осторожно отвернул подол ночного халата и стал растирать ему ноги, не спуская глаз с лица князя:
– У Тёдзюро есть почтительная просьба.
– В чем дело?
– Болезнь причиняет вам тяжкие страдания, но боги милостивы, лекарство поможет. Я всей душой молюсь за ваше скорейшее выздоровление. Однако пути судьбы неисповедимы, и, если все-таки случится худшее, позвольте Тёдзюро уйти вместе с вами. – Тёдзюро порывисто обхватил ноги Тадатоси и прижался к ним лбом. Его глаза были полны слез.
– С какой стати? – Тадатоси отвернулся от Тёдзюро.
– О, не извольте так говорить! – Тёдзюро вновь припал к ногам Тадатоси.
– С какой стати? – повторил Тадатоси, не поворачивая головы.
Кто-то из присутствующих сказал:
– Нескромно это в твои-то лета, постеснялся бы.
Тёдзюро в тот год минуло семнадцать. Горло у него перехватило от волнения, он только и вымолвил:
– Прошу вас! – И в третий раз прижался лбом к ногам господина.
– Какой настойчивый! – сказал Тадатоси. В голосе его слышалась строгость, но слова сопровождались кивком согласия.
– О! – вырвалось у Тёдзюро; не отпуская ног господина, он уткнулся лицом в его постель и замер.
Тёдзюро впал в то расслабленное состояние, какое бывает, когда самое страшное позади и человек уже достиг цели. Он ощутил полное успокоение, не чувствовал и не замечал ничего, даже собственных слез.
По молодости лет Тёдзюро не имел военных заслуг. Но Тадатоси благоволил к нему и держал при себе. Бывало, Тёдзюро под винными парами допускал оплошность, которая другому не простилась бы, но Тадатоси только смеялся и говорил:
– Это не Тёдзюро грешит, а саке.
И Тёдзюро горел желанием исправить оплошность, отплатить за доброе к себе отношение. С тех пор как здоровье Тадатоси ухудшилось, он твердо знал, что для него, обласканного милостями князя, нет иного пути, кроме самоубийства вслед.
Если бы кто-нибудь заглянул поглубже в его душу, то наряду с желанием умереть обнаружил бы и сознание того, что окружающие сочтут это его долгом. И внутренние побуждения, и людское мнение равным образом предписывали одно – умереть. В его положении поступить иначе – значило бы покрыть себя страшным позором. Малодушные мысли посещали Тёдзюро, но страха смерти в нем не было. Все его помыслы были сосредоточены на решимости во что бы то ни стало добиться разрешения князя на самоубийство.
Тёдзюро почувствовал вдруг, что ноги господина, которые он сжимал, как будто ожили, зашевелились. Только тогда он опомнился и с мыслью: «Болят, наверное», – снова принялся легонько их растирать. Теперь он подумал о старой матери и о жене. Как семья ушедшего вслед за господином, они получат от главного дома[48] вознаграждение. Он может умереть спокойно, зная, что семья обеспечена. От этих дум лицо Тёдзюро просветлело.


