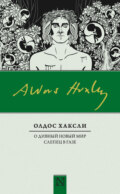Олдос Леонард Хаксли
Слепец в Газе
Слепец в Газе, на мельнице среди рабов.
Дж. Мильтон. «Самсон-борец»
Серия «Эксклюзивная классика»
Aldous Huxley
EYELESS IN GAZA
Перевод с английского М. Ловина
Печатается с разрешения Aldous and Laura Huxley Literary Trust, наследников автора и литературных агентств Georges Borchardt, Inc. и Andrew Nurnberg.

© Aldous Huxley, 1936
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Глава 1
30 августа 1933 г.
Снимки стали такими же тусклыми, как и воспоминания. Самое начало нового века. В саду стоит молодая женщина, похожая на призрак, который вот-вот исчезнет с первым криком петуха. «Моя мать», – подумал Энтони Бивис. Год или два, а может быть, месяц или два до того, как она умерла. «Но какова прическа», – думал он, вглядываясь в бурый призрачный туман фотографического отпечатка, она похожа на фигурно подстриженные кусты. Эти кривые, словно лебединая шея, бедра! Эти поникшие, опущенные вниз продолговатые груди, глядя на которые было совершенно невозможно представить их на обнаженном теле! А эти волосы! Прическа напоминала узорчатый куст, придававший черепу нелепую, прямо-таки уродливую форму! Каким до странности отвратительным и отталкивающим казалось все это теперь, в тридцать третьем году. И все же, все же, стоило ему закрыть глаза (он просто не мог этого не сделать), как перед его внутренним взором возникал образ матери: вот она с видом томной красавицы сидит в своем любимом шезлонге; вот, проявляя необыкновенную живость, играет в теннис или скользит на коньках по льду давней-давней зимой.
То же самое можно было сказать и о фотографиях Мери Эмберли, сделанных десять лет спустя. Та же длинная юбка, узкий клеш которой скрывал нижние конечности – казалось, что безногая женщина скользит по траве на роликах. Правда, надо признать, что груди были немного приподняты, а мощный зад сильно обтянут, однако общая форма тела была до странности нелепой. Краб, оплетенный китовым усом. А этот писк моды одиннадцатого года – огромная шляпа с перьями – ну ни дать ни взять сцена французских похорон первого разряда! Неужели мог найтись мужчина в здравом рассудке, способный увлечься этим антиподом Афродиты? И все же снимки врут – Энтони хорошо помнил Мери – она была живым воплощением страстно желанной женственности. Даже теперь при одном взгляде на этого украшенного перьями краба на колесиках у Энтони сильно забилось сердце и перехватило дыхание.
Прошло двадцать, затем тридцать лет после того события, и снимки вынесли на поверхность лишь далекое и неведомое. Но неведомое (печальная закономерность!) всегда граничит с нелепостью. Напротив, все, что ему удалось вспомнить, было чувством, испытанным в то время, когда неизвестное казалось известным, когда бред, воспринимаемый как должное, не кажется такой нелепицей. Трагические воспоминания всегда похожи на Гамлета в современном наряде.
Как прекрасна была его мать – прекрасна, невзирая на нелепые завитки волос, выступающий зад и отвислую грудь. А Мери! Да она же способна свести с ума в своем черепашьем панцире и траурных перьях! Да вот и он собственной персоной: в светло-бежевом коверкотовом пальто и ярко-красном шотландском берете, или в зеленой бархатной куртке с манжетами; или в школьной форме – бриджах с кожаными крагами; или в котелке и накрахмаленной манишке (это воскресный наряд), в будни на голове маленького Энтони красовалась черная школьная фуражка с красным околышем – даже он сам, вспоминая себя в те годы, видел этого мальчика только в современной одежде, но никак не в уродливых одеяниях, изображенных на фотографиях. И все же внутреннее чувство подсказывало, что и в тех нарядах он тогда выглядел не хуже, чем мальчики тридцатых годов в своих вязаных свитерах и шортах. Это доказательство, отчужденно подумал Энтони, разглядывая итонскую фотографию, на которой он был изображен со спины в цилиндре и фраке, доказательство того, что прогресс можно лишь выразить словами, но нельзя прочувствовать. Он достал записную книжку, открыл ее и записал: «Прогресс, вероятно, ощущается историками, но его никогда не чувствуют те, кто его в действительности переживает. Для молодых прогресс – естественная среда обитания, а старики через несколько месяцев или лет начинают воспринимать новшества как нечто само собой разумеющееся – они тоже перестают ощущать новшества в качестве таковых. Никто не испытывает по их поводу признательности, только раздражение, если по тем или иным причинам прогресс дает сбой. Люди не благодарят Бога за автомобиль; они лишь ругаются, когда отказывает карбюратор».
Он закрыл записную книжку и вновь принялся созерцать старомодный цилиндр.
Послышался звук шагов, и Энтони поднял глаза. Элен Ледвидж решительной подпрыгивающей походкой шла по террасе к дому. Ярко-красный пляжный костюм отбрасывал огненный отсвет на прикрытое широкими полями шляпы лицо женщины, придавая ему нечто инфернальное, словно Элен находилась в аду. Немного поразмыслив, Энтони решил, что это действительно так. Сознание – вот истинное место преисподней, и, следовательно, Элен постоянно носит с собой свой ад – ад нелепого замужества, и, возможно, не его одного. Но Энтони всегда воздерживался от того, чтобы слишком пристально вникать в природу этого ада, притворяясь, что ничего не замечает даже тогда, когда Элен сама предлагала себя на роль Вергилия своего чистилища. Такое дознание приведет лишь к всплеску эмоций и осознанию ответственности, а у него нет ни времени, ни сил на эмоции и ответственность. Работа прежде всего. Подавляя любопытство, он упрямо продолжал играть роль, которую давно для себя выбрал, – роль Диогена, отстраненного философа, фанатика от науки, который не видит вещей, очевидных для каждого нормального человека. Он вел себя так, словно в лице Элен не было ничего, кроме внешней красоты и отличной кожи. Однако, конечно, нельзя отрицать, что плоть не бывает совершенно непроницаемой; душа всегда прорывается сквозь стены своего обиталища. Эти ясные серые глаза, этот рот со слегка вздернутой верхней губой бывали жесткими и временами почти безобразными, когда выражали печаль и обиду.
Отблеск дьявольского пламени погас, как только Элен вошла с яркого солнечного света в тень дома, но внезапно ставшее бледным лицо все равно несло на себе явный отпечаток горькой меланхолии. Энтони взглянул на нее, но не поднялся с места и даже не счел нужным поздороваться. Между ними существовал уговор – никаких внешних проявлений чувств, никакой сентиментальности. Никакой, даже той, которая нужна для того, чтобы просто сказать: «С добрым утром». Когда Элен вошла в кабинет через открытую стеклянную дверь, Энтони вновь погрузился в рассматривание фотографий.
– Вот и я, – произнесла она без улыбки. Она сняла шляпу и красивым нетерпеливым движением головы отбросила назад рыжеватые локоны. – Отвратительная жара! – Она швырнула шляпу на диван и подошла к письменному столу, за которым сидел Энтони.
– Не работается? – спросила она с удивлением. Энтони редко можно было увидеть не зарывшимся в книги и бумаги.
Он покачал головой.
– Давай сегодня обойдемся без социологии.
– Что ты так внимательно разглядываешь? – Подойдя сзади к его креслу, она склонилась над разбросанными по столу фотографиями.
– Свой собственный труп. – Он протянул ей фотографию призрака давно не существующего итонца.
Несколько мгновений Элен молча рассматривала снимок.
– Ты был в то время очень мил, – заметила она.
– Mersi, mon vieux! [1] – С преувеличенной фамильярностью он похлопал ее по заду. – В Итоне у меня было прозвище Вениамин, сын Рахили1. – Кончиками пальцев Энтони чувствовал округлость упругой плоти, хотя сухой, скользкий и невероятно гладкий шелк платья придавал этому ощущению неприятный оттенок. – Вениамин был вечно голоден. Я выглядел как сущее дитя.
– Ты был очень мил, – произнесла она, не обратив внимания на то, что он перебил се. – На самом деле мил и очень трогателен.
– Я таким и остался, – улыбнулся Энтони.
Она молча посмотрела на него. Обрамленный темными густыми волосами лоб был гладок и безмятежен, как у задумавшегося ребенка. Детским, и это было немного комично, был и короткий вздернутый нос. В глазах, прикрытых сощуренными веками, плясали искорки смеха, уголки рта приподняты в едва заметной улыбке – в легкой иронической усмешке, противоречившей тем чувствам, для выражения которых были созданы губы Элен. У нее были полные, чувственные, изящно очерченные губы; соблазнительные и в то же время мрачные, печальные и почти трепетно чувствительные; эти губы казались совершенно беспомощными и покинутыми на произвол судьбы маленьким, безвольным подбородком.
– Худшее заключается в том, – произнесла наконец Элен, – что ты прав. Ты действительно мил, ты действительно трогателен. Самое ужасное, что ты не должен вызывать таких чувств. Это сплошной обман, когда ты пускаешь людям пыль в глаза и заставляешь их любить себя совершенно ни за что.
– Ну знаешь ли!.. – воспротивился он.
– Ты даешь им повод давать тебе что-то в обмен на дутый пузырь.
– По крайней мере, я не притворяюсь. Нет толку в том, чтобы изображать великую страсть. – Он распевно протянул «е» и скартавил на «эр». – Нет, даже то, что называется Wahlverwandschaft [2], – добавил он, перейдя на немецкий, из-за чего вся романтика родственных душ и вакхических страстей зазвучала смешно. – Можно просто чуть-чуть повеселиться.
– Чуть-чуть повеселиться, – отозвалась Элен, задумавшись о том времени, когда началось их знакомство и когда она, еще совсем юная, стояла на пороге дома, что называется Любовью, никак не решаясь войти. Но как уверенно, без лишних слов и с подчеркнутой галантностью, как безнадежно и окончательно захлопнул он перед ней дверь! Он не пожелал быть любимым. В течение секунды она была на грани духовного опустошения; затем же, с горьким и саркастичным отвращением, без которого ей уже невозможно было смотреть на его лицо, она согласилась на все условия. Они были приемлемы, поскольку ничего другого в будущем не предвиделось, да и хотя бы по причине того, что он был знаменитостью и она в конце концов сильно привязалась к нему; может быть, еще и потому, что он, по крайней мере, знал, как доставлять ей физическое удовольствие. – Чуть-чуть повеселиться, – повторила она и презрительно усмехнулась.
Энтони смерил ее удивленным взглядом, чувствуя неудобство от того, что она едва не нарушила молчаливое согласие между ними и коснулась запретной темы. Однако его опасения оказались напрасными.
– Приму к сведению, – вымолвила она после небольшой паузы. – Ты, как всегда, честен, но это не меняет того, что тебе достается все в обмен на мыльный пузырь. Считай, что это непреднамеренный обман. Твое лицо – твое главное достояние. Внешность есть внешность. – Она снова согнулась, рассматривая фотографии. – Кто это?
Он секунду помедлил с ответом, затем, улыбаясь, но чувствуя в то же время некоторое неудобство, произнес:
– Одно из несерьезных увлечений. Ее звали Глэдис.
– Весьма возможно. – Элен презрительно поморщила нос. – Почему ты расстался с ней?
– Она ушла сама. Предпочла кого-то другого. Да я не особенно и возражал.
Он хотел сказать что-то еще, но она перебила его:
– Может, ее любовник часто беседовал с ней в постели.
Энтони покраснел.
– Это ты к чему?
– Довольно странно, но некоторые женщины любят разговоры перед сном. А когда она поняла, что ты не собираешься с ней разговаривать… Ты же никогда этого не делаешь. – Она, отложив в сторону Глэдис, взяла в руки фотографию женщины, одетой по моде начала века. – Это твоя мать?
Энтони кивнул.
– А вот твоя, – произнес он, указывая на снимок Мери Эмберли в «похоронной» шляпе. Потом с едва заметным отвращением добавил: – Человек постоянно обречен тянуть за собой груз прошлого. Существует все же какой-то способ избавиться от ненужных воспоминаний. Терпеть не могу этого Пруста. Просто не выношу. – И с неподдельно клоунским видом он принялся рисовать портрет чахоточного искателя утраченного времени, скукоженного, мертвенно-бледного, с дряблыми мышцами и грудью почти что женской, поросшей длинной черной растительностью, обреченного вечно барахтаться в помоях своего незабываемого прошлого. Высохшие мыльные хлопья от бесчисленных ванн, принятых за всю жизнь, клубились вокруг него, и многолетняя грязь облепила коркой стены лохани и оседала мутной взвесью на дне. Он сидел там, бледнотелый, уродливый старик, загребая горстями мыльную мякоть и размазывая ее по лицу, черпая блеклую пену и раскатывая грязный песок вокруг губ, засасывая его ртом и носом, как пандит2 в потоках Ганга.
– Ты описываешь его как заклятого врага, – заметила Элен. Энтони не нашел ничего лучшего, как рассмеяться.
Последовало молчание, и Элен подняла с пола упавшую фотокарточку своей матери, принявшись внимательно разглядывать ее, будто та представляла собой некую тайнопись, которая, будучи расшифрованной, могла бы стать ключом к разгадке важного секрета.
Энтони какое-то время наблюдал за ней; затем, сделав над собой усилие, загреб ворох фотографий и вынул из него дядюшку Джеймса в теннисном костюме тысяча девятьсот шестого года. Он умер давно – от рака, бедный старик, нашедший утешение в католической религии. Он бросил этот снимок и взял в руки другой, групповой портрет на фоне туманных альпийских гор: отец, мачеха и две сводных сестры. «Гриндельвальд, 1912» – стояла надпись на обороте, сделанная четким почерком мистера Бивиса. Энтони заметил, что у всех четверых в руках были альпенштоки.
– Я бы тоже хотел, – произнес он вслух, кладя на стол фотографию, – я бы хотел, чтобы мои дни отделялись друг от друга периодами противоестественного неверия.
Элен взглянула на него, оторвав глаза от таинственной криптограммы.
– Зачем ты тратишь время, перебирая старые карточки?
– Я делал уборку в шкафу, – объяснил он. – И они вылезли на свет божий. Как мумия Тутанхамона. Я не мог противиться искушению, чтобы не взглянуть на них. Кроме того, сегодня мой день рождения.
– То есть как день рождения?
– Сорок два года. – Энтони покачал головой. – Слишком удручает. И поскольку человеку всегда свойственно драматизировать события… – Он поднял со стола еще одну пачку фотографий и разжал пальцы. – Мертвые воскреснут по гласу трубному. В этом виден перст Судьбы. Все во власти его величества Случая, если хочешь знать.
– Ты, наверное, крепко любил ее? – спросила Элен после очередной паузы, держа перед ним призрачное изображение своей матери.
Он кивнул и, чтобы перевести разговор на другую тему, внезапно заявил:
– Она пробудила во мне интерес к культуре. Я был наполовину дикарем, когда попал к ней в руки. – Ему не хотелось разглашать свои чувства к Мери Эмберли, особенно (хоть это и был, без сомнения, глупейший пережиток варварства), когда дело касалось Элен. – Бремя белой женщины3, – добавил он с усмешкой. Затем, снова взяв в руки фото с альпенштоком, произнес: – Вот откуда она меня вытащила. Темные ущелья Швейцарии. Никогда не перестану благодарить ее.
– Жаль, что она не сумела родить саму себя, – проговорила Элен, когда вдоволь нагляделась на альпенштоки.
– Кстати, как она теперь?
Элен пожала плечами.
– Чувствовала себя лучше, когда вышла из санатория этой весной. Потом, естественно, все началось сызнова. Старая история. Морфий, а в перерывах алкоголь. Я видела ее в Париже по пути домой. Это было невыносимо. – Она содрогнулась.
Насмешливо-ласковая, его рука все еще гладила ее по бедру, что неожиданно показалось совершенно неуместным. Он опустил руку.
– Не знаю, что и хуже, – заметила Элен после паузы. – Грязь, ты даже не представляешь, в каких условиях она живет. Либо хамит, либо не говорит ни слова правды. – Она глубоко вздохнула.
Движением руки, в котором не было ничего насмешливого, Энтони сжал ее запястье.
– Бедняжка Элен!
Отвернувшись, она постояла несколько секунд молча, без движений, затем тряхнула головой, словно отгоняя какое-то наваждение, и Энтони почувствовал, как ее безвольная ладонь внезапно сильно сжала его руку. Она обернулась к нему, ее лицо оживилось, став наигранно веселым.
– Нет, это Энтони-бедняга. – Из ее горла вырвался странный и неожиданный звук от сдавленного смеха. – Фальшивое притворство!
Он пытался уверить ее, что сейчас он и не думал притворяться, но она наклонилась и, словно злобный насильник, прижалась своими губами к его губам.
Глава 2
4 апреля 1934 г.
Из дневника Энтони Бивиса
Жизнь любого человека увенчивают пять слов: video meliora proboque; deteriora sequor[3]. Как и все живые существа, я знаю, что я должен делать, но почему-то продолжаю делать то, что не должен. Сегодня днем, например, я вышел проведать несчастного Беппо, который лежит с осложнением после гриппа. Я знал, что нужно было посидеть с ним и дать ему излить все жалобы на неблагодарность и жестокость со стороны молодых, развеять страх перед приближающейся старостью и одиночеством, жуткую мнительность по поводу того, что окружающие считают его занудой и ne pas à la page[4]. Князья Болинские устраивают вечеринку и не приглашают его, Хэгворм не звал его на воскресный бал с ноября месяца… Я чуял нутром, что должен был с сочувствием ему внимать и давать хорошие советы, умолять его не убивать себя по поводу и без повода. Советы он, разумеется, все равно бы не принял, следуя своему принципу, и все-таки – кто знает? – никогда не следует пренебрегать тем, чтобы давать их. Вместо этого я скрепя сердце купил ему фунт дорогого винограда и тотчас же поспешил скрыться под предлогом того, что нужно было бежать на важную встречу. Истина состояла в том, что я был просто не в состоянии выслушивать, как он снова станет рассказывать о своих несчастьях. Я оправдал свое поведение тратой в пять шиллингов и благочестивыми мыслями – в пятьдесят лет мужчина должен быть достаточно разумным, чтобы бросить любовные интрижки, званые обеды и встречи с нужными людьми. Как его угораздило оказаться таким ослом? Может быть, поэтому (как безупречна логика!) мне не следовало делать того, что, я знал, нужно сделать. Но я поспешил откланяться четверть часа спустя, оставив больного друга в одиночестве, мучимого самоуничижением. Хотелось бы все же зайти к нему завтра по крайней мере часа на два.
«Греховная природа» – можно ли теперь употреблять это выражение? Heт, разумеется. Оно рождает столько негодных побочных ассоциаций: жертва агнца, страшно впасть в руки Бога живаго, геенна огненная, сексуальная озабоченность, хамство, благочестие вместо благотворительности. (Этот старик Беппо, если его вывернуть наизнанку, – Комсток или апостол Павел1). «Греховная природа» означала также ту бесконечную занятость собой, что губит живую душу. Почитайте, если хотите, дневник принца Альберта, ревностного евангелиста, у которого тем не менее хватило смелости основать Дом Любви «под духоводством», как говорят бухманиты2, поскольку его долго угнетало вожделение, и он совокуплялся с кем попало, оно в дальнейшем абсолютно открыто стало повелением Святого Духа, храмом которого он в конце концов провозгласил себя, ставшего «единой плотью с Богом». И он продолжал «соединяться» прилюдно, ни от кого не скрываясь, на диване в гостиной.
Нельзя употреблять эту фразу, как нельзя общаться с помощью клише и мыслить в виде ощущений. Это не значит, конечно же, что постоянных искушений не существует или вообще не следует соваться в эти дела и пытаться что-либо изменить. Я помню, как старик Миллер заметил однажды, когда мы ехали на лошадях к одному из больных индусов в Гималаях: «На самом деле человек по природе – единство, но ты умышленно превратил его в триединство. Один умный и два идиота – вот что у тебя получилось. Блистательный жонглер идеями, управляемый тем, кто по глубине самопознания и чувств чистый недоумок, а двое остальных имеют лишь косвенное отношение к телу, наполовину лишенному разума. К телу, которое никоим образом не осознает, что оно делает и что значат его ощущения, так как лишено черт, присущих индивидуальности, и не знает, где найти себе применение. Два полоумных и один интеллигент. Человек – воплощение демократии там, где правит большинство. Остается только с умом распорядиться этим большинством». Эти записи – лишь первая ступень. Самопознание – вот что всегда предшествует развитию личности. (Сначала чистая наука, и лишь потом прикладная.) У меня одно чувство – безразличие. Меня не могут беспокоить другие люди. Лучше сказать: не будут. Именно поэтому я тщательно избегаю любого случая, когда меня могут побеспокоить. Неотъемлемая составляющая лечения – собрать в памяти все ситуации, которые не дают спокойно жить, и сойти с пути их создания. Безразличие есть форма безделья. Можно работать не покладая рук, что я всегда и делал, и при этом быть совершенным лентяем, уйти с головой в работу и проявлять потрясающую лень во всем, что не имеет к ней отношения. Потому что в конце концов работа – это удовольствие, в то время как то, что лежит вне ее, и есть личная жизнь, которая у меня скучна и утомительна. Все более и более скучна по мере того, как привычка избегать ее становится все сильнее со временем. Безразличие есть форма лености, а леность, в свою очередь, есть отсутствие любви. Человек не бывает ленив по отношению к любимому существу. Вся сложность заключается в том, как любить. (Жаль, что мы опошлили это слово; оно уже черно оттого, что его долго мусолили поколения Стиггинсов.) Для слов тоже существует своя стирка и химчистка. Любовь, чистота, благородство, душа – куча грязного белья, ожидающего прачку. Как можно любить, если само слово «любовь» стало истертым, как носовой платок, как при этом чувствовать стойкий и неувядаемый интерес к людям? Как антропологически подходить к ним, как сказал бы старина Миллер? Не так-то легко ответить.
5 апреля
Работал все утро. Было бы глупо не придать формы всему тому, что сделано. Я имею в виду, конечно, новую форму. Мой первоначальный замысел был сочинить некий труд, основанный на исторических фактах. То была бы картина тщетности познания, объективная и в высшей степени научная, но созданная, как я прекрасно понимаю, только для того, чтобы оправдать мой образ жизни. Если бы люди всегда вели себя как гориллы или олигофрены, если бы они не могли вести себя иначе, то я мог бы со спокойной совестью сидеть в партере и наблюдать за ними через театральный бинокль. Но что, если можно что-то сделать, что, если такое поведение можно изменить… Тогда описание человеческого поведения и поиск путей его изменения может представить какую-то ценность, хотя и не такую значительную, чтобы оправдать уклонение от любых других видов деятельности.
На вечере у Миллера я познакомился со священником, который очень серьезно относится к христианству и приступил к созданию пацифистской организации. Зовут его Перчез. Это рослый мускулистый мужчина средних лет, воспитанный в христианском духе. (Трудно признать, что человек может использовать в своей речи штампы и оставаться при этом интеллигентным!) Но он очень достойный человек. Более чем достойный. Производит сильное впечатление.
Моя цель – использовать и расширить организацию Перчеза. Сейчас это объединение представляет собой маленькую группу, наподобие раннехристианской агапе3 или коммунистической ячейки. (Интересно, что все движения, одержавшие верх, начинались с кружков по восемь человек, как в гребле, или по одиннадцать, как в футболе.) Объединение Перчеза послужит началом для братства всех христиан. Опыт показал, что религиозные узы повышают дееспособность и укрепляют дух сотворчества и самопожертвования. Но братство в терминах христианской религии будет по большей части неуместным. Миллер полагает возможной нетеологическую практику медитации, которую он, конечно, хочет сочетать с тренировками, стихами Ф. М. Александера, использованием возможностей собственной личности, каковое использование начинается с физического самоконтроля, а это, в свою очередь (поскольку тело и дух суть одно), ведет к достижению контроля над импульсами и чувствами. Однако на практике это невозможно осуществить, поскольку нет квалифицированных учителей. «Мы должны удовольствоваться тем, что можем сделать в плане духовном. Физическое потянет нас вниз, это ясно. Плоть слаба в гораздо большей степени, чем мы можем предполагать».
Я согласился вложить в это дело деньги, подготовить нужную литературу и провести в группах беседы. Последнее было самым трудным, поскольку я всегда воздерживался от публичных выступлений. Когда Перчез ушел, я спросил Миллера, не стоит ли мне взять несколько уроков ораторского искусства.
Он ответил: «Если вы начнете брать уроки до того, как будете иметь хорошую координацию движений, вы будете просто усваивать неправильные принципы самоиспользования. Работайте над своим телом, добейтесь координации, ведите себя как следует. Трудности, связанные со сценическим страхом, постановкой голоса, исчезнут сами собой».
Затем Миллер дал мне первый урок «самоиспользования». Учил, как сидеть на стуле, как вставать, облокачиваться и наклоняться вперед. Он предостерег меня от того, что на первый взгляд могло показаться бессмысленным, и убедил в том, что интерес и понимание придут впоследствии с успехом. Сказал, что мне нужно найти решение проблемы video meliora proboque; deteriora sequor: метод, позволяющий переводить благие намерения в благие деяния, чтобы быть полностью уверенным в том, что делаешь то, что должен.
Провел вечер с Беппо. Выслушав длинный перечень несчастий, высказал мнение, что лекарства быть не может, только предупреждение и профилактика. Следует избегать причины. Реакцией была вспышка гнева: он сказал, что я пытался лишить смысла его жизнь и подстрекал к самоубийству. В ответ я намекнул, что смысл можно и изменить. Он же заявил, что скорее умрет, чем изменит своему смыслу; потом в его настроении случился перепад, и он взмолился Богу о том, чтобы быть в состоянии отказаться от своих ценностей. Но ради чего? Я предложил ему стать пацифистом, но он уже им был, причем всю жизнь. Конечно же, я знал об этом, но его пацифизм был бездейственным, со знаком минус. Выступления против войны, сказал я, бывают искренними и показными. Он выслушал, ответив, что подумает. Возможно, это будет неплохой выход, сказал он на прощание.