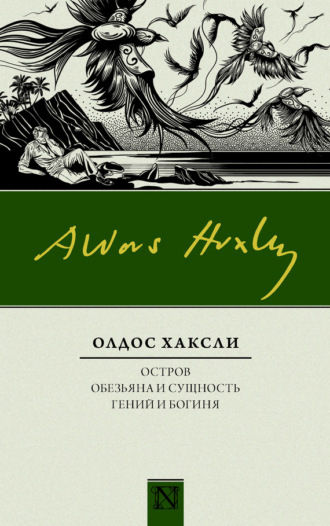
Олдос Леонард Хаксли
Остров. Обезьяна и сущность. Гений и богиня (сборник)
Печатается с разрешения Aldous and Laura Huxley Literary Trust and The Estate of Matthew Huxley, Deceased c/o Georges Borchardt, Inc.
© Aldous Huxley,1948, 1955, 1962
© Перевод. И. Моничев, 2015
© Перевод. И. Русецкий, наследники, 2016
© Перевод. В. Бабков, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Остров
Посвящается Лоре
Формируя свой идеал, мы можем стремиться к желаемому, но должны избегать попыток достичь невозможного.
Аристотель
Глава первая
– Внимание, – начал взывать голос, и прозвучало это так, словно неожиданно кто-то заиграл на гобое. – Внимание, – повторился тот же высокий монотонный носовой звук. – Внимание.
Лежа как труп среди опавших листьев со спутанными волосами, с лицом, покрытым уродливыми ссадинами и синяками, в грязной и порванной одежде, Уилл Фарнаби вздрогнул и очнулся. Молли звала его. Пора вставать. Пора одеваться. На работу нельзя опаздывать.
– Спасибо, дорогая, – сказал он и сел. Острая боль пронзила правое колено, а потом другого рода болезненные ощущения возникли в спине, в руках, во лбу.
– Внимание, – настойчиво твердил голос без малейшего изменения интонации.
Приподнявшись на локте, Уилл осмотрелся по сторонам и с изумлением увидел не серые обои и желтые шторы своей лондонской спальни, а поляну среди деревьев, их удлиненные тени и косые лучи встающего над лесом солнца.
– Внимание.
Почему она говорила все время: «Внимание»?
– Внимание, внимание, – талдычил голос упрямо. Так странно, настолько бессмысленно.
– Молли? – окликнул он. – Молли?
Имя словно приоткрыло окошко в его памяти. Внезапно вместе со знакомой тяжестью чувства вины внизу живота он почуял запах формальдегида, увидел маленькую, но быстроногую медсестру, спешившую впереди него вдоль коридора, услышал крахмальный шелест ее халата. «Номер сорок пять», – сказала она, а потом остановилась и открыла белую дверь. Он вошел, и там на высокой белой кровати лежала Молли. Половину ее лица скрывали бинты, и пещерой на их фоне зиял рот. «Молли, – назвал он ее имя, – Молли. – Его голос сорвался на плач и мольбу. – Моя милая!» Ответа не последовало. Через дыру рта доносилось только частое неглубокое дыхание, шумное, снова и снова. «Моя милая, моя милая…» А потом рука, за которую он держался, вдруг на мгновение ожила. Затем еще раз.
«Это я, – сказал он. – Это Уилл».
Пальцы опять шевельнулись. Медленно, с очевидным огромным усилием они сомкнулись вокруг его пальцев, сжали их на секунду, а потом снова безжизненно замерли.
– Внимание, – произнес нечеловеческий голос, – внимание.
Это был несчастный случай, поспешил заверить он сам себя. Дорога мокрая, автомобиль вынесло через осевую на встречную полосу. Такое происходит все время. Газеты пестрят сообщениями об этом; он сам писал подобные репортажи десятки раз. «Мать и трое детей погибли при лобовом столкновении…» Но ведь дело было совсем не в этом. Критической точкой стал момент, когда она спросила, действительно ли все кончено, а он ответил «да»; суть состояла в том, что менее чем через час после того, как она вышла под дождь после того постыдного последнего разговора, Молли уже везли на «Скорой помощи» умирать.
Он не посмотрел на нее, когда она повернулась, чтобы уйти, не осмелился даже посмотреть на нее. Еще один взгляд на бледное страдальческое лицо – это было бы уже чересчур для него. Она встала со стула и медленно пошла через комнату, медленно пошла прочь из его жизни. Разве не должен он был окликнуть ее, попросить у нее прощения, сказать, что все еще любит ее? А любил ли он ее когда-нибудь?
В самом деле, любил ли он ее когда-нибудь?
«До свидания, Уилл», – вспомнился ее шепот уже от порога. И потом она произнесла все тем же шепотом фразу, слова, шедшие из глубины души: «Я все еще люблю тебя, Уилл. Несмотря ни на что».
Мгновение спустя дверь квартиры почти беззвучно закрылась за ней. Легкий сухой щелчок язычка замка, и она ушла.
Он вскочил на ноги, бросился к двери и распахнул ее, вслушиваясь в затихающие шаги по лестнице. Как привидение исчезает с пением первых петухов, в воздухе еще чуть витал, но постепенно полностью растворялся знакомый запах ее духов. Он снова закрыл дверь, вернулся в серо-желтую спальню и выглянул в окно. Прошло несколько секунд, а потом он увидел, как она пересекала улицу и садилась в свою машину. Донесся пронзительный скрежет стартера, раз, другой, а потом шум мотора. Открыть ли ему окно? «Подожди, Молли, постой!» – услышал он свой воображаемый крик. Но окно осталось закрытым; машина тронулась с места, повернула за угол, и улица опустела. Слишком поздно. «Слава богу, слишком поздно!» – произнес грубый, полный сарказма голос. Да, слава богу! Но чувство вины все равно ощущалось там, внизу живота. Вина, угрызения совести – но сквозь все угрызения прорывалось и ощущение ужасающей радости. Кто-то низкий, подлый и жестокий, кто-то чужой и отвратительный, но на самом деле, конечно же, он сам с удовлетворением думал, что теперь ничто не помешает ему осуществить свои желания. А вожделел он к другим духам, к теплу и упругости более молодого тела.
– Внимание, – пропел гобой.
Да, внимание. Внимание к пропахшей мускусом спальне Бабз[1] с клубнично-розовым альковом и двумя окнами, выходившими на Чаринг-Кросс-роуд, в которые всю ночь заглядывала огромная, высотой до неба, мигающая реклама джина «Портерз», установленная на крыше дома через дорогу. Джин сиял сначала королевским алым цветом, и на десять секунд альков становился подобием самого Сердца Христова, на десять волшебных секунд лицо, такое близкое к нему, загоралось неземным огнем, претерпевая магическое превращение, словно под воздействием пылавшего внутри пламени любви. Но скоро должен был наступить черед более глубокой трансформации в темных тонах. Одна, две, три, четыре… Господи, пусть это длится вечно! Но нет, пунктуально отсчитав десять секунд, электрический таймер совершал переход к другому откровению. Приобщал к таинству смерти, к Сущности Страха. Потому что цвет менялся на зеленый, и на десять жутких секунд розовый альков Бабз превращался в грязное чрево, а сама Бабз, лежавшая на кровати, приобретала вид трупа, дергавшегося от посмертной гальванизации как в эпилепсии. Когда джин «Портерз» выступал в своей зеленой ипостаси, становилось трудно забыть, что случилось и кто ты такой на самом деле. Оставалось только зажмурить глаза и окунуться, если получалось, еще глубже в мир иной чувственности, окунуться с намеренной силой в то неистовство плоти, которое было столь чуждо Молли. Да, совершенно чуждо той самой Молли («Внимание») с лицом в бинтах, а потом Молли в сырой могиле Хайгейтского кладбища. А именно воспоминание о кладбище заставляло плотнее закрывать глаза каждый раз, когда зеленый цвет обращал обнаженное тело Бабз в подобие трупа. Но вспоминалась не только Молли. За закрытыми глазами Уилл видел свою матушку с лицом бледным, как камея, но одухотворенным принятыми страданиями, и одновременно с руками, которые артрит изуродовал до чудовищно неприглядного вида. Он видел свою матушку, инвалидную коляску позади нее и стоявшую рядом уже невыносимо разжиревшую и подрагивавшую, как желе студня из телячьей ножки, собственную родную сестру Мод. Подрагивавшую от неспособности найти иной способ выражения и восприятия своих чувств.
«Как же ты можешь, Уилл?»
«Да, как же ты можешь?» – эхом повторяла Мод, и слезы звучали в ее вибрирующем контральто.
Ответа не существовало. То есть не было ответа в таких словах, которые могли бы правильно понять эти две мученицы: мать, познавшая несчастливое замужество, и ее дочь – поистине жалкое зрелище. Ответить он мог только до неприличия безжалостно, почти научно объективно, с откровенностью, совершенно недопустимой при подобных обстоятельствах. Как он мог так поступить? У него было множество чисто практических причин и целей, которые толкнули его на это, потому что… Потому что, будем честны, Бабз обладала некоторыми физиологическими особенностями, которых не было у Молли, и вела себя в определенные моменты так, что Молли это показалось бы немыслимым.
Молчание затянулось, но потом странный голос взялся за свой прежний рефрен:
– Внимание. Внимание.
Внимание Молли, внимание Мод и матери, внимание Бабз. А потом другое воспоминание выплыло из тумана помутнения разума и полного непонимания происходившего. В клубнично-розовом алькове Бабз появился другой гость, чье тело содрогалось в экстазе от ласк. И к тяжести от чувства вины внизу живота добавились резь в сердце и перехваченное кольцом тоски горло.
– Внимание.
Голос приблизился и доносился теперь откуда-то справа. Он повернул голову и попытался еще приподняться для лучшего обзора, но рука, на которую лег вес его тела, начала дрожать, а потом подломилась, и он снова повалился в листву. Слишком утомленный даже для воспоминаний, он долго лежал, глядя вверх сквозь наполовину сомкнутые веки на непостижимый мир вокруг себя. Куда он попал и как, черт побери, здесь очутился? Не то чтобы это имело такое уж большое значение. В этот момент ничто не имело значения, кроме острой боли и совершеннейшей слабости. Но все же из чисто научного интереса…
Например, вот это дерево, под которым непонятно как он распластался. Высокая колонна с серой, местами неровной корой, с подсвеченными солнцем ветвями по всем известным ему законам ботаники должна была называться буком. Но в таком случае – у него даже появилась причина гордиться логикой своих рассуждений – листья дерева не имели никакого права казаться вечнозелеными. И почему корни бука торчали из земли, изломанные и острые, как локти? А эти совершенно неуместные деревянные подпорки, помогавшие псевдобуку сохранять вертикальное положение, – они-то здесь зачем и как вписывались в общую картину? Уилл внезапно вспомнил свою любимую худшую стихотворную строку: «Ты спрашивал, что поддержало разум мой в года лишений?»
Ответ: сгусток эктоплазмы. Из раннего Дали. Нет, это определенно не Чилтерны[2]. Что подтверждали и бабочки, кружившие под жаркими, словно маслянистыми лучами солнца. Почему они были такими огромными, до такой степени неправдоподобно лазоревыми или бархатисто-черными, со столь необычными глазками и пятнами на крыльях? Пурпурные на каштановом фоне, присыпанные серебряной пудрой, и изумруды, и топазы, и сапфиры.
– Внимание.
– Кто здесь? – спросил Уилл Фарнаби, собираясь сделать это громким и солидным тоном, но из его рта вырвалось лишь подобие тонкого и дрожащего кваканья.
Снова воцарилась долгая и, как казалось, чем-то ему грозившая тишина. Между двумя деревянными подпорками древесного ствола ненадолго показалась невероятно крупная черная сороконожка, но не задержалась, а использовала весь полковой набор своих малиновых ног, чтобы поспешить скрыться в другой расщелине среди поросшей лишайником эктоплазмы.
– Кто здесь? – проквакал он еще раз.
Слева послышался хруст веток, и внезапно, как кукушка из часов в детской, показалась большая черная птица размером примерно с галку, но только это, разумеется, была не галка. Она несколько раз взмахнула крыльями с белым по краям оперением и, стремительно перелетев поперек поляны, уселась на самую нижнюю ветку небольшого, совершенно высохшего дерева, торчавшего из земли не более чем в двадцати футах от того места, где лежал Уилл. Клюв у птицы, как он заметил, был оранжевый, а под каждым глазом виднелся желтоватый мешочек голой кожи с канареечного цвета «сережками», свисавшими по обеим сторонам и в задней части совершенно плешивой головы. Птица склонила голову набок и посмотрела на него сначала правым, а затем левым глазом. После чего открыла клюв и негромко высвистала десять или двенадцать нот пятиступенчатой октавы, издала звук, похожий на человеческую икоту, а потом нараспев (до, до, соль, до) произнесла фразу:
– Здесь и сейчас, парни; здесь и сейчас, парни.
И слова словно спустили курок в памяти. Он мгновенно вспомнил все. Это была Пала. Запретный остров, где не удалось побывать еще ни одному журналисту. А сегодня наступило утро после того дня, когда он по глупости отправился в одиночное плавание на яхте из гавани Ренданг-Лобо. Ему припомнилась каждая деталь: белый парус, наполненный ветром и выгнувшийся огромным лепестком цветка магнолии, журчание воды, разрезаемой носом лодки, бриллиантовые вспышки солнца на гребнях волн и нефритовые впадины между ними. А на востоке по ту сторону пролива какие виднелись облака, какие шедевры белоснежной скульптуры поверх вулканов Палы! И, сидя за румпелем яхты, он вдруг понял, что поет, поймал себя на считавшемся уже невозможным ощущении, в котором безошибочно угадывалось полнейшее счастье.
«Втроем мы с парнями сильнее врагов, – начал он ритмично декламировать, пусть его слова сразу уносил вдаль бриз. – И двое в зеленом всегда всех смелее. Мы, белые парни, всегда всех сильнее. Один же – как перст одинок…»
Да, он остался один. Совершенно один посреди огромного изумруда моря.
«И был одинок во веки веков…»
Надо ли говорить, что вскоре после этого случилось все, о чем его предупреждали опытные яхтсмены, когда отговаривали отплывать? Неожиданно невесть откуда налетевший шквал, огромные валы волн, черное небо и ливень…
– Здесь и сейчас, парни, – скандировала птица. – Здесь и сейчас, парни.
А действительно невероятным, пришла ему мысль, казалось теперь то, что он все-таки очутился здесь, под кронами деревьев, а не на дне пролива Пала, или, того хуже, валявшимся с черепом, раскроенным от ударов о прибрежные скалы. Потому что даже после того, как ему чудом удалось направить полузатопленную яхту поверх барьерного рифа к единственной полоске песчаного пляжа среди растянувшегося на много миль скалистого берега острова, это еще не означало спасения. Скалы отвесно возвышались над ним, но у самого входа в ту крошечную бухту виднелась узкая расщелина, по которой стекал вниз поток воды, образуя каскад миниатюрных водопадов, росли деревья и кусты между серым камнем по обеим сторонам. Предстоял подъем в теннисных туфлях по скале в шестьсот или семьсот футов высотой, где каждый уступ был мокрым и скользким. А затем – Господи Иисусе! – эти змеи. Сначала черная обвилась вокруг ветки, за которую он ухватился, чтобы подтянуться. А пять минут спустя огромная зеленая свернулась кольцами на площадке, и он увидел ее в тот момент, когда собирался уже встать туда. Один страх сменился другим, гораздо более сильным. При виде змеи он всем телом дернулся, резко убрал ногу, и это порывистое, совершенно не рассчитанное движение лишило его равновесия. В течение бесконечно тянувшейся тошнотворной секунды, уже зная, что конец неминуем, он балансировал на краю камня, а потом упал. Смерть, смерть, смерть. Однако почти сразу в ушах раздался оглушительный треск, и он обнаружил, что вцепился в ветки росшего внизу небольшого деревца, расцарапав лицо, повредив колено, которое обильно кровоточило, но оставшись в живых. Превозмогая боль, он возобновил подъем. Колено доставляло неизъяснимые мучения, но он продолжал карабкаться вверх. Выбора у него не оставалось. А потом и свет вокруг померк. Остаток подъема ему пришлось проделать почти в полной темноте, взбираясь наугад, движимым чистейшим отчаянием.
– Здесь и сейчас, парни! – выкрикнула птица.
Но Уилла Фарнаби не было ни здесь, ни сейчас. Он был там, на вершине скалы, он все еще переживал ужасающие секунды падения. Сухая листва шуршала под ним; он дрожал. Крупно и неудержимо его трясло всего – от головы до пяток.
Глава вторая
Внезапно птица перестала издавать членораздельные звуки и принялась просто кричать. Тонкий и пронзительный человеческий голос произнес:
– Майна! – а потом добавил что-то на языке, которого Уилл не понимал.
Послышались шаги по сухим листьям. Потом легкий испуганный возглас. И наступила тишина. Уилл открыл глаза и увидел, что на него смотрят два изящнейших детских существа с широко открытыми от удивления и страха глазами. Меньшим из них был крохотный мальчик лет пяти или шести, на котором из одежды оказалась одна лишь зеленая набедренная повязка. Рядом с ним, держа на голове корзину с фруктами, стояла девочка, тоже еще совсем маленькая, но лет на пять постарше. На ней была самая настоящая алая юбка длиной почти до лодыжек, но выше пояса она не носила ничего. Под солнечными лучами ее кожа излучала сияние оттенка меди с розовой примесью. Уилл переводил взгляд с одного ребенка на другого. До чего же они были красивы, до чего безупречно сложены, как невероятно элегантны! Словно два маленьких отборных выставочных образца. Лучший образчик округлой и коренастой породы с лицом херувима – таким был мальчик. А девочка являла собой другой тип совершенства – с ясно очерченным, несколько удлиненной формы серьезным лицом, обрамленным прядями темных волос.
Раздались новые резавшие ухо крики. На своем насесте в виде ветки высохшего дерева птица нервно крутила головкой то туда, то сюда, а потом с последним скрипучим визгом взмыла в воздух. Не отрывая взгляда от лица Уилла, девочка приглашающе вытянула вперед руку. После некоторого колебания птица села на руку, еще раз бурно взмахнула крыльями, а потом, найдя устойчивое положение, сложила их и немедленно начала икать. Уилл наблюдал за этой сценой без тени удивления. Сейчас стало возможно все – абсолютно что угодно. Даже говорящая птица, спокойно садившаяся на руку ребенка. Уилл попытался им улыбнуться, но губы его так дрожали, что проявление дружелюбия получилось, наверное, страшноватой гримасой. Мальчонка тут же спрятался за спину сестры.
Птица прекратила икать и начала повторять слово, которое Уилл не понимал. «Руна? Или что-то подобное. Нет, Каруна. Определенно Каруна».
Он поднял дрожавшую руку и указал на фрукты в круглой корзине. Манго, бананы… В пересохшем рту даже выделилась слюна.
– Голодный, – сказал он.
А потом подумал, что в сложившихся обстоятельствах этот ребенок лучше поймет его, если он использует импровизированную имитацию из мюзикла «Человек из Китая», и произнес:
– Моя есть осена голодный.
– Вы хотите есть? – спросила девочка на чистейшем английском языке.
– Да, есть, – повторил он. – Хочу есть.
– Лети, майна![3]
Она взмахнула рукой. С протестующим вскриком птица вернулась на ветку сухого дерева. Подняв вверх свою нежную и тонкую ручонку в почти балетном жесте, девочка сняла корзину с головы и поставила на землю. Она выбрала один из бананов, очистила его от кожуры, а потом, терзаемая одновременно боязнью и сочувствием, приблизилась к незнакомцу. На своем непонятном языке мальчик издал явно предостерегающий возглас и вцепился ей в юбку. С какими-то ободряющими словами девочка все же остановилась на почтительном расстоянии, где находилась вне опасности, и протянула фрукт.
– Ты хочешь его? – спросила она.
Все еще весь дрожа, Уилл протянул руку ей навстречу. Очень осторожно она снова чуть переместилась ближе, а потом опять остановилась, присела на корточки, не сводя с него пристального взгляда.
– Быстрее, – сказал он, терзаемый нетерпением.
Но маленькая девочка не торопилась рисковать. Следя за его рукой, чтобы вовремя заметить малейшее подозрительное движение, она наклонилась вперед и робко вытянула свою руку.
– О, ради бога! – почти взмолился он.
– Бога? – вдруг переспросила девочка с внезапным интересом. – Какого именно Бога? Их ведь так много.
– Любого треклятого бога, которого ты предпочитаешь остальным, – ответил он с тем же нетерпением в голосе.
– На самом деле мне не нравится ни один из них, – сказала она. – Разве что Бог Сострадания.
– Так прояви сострадание ко мне, – попросил он. – Дай мне банан.
Выражение ее лица изменилось.
– Простите меня… – Ее тон действительно стал извиняющимся.
Поднявшись во весь рост, она сделала быстрый шаг в его сторону и почти бросила банан в трясущуюся руку.
– Вот, – произнесла она и, как маленький зверек, избежавший капкана, отпрыгнула назад на безопасное расстояние.
Мальчонка захлопал в ладошки и громко рассмеялся. Она повернулась и что-то сказала ему на их непонятном языке. Он кивнул и сказал:
– Слушаюсь, босс!
А потом поспешил удалиться сквозь густо летавших в воздухе синих и зеленовато-желтых бабочек, скрывшись в лесу по другую сторону поляны.
– Я велела Тому Кришне пойти и привести сюда кого-нибудь, – объяснила девочка.
Уилл расправился с бананом и попросил еще, а потом и третий тоже. Когда чувство голода немного унялось, он почувствовал необходимость удовлетворить любопытство.
– Откуда ты так хорошо знаешь английский? – спросил он.
– Потому что все говорят на английском, – ответил ребенок.
– Все?
– Я имела в виду, когда не говорят на паланском. – Тема явно мало интересовала ее, и потому она повернулась, взмахнула маленькой смуглой ручкой и свистнула.
– Здесь и сейчас, парни, – снова повторила птица, а потом вспорхнула с сухого сучка и перелетела ей на плечо.
Ребенок очистил еще один банан. Две трети достались Уиллу, а остаток – майне.
– Это твоя птица? – спросил Уилл.
Она помотала головой.
– Майны как электричество, – сказала она. – Они не принадлежат никому.
– Почему она говорит все эти слова?
– Потому что кто-то ее научил, – терпеливо растолковала она; какой же ты тупица, подразумевалось в ее тоне.
– Но почему ее научили говорить именно это? Почему «Внимание»? Почему «Здесь и сейчас»?
– Понимаете… – Она искала верные слова, чтобы объяснить самоочевидные вещи этому странному недоумку. – Это ведь то, о чем ты все время забываешь, верно? То есть не обращаешь внимания на то, что происходит. А получается то же самое, как если бы тебя не было здесь и сейчас.
– И майны летают вокруг, напоминая вам об этом, так, что ли?
Она кивнула. Наконец-то дошло. Наступило молчание.
– Как вас зовут? – спросила она.
Уилл представился.
– А меня зовут Мэри Сароджини Макфэйл.
– Макфэйл? – Это казалось совершенно невероятным.
– Макфэйл, – специально для него повторила она.
– А твоего маленького братишку зовут Том Кришна? – Она кивнула. – Ну ни черта себе!
– Вы прилетели на Палу самолетом?
– Нет, добрался морем.
– Морем? Значит, у вас есть лодка?
– Была.
Уиллу припомнились тяжелые волны, перекатывавшиеся через заваленную набок палубу, звук при ударе носом яхты о землю. Она расспрашивала, и пришлось рассказать, как все произошло. О шторме, о том, как лодку выбросило на берег, о долгом кошмаре подъема по скале, о змеях, об ужасном падении… И он начал снова дрожать. Еще более крупно и неудержимо, чем прежде.
Мэри Сароджини слушала внимательно и не перебивая. Когда же его голос начал срываться и окончательно изменил ему, она сделала шаг вперед и, по-прежнему держа птицу на плече, встала рядом с ним на колени.
– Послушайте, Уилл, – сказала она, положив ладонь ему на лоб. – Нам надо от этого избавиться. – Она говорила с видом знатока, почти профессионала, привыкшего, чтобы к нему прислушивались.
– Знать бы, как это сделать, – отозвался он, стуча зубами.
– Как? – переспросила она. – Самым обычным способом, конечно. Расскажите мне еще раз о тех змеях и своем падении.
Он помотал головой:
– Не хочу.
– Разумеется, не хотите, – сказала он. – Но вам необходимо это сделать. Прислушайтесь к словам майны.
– Здесь и сейчас, парни, – послушно выдала птица. – Здесь и сейчас, парни.
– А вы не можете оказаться здесь и сейчас, – продолжала девочка, – пока не отделаетесь от тех змей. Расскажите мне о них.
– Но я не хочу, не хочу!.. – Он почти плакал.
– Тогда вам никогда от них не избавиться. Они будут вечно ползать внутри вашей головы. Впрочем, так вам и надо, – добавила Мэри Сароджини сурово.
Он попытался унять тремор, но его тело как будто уже не принадлежало ему. Им распоряжался кто-то другой, некто, решивший глубоко его унизить и заставить страдать.
– Вспомните, как вы были маленьким мальчиком, – говорила между тем Мэри Сароджини. – Что делала ваша мама, когда у вас что-то болело?
Мать обнимала его и причитала: «Мой бедный малыш, мой бедный сыночек…»
– Она делала с вами такое? – В голосе ребенка прозвучало неподдельное изумление. – Но ведь это ужасно! Так можно только усилить боль. «Мой бедный малыш», – повторила она презрительно. – Наверняка у вас боль продолжалась потом часами. И вы уже никогда не забывали о ней.
Уилл Фарнаби ничего не сказал, а лежал молча, содрогаясь в не подконтрольных ему судорогах.
– Что ж, если не желаете сделать это сами, мне придется сделать все за вас. Слушайте меня, Уилл: была змея, огромная змея, и вы чуть не наступили на нее. Вы почти наступили на нее и так испугались, что потеряли равновесие и упали. А теперь скажите то же самое сами. Ну же!
– Я чуть не наступил на нее, – послушно прошептал он, – а потом я…
Слова не шли с языка.
– А потом я упал, – выдавил он из себя почти беззвучно.
Весь ужас того момента вернулся к нему – тошнотворный страх, паническое конвульсивное движение, из-за которого он потерял равновесие, а потом еще более ужасающий страх и уверенность, что пришел конец.
– Скажите это еще раз.
– Я чуть не наступил на нее. А затем…
И он услышал словно со стороны, что хнычет.
– Так и надо, Уилл. Плачьте, плачьте!
Хныканье перешло в стоны. Устыдившись, он стиснул зубы, и стоны прекратились.
– Нет, не делайте этого! – крикнула она. – Дайте всему вырваться наружу, если оно этого хочет. Вспомните ту змею, Уилл. Вспомните свое падение.
Стоны послышались опять, и его затрясло так сильно, как никогда прежде.
– А теперь расскажите мне обо всем, что случилось.
– Я видел ее глаза. Видел язык… то высунутый наружу, то спрятанный.
– Да, вы видели ее язык. Что произошло потом?
– Я потерял устойчивость и упал.
– Повторите это еще раз, Уилл. – Он уже всхлипывал, не стесняясь. – Повторите, – настаивала она.
– Я упал.
– Еще раз.
У него душа разрывалась на части, но он повторил:
– Я упал.
– И еще раз, Уилл! – Она не знала жалости. – Еще раз.
– Я упал, упал, упал…
Постепенно рыдания затихли. Слова выговаривались легче, а воспоминания, которые они вызывали, не причиняли прежних мучений.
– Я упал, – повторил он, должно быть, в сотый раз.
– Но ведь вы падали недолго, – продолжила за него рассказ Мэри Сароджини.
– Нет, я падал совсем недолго, – согласился он.
– Тогда из-за чего столько переживаний? – спросил его ребенок.
Причем в ее голосе не слышалось ни злорадства, ни насмешки, ни намека на то, что хоть в чем-то была его вина. Она задавала простые и прямые вопросы, на которые требовалось отвечать столь же просто и прямо. В самом деле, из-за чего столько переживаний? Змеи не покусали его, и он не свернул себе шею. И вообще, все это случилось уже вчера. А сегодня его окружали бабочки, невиданная птица, требовавшая внимания, еще более странный ребенок, который разговаривал с ним, как умудренный опытом дядя из Голландии, хотя выглядел при этом подобием ангела из какой-то неизвестной ему мифологии и всего в пяти градусах широты от экватора – хотите – верьте, хотите – нет – носил фамилию Макфэйл. Уилл Фарнаби громко расхохотался.
Маленькая девочка захлопала в ладоши и тоже засмеялась. А всего мгновение спустя и птица, сидевшая у нее на плече, стала издавать раскат за раскатом демонического смеха, который заполнил поляну, эхом отдаваясь среди деревьев, и складывалось впечатление, что вся вселенная сотрясается, буквально сгибается от хохота над невероятно огромной шуткой своей сущности.







