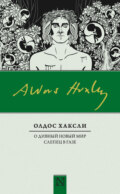Олдос Леонард Хаксли
Двери восприятия. Рай и ад
И все же у меня оставались кое-какие сомнения. Потому что, коль скоро всегда видишь вот так, никогда не захочешь делать ничего другого. Просто смотреть, просто быть божественным Не-Я цветка, книги, стула, фланели. Этого будет достаточно. Но как в таком случае насчет других людей? Как насчет человеческих отношений? В записи разговоров того утра я нахожу постоянно повторяемый вопрос: «Как насчет человеческих отношений?» Как можно примирить это лишенное времени блаженство видения «как должно» с временными обязанностями делания того, что должен делать, и чувствования того, что должен чувствовать?
– Следует уметь видеть эти брюки, – говорил я, – как бесконечно важные, а человеческие существа – как еще более бесконечно важные.
«Следует» – на практике же это казалось невозможным. Такое участие в явленной славе вещей, так сказать, не оставляло места для обычных необходимых задач человеческого существования, а превыше всего – для задач личности. Ибо личность – это «Я», а я по крайней мере в одном отношении был теперь Не-Я, одновременно воспринимая и являясь Не-Я вещей вокруг меня. Для этого вновьрожденного Не-Я поведение, внешний вид, сама мысль о «Я», которым оно в одно мгновение перестало быть, и о других «Я», некогда своих приятелях, казались не то чтобы в самом деле противными (ибо как раз о противности я вовсе не помышлял), но в огромной мере безразличными. Понуждаемый исследователем анализировать и сообщать все, что я делал (а как я хотел быть оставленным наедине с Вечностью в цветке, с Бесконечностью в четырех ножках стула и с Абсолютом в складках пары фланелевых штанов!), я осознал, что намеренно избегаю глаз тех, кто был со мною в комнате, намеренно воздерживаюсь слишком сильно ощущать их присутствие. Одним из этих людей была моя жена, другим – человек, которого я уважал и который мне очень нравился; но оба принадлежали к миру, от которого в тот момент мескалин освободил меня, – к миру «Я», ко времени моральных суждений и утилитарных соображений, к миру (и именно этот аспект человеческой жизни я превыше всего прочего желал бы забыть) самоутверждения, самоуверенности, чрезмерно ценимых слов и идолопоклоннически обожествляемых представлений.
На этой стадии развития событий мне дали большую цветную репродукцию хорошо известного автопортрета Сезанна – плечи и голова человека в большой соломенной шляпе, краснощекого, красногубого, с густыми черными бакенбардами и темным неприветливым взглядом. Это великолепная картина; но не как картину я ее видел теперь. Ибо голова быстро приобрела третье измерение и ожила – маленький человечек, похожий на гоблина, выглядывал из окна в странице передо мной. Я засмеялся. А когда меня спросили почему, я всё повторял:
– Какие претензии! Да кто он вообще такой? – Вопрос был адресован не конкретно Сезанну, но всем людям вообще. Кто, они считают, они такие?
– Это как Арнолд Беннетт[21] в Доломитах, – сказал я, внезапно вспомнив сцену, к счастью, увековеченную в моментальном снимке, где А.Б. примерно за четыре или пять лет до своей кончины гулял по зимней дороге в Кортина-д’Ампеццо. Вокруг него лежали нетронутые снега; на заднем плане – более чем готические уступы красных скал. А тут – милый, добрый, несчастный А.Б., сознательно переигрывающий в роли своего любимого литературного персонажа – самого себя, «лично Карточки». Он медленно прогуливался в этом ярком альпийском солнечном свете, заложив большие пальцы в проймы желтого жилета, который немного ниже выпирал изящным изгибом брайтонского эркера времен Регентства, – голова откинута назад, словно гаубица каким-то застрявшим афоризмом целится в голубой купол небес. Что он произнес тогда на самом деле, я забыл; но то, что явно кричала вся его манера, вид и осанка, было: «Я ничем не хуже этих чертовых гор». И в некоторых отношениях, конечно, он был бесконечно лучше; но не так – и он об этом очень хорошо знал, – как хотел бы представлять себе его любимый литературный персонаж.
Успешно (что бы это ни значило) или безуспешно, но мы все переигрываем в роли своих любимых литературных персонажей. И факт, почти бесконечно невероятный факт, что кто-то – в действительности и есть Сезанн, не составляет никакой разницы. Ибо превосходный художник со своей маленькой трубкой, подсоединенной ко Всему Разуму и обходящей клапан мозга и фильтр эго стороной, точно в такой же степени – и столь же подлинно – был этим гоблином с бакенбардами и неприветливым взглядом.
Ради облегчения я снова обратился к складкам брюк.
– Вот как следует видеть, – еще раз повторил я. И мог бы добавить: «Вот те вещи, на которые следует смотреть». Вещи без претензий, удовлетворенные тем, что они – они сами и есть, достаточные в своей таковости, не играющие роль, не пытающиеся – безумно – быть в одиночку, в изоляции от Вселенской Формы, в люциферовом презрении к милости Божьей.
– Ближайшим подступом к этому, – сказал я, – был бы Вермеер.
Да, Вермеер. Поскольку этот таинственный художник был одарен втройне – видением, постигавшим Вселенскую Форму как изгородь в дальнем конце сада, талантом передачи такой части видения, которую позволяли только ограниченность человеческих возможностей и благоразумие сдерживать себя в своих картинах более управляемыми аспектами реальности; ибо, хотя Вермеер и был представителем рода человеческого, писал он всегда натюрморты. Сезанн, говоривший своим моделям, чтобы они старались походить на яблоки, пытался писать портреты в том же духе. Но его женщины, похожие на яблочки-пепинки, более сродни Идеям Платона, нежели Вселенской Форме в изгороди. Они – Вечность и Бесконечность, видимые не в песке или в цветке, но в абстракциях какого-то более высокого уровня геометрии; Вермеер никогда не просил своих девушек походить на яблоки. Отнюдь, он настаивал, чтобы они оставались девушками до самого предела, – но всегда с оговоркой, что не будут по-девчачьи себя вести. Они могли сидеть или спокойно стоять, но никак не хихикать, никак не смущаться, не читать молитв, не томиться по возлюбленным, не сплетничать, не смотреть завистливо на детишек других женщин, не флиртовать, не любить, не ненавидеть и не работать. При совершении любого из этих действий они, без сомнения, интенсивнее стали бы самими собой, но по той же причине перестали бы проявлять свои божественные сущностные Не-Я. По выражению Блейка, двери восприятия Вермеера только отчасти были чисты. Одна панель стала почти совершенно прозрачной; остальная же дверь все еще была грязна. Сущностное Не-Я могло очень ясно восприниматься в вещах и живых существах по эту сторону добра и зла. В человеческих существах оно было видимо лишь когда те находились в покое – их умы не потревожены, их тела неподвижны. В этих обстоятельствах Вермеер мог видеть Таковость во всей ее небесной красоте – мог видеть и в какой-то малой мере мог передать ее в тонком и пышном натюрморте. Вермеер, бесспорно, – величайший художник человеческих натюрмортов. Но были и другие – например, французские современники Вермеера, братья Ленэ. Они, я полагаю, собирались быть жанровыми живописцами; в действительности же они производили серию человеческих натюрмортов, где их очищенное восприятие бесконечной значимости всех вещей передано не как у Вермеера – тонким обогащением цвета и текстуры, а усиленной ясностью, граничащей с наваждением отчетливостью формы внутри суровой, почти монохроматической тональности. Уже в наше время у нас был Вуйяр[22] – художник, в своем лучшем качестве создавший незабываемо великолепные картины Вселенской Формы, явленной в буржуазной спальне, Абсолюта, сияющего посреди семьи какого-нибудь биржевого маклера в пригородном саду за чаем.
Ce qui fait que l’ancien bandagiste renie Le comptour don’t le faste allechait les passant, C’est son jardin d’Auteuil, où, veufs de tout encens, Les Zinnias ont l’air d’être en tôle vernie[23].
Для Лорана Тайада зрелище было просто непристойным. Но если бы ушедший на пенсию торговец резиновыми товарами сидел достаточно спокойно, Вуйяр увидел бы в нем только Вселенскую Форму и в цинниях, в пруду с золотыми рыбками, в мавританской башне и китайских фонариках виллы написал бы уголок Рая перед Грехопадением.
Мой же вопрос тем временем оставался без ответа. Как примирить это очищенное восприятие с должной заботой о человеческих отношениях, с необходимыми задачами и обязанностями, не говоря уже о благотворительности и практическом сострадании? Вековой спор между активистами и созерцателями был возобновлен – и, по-моему, с беспрецедентной остротой. Ибо до этого утра я знал созерцание только в его более скромных, более обыденных формах – как дискурсивное мышление; как восторженную увлеченность поэзией, живописью или музыкой; как терпеливое ожидание тех вдохновений, без которых даже прозаичнейший из писателей не может надеяться что-либо совершить; как случайные проблески в природе вордсвортовского «чего-то, смешанного гораздо глубже»; как систематическое молчание, иногда приводящее к намекам на «тайное знание». Но теперь я понял созерцание в его высшем проявлении. В высшем проявлении – но еще не в его полноте. Ибо в своей полноте путь Марии включает в себя путь Марты и возвышает его, так сказать, до своей собственной высшей силы. Мескалин открывает путь Марии, но захлопывает дверь Марты. Он дает доступ к созерцанию – но к созерцанию, несопоставимому с действием и даже с волей к действию, с самой мыслью о действии. В промежутках между своими откровениями принимающий мескалин склонен чувствовать, что, хотя, с одной стороны, всё – в высшей степени так, как оно должно быть, с другой стороны – что-то не так. Его проблема, в сущности – та же, что стоит перед квиетистом, архатом и – на другом уровне – перед пейзажистом и художником человеческих натюрмортов. Мескалин никак не может решить эту проблему: он может лишь поставить ее апокалиптически – тем, кому она до сих пор никогда не представлялась. Полное и окончательное решение может быть найдено только теми, кто готов осуществить правильное Weltanschauung[24] посредством правильного поведения и правильной, постоянной и ничем не сдерживаемой бдительности. Квиетисту противостоит активный созерцатель, святой, человек, который, по выражению Экхарта, готов спуститься с седьмого неба, чтобы принести чашку воды своему больному брату. Архату, отступающему от видимостей в полностью трансцендентную Нирвану, противостоит Бодхисаттва, для которого Таковость и мир случайностей едины и для чьего безграничного сострадания каждая из этих случайностей – повод не только для преобразования глубинного понимания, но еще и для самой практической благотворительности. А в мире искусства Вермееру и другим художникам человеческих натюрмортов, мастерам китайских и японских пейзажей, Констеблю и Тёрнеру, Сислею, Сера[25] и Сезанну противостоит всеобъемлющее искусство Рембрандта. Эти имена огромны, их превосходство недостижимо. Что же касается меня в то памятное майское утро, то я мог быть только благодарен за опыт, показавший мне яснее, чем я видел прежде, истинную природу вызова и абсолютно освобождающей реакции на него.
Прежде чем мы оставим эту тему, разрешите добавить, что не существует такого вида созерцания, даже самого квиетистского, которое было бы лишено своих этических ценностей. По меньшей мере половина всей морали негативна и сводится к тому, как уберечься от зла. «Отче наш» насчитывает меньше пятидесяти слов, и шесть из них – просьба к Богу не вводить нас в соблазн. Односторонний созерцатель оставляет несделанным многое из того, что ему следует сделать; но чтобы компенсировать, он удерживается от делания многого из того, что ему делать не следует. «Сумма зла, – заметил Паскаль, – была бы намного меньше, если бы только люди смогли научиться тихо сидеть в своих комнатах». Созерцатель, чье восприятие очищено, не обязательно должен оставаться в комнате. Он может заниматься своим делом, настолько полностью удовлетворенный тем, что видит, и тем, что сам является частью божественного Порядка Вещей, что никогда не испытает даже соблазна вовлечься в то, что Трахерн[26] называл «грязными уловками мира». Когда мы ощущаем себя единственными наследниками вселенной, когда «море течет в наших венах… и звезды – наши алмазы», когда все вещи воспринимаются как беспредельные и святые, какой мотив может у нас быть для алчности и самоутверждения, для погони за властью или для еще более ужасных форм удовольствия? Созерцатели вряд ли станут игроками, сводниками или пьяницами; как правило, они не проповедуют нетерпимость, не развязывают войн; не считают необходимым грабить, мошенничать или унижать бедных. К этим огромным отрицательным достоинствам мы можем прибавить и еще одно, которое, хоть и трудноопределимо, но и положительно, и важно. Архат и квиетист могут не практиковать созерцания в его полноте; но если они его практикуют вообще, то могут воспроизводить просвещающие обзоры иной, трансцендентной, страны ума; а если они практикуют его во всей его высоте, то становятся проводниками, сквозь которые из этой, иной, страны может истекать некое благотворное влияние в мир затемненных «Я», постоянно умирающих от его нехватки.
Тем временем я, по просьбе исследователя, обратился от портрета Сезанна к тому, что происходило у меня в голове, когда я закрывал глаза. На этот раз внутренний пейзаж любопытным образом ничего в себе не нес. Поле видения заполняли ярко окрашенные, постоянно изменявшиеся структуры, сделанные, казалось, из пластика или эмалированной жести.
– Дешево, – прокомментировал я. – Тривиально. Как вещи в «центовке».
И вся эта дешевка существовала в закрытой, тесной вселенной.
– Как будто находишься под палубой судна, – сказал я. – Грошового судна.
Пока я смотрел, стало очень ясно, что это грошовое судно было каким-то образом связано с человеческими претензиями. Этот удушливый интерьер мелочной лавки был моим собственным личным «Я»; эти мишурные мобили из жести и пластика были моим личным вкладом во вселенную.
Я чувствовал, что урок полезен, но тем не менее мне было жаль, что он преподается в такой момент и в такой форме. Как правило, тот, кто принимает мескалин, открывает внутренний мир на столь явном исходном уровне, столь очевидно бесконечным и святым, сколь и тот преображенный внешний мир, который я видел открытыми глазами. С самого начала мой же собственный случай был иным. Мескалин временно наделил меня силой видеть с закрытыми глазами; но он не мог вообще – или по крайней мере именно в этом случае – явить мне внутренний пейзаж, даже отдаленно сравнимый с моими цветами, стулом или брюками «там, снаружи». То, что он позволил мне воспринять внутри, было не Вселенской Формой в образах, а моим собственным умом; не архетипической Таковостью, а набором символов – иными словами, самодельной подменой Таковости.
Большинство наблюдателей образов преобразуются мескалином в духовидцев. Некоторые из них – а они, возможно, более многочисленны, чем общепризнано, – не требуют никакой трансформации: они – духовидцы постоянно. Умственный тип, к которому принадлежал Блейк, довольно широко распространен даже в урбанистически-индустриальных обществах сегодняшнего дня. Уникальность поэта-художника не заключается в том факте, что (цитируя из его «Описательного Каталога») Блейк действительно видел «тех дивных типов, называемых в Священном Писании “Херувим”». Она не заключается в том факте, что «некоторые из этих дивных типов, увиденных в моих видениях, были ста футов в высоту… и все содержали в себе мифологическое и непостижимое значение». Она заключается единственно в его способности выражать словами или (до некоторой степени менее успешно) линией и цветом какой-то намек по меньшей мере на не слишком необычный опыт. Бесталанный духовидец может воспринимать внутреннюю реальность, не менее огромную, прекрасную и значимую, чем тот мир, что созерцал Блейк; но он совершенно лишен способности выражать в литературных или пластических символах то, что увидел.
Из религиозных записей и сохранившихся памятников поэзии и пластических искусств совершенно ясно, что почти всегда и везде люди придавали большее значение внутреннему пейзажу, нежели объективно существующим вещам. Они чувствовали: то, что они видят закрытыми глазами, обладает духовно большей значимостью, нежели то, что они видят открытыми. Причина? Слишком близкое знакомство порождает презрение, а как выжить – проблема, варьирующаяся в диапазоне от хронически нудной до мучительной. Внешний мир – то место, где мы просыпаемся каждое утро нашей жизни, то место, где волей-неволей мы должны пытаться прожить. Во внутреннем мире нет ни работы, ни монотонности. Мы посещаем его только во сне и размышлениях, и его странность такова, что мы никогда не сможем отыскать одного и того же мира в двух случаях подряд. Что удивляться, следовательно, если человеческие существа в своем поиске божественного предпочитали в общем и целом смотреть внутрь! В общем и целом, но не всегда. В своем искусстве не менее, чем в своей религии, даосы и дзэн-буддисты смотрели за пределы видений, в Пустоту, и сквозь Пустоту – на «десять тысяч вещей» объективной реальности. Из-за своей доктрины воплощенного Слова христиане могли бы с самого начала принять сходное отношение ко вселенной вокруг. Но из-за доктрины Грехопадения им это было очень трудно сделать. Всего триста лет назад выражение тщательного отрицания мира и даже проклятия мира было и ортодоксальным, и понятным. «Нам не следует изумляться ничему в Природе, кроме одного лишь Воплощения Христа». В XVII веке фраза Лаллемана[27] казалась разумной. Сегодня в ней звенит безумие.