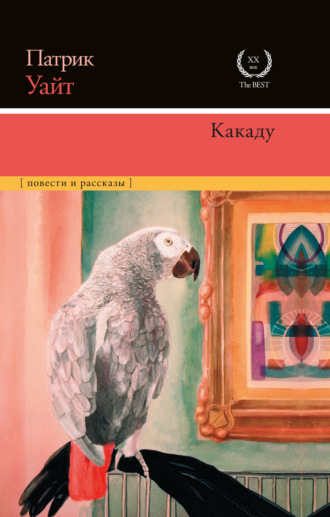
Патрик Уайт
Какаду
– Что еще за гадость? – крикнул Хэролд.
Побоялся, что она не услышит за громкими голосами рабочих и грохотом раскалывающихся камней, и крик его прозвучал особенно сердито.
– Я забыла сказать, – прокричала в ответ Ивлин и оглянулась через плечо, не грозит ли гора обвалом, – в тот день, когда я навещала Даусона, выяснилось, Неста приносила ему рыбу… рыбный пудинг!
На губах у нее уже не осталось помады, и они казались бесцветными. В тот миг Хэролд пожалел, что женат на своей жене.
– Я часто удивляюсь, – опять закричал он, и голос старчески задребезжал, – когда ты вспоминаешь что-то из прошлого, как тебе удается пережить это заново.
Тут он спохватился, что стало тихо, и подосадовал на свой дребезжащий голос.
Вечером в гостинице Хэролд заказал к ужину бутылку бордо, чтобы придать вкус не слишком аппетитному мясу. И как-то отметить этот день.
– Ну, готовят тут неважно, правда? – виновато сказал Хэролд. – Совсем не то, что надо.
– А чего ты ждал?
Ивлин улыбнулась ему, она вновь стала земной и практичной, как только переоделась. Оглядывала другие пары в зале, спутников по туристскому автобусу, толстых и тонких, выпивающих и непьющих, и старалась вообразить, будто они с Хэролдом за своим отдельным столиком – ей всегда требовался отдельный столик – блестящие любовники и плывут на пароходе по Нилу.
И тут Хэролд все разрушил:
– Интересно, этот Нестин пудинг… он хоть куда-нибудь годился?
Рот Ивлин, расцветший было в романтическом ореоле их прошлого, мгновенно увял.
Потом она сказала:
– Я и правда его попробовала, он был совсем неплох.
По крайней мере треснул лед, что заморозил ее отношения с Нестой Сосен и Клемом Даусоном. Она опять стала их упоминать. Оказалось, что и во время «этой ужасной поездки», какой она осталась в памяти Ивлин, и после она могла пошутить над собой, особенно прибегая к помощи пресловутого пудинга – в этом мягком, белом, смехотворном месиве увязло и отчасти утратило силу коварство Несты.
С унылой сдержанностью Хэролд говорил, что надо навестить «беднягу Клема». Ивлин сказала, да, необходимо поехать обоим, это их долг, пусть даже он стал во время болезни не в меру раздражительным и обидчивым. Но их сковало бессилие. Да, они поедут, пусть только станет прохладней, или теплей, или больной поправится настолько, что их приезд доставит ему удовольствие. И они все не ехали. Та женщина, миссис Перри, наверняка приходит и обихаживает его, говорила Ивлин, похоже, она человек превосходный.
Они еще долго бы так рассуждали, не получи Хэролд письмо от Клема:
Дорогой Хэролд,
пишу, чтобы поставить тебя в известность, что мы с Нестой Сосен решили попытать счастья. В прошлом месяце мы поженились. И сразу поехали домой, так как чувствовали, что в нашем возрасте свадебное путешествие выглядело бы нелепо. Привычки у нас обоих уже приобретены, если не сказать неизменны, и мы не питаем чрезмерных надежд.
Ты ведь знаешь, Хэролд, я никогда не умел выражать свои чувства, но не могу упустить эту возможность и только представляю, как было бы все иначе, если бы мы не потеряли друг друга или не встретились бы вовсе. Я думаю, больше всего на меня всегда влияло то, что невозможно вместить. Например, море. Что же до человеческих отношений, хоть сколько-нибудь серьезных, много ли от них остается после того, как они просеяны сквозь решето слов?
Ну и письмо! – прямо слышу, как ты это говоришь. Но можешь его забыть, и когда мы встретимся в следующий раз, все останется по-прежнему.
Мисс Сосен (эти слова он зачеркнул) Неста шлет привет твоей жене, к которой она, мне кажется, очень расположена.
Если это письмо и не ошеломило супругов Фезэкерли, у них по меньшей мере звенело в ушах.
– Какая дикость, – сказала Ивлин.
Опять и опять она возвращалась к письму, словно в поисках окна, через которое взгляд уловил бы что-то хоть сколько-нибудь знакомое. Это и вправду дико. Чтоб не сказать непристойно, но так, пожалуй, слишком. Ведь она и сама тут поневоле замешана. Для Ивлин Фезэкерли привязанность означала нечто если и не материальное, то вполне явственное. И Неста Сосен, с ее расплывчатыми чертами и поникшей грудью, теперь становилась явственней. Дальше отбрасывала тень из-под гигантских деревьев, предлагая связанную из серой шерсти оборку. Ивлин билась, старалась разобраться в своих чувствах. Но долго раздумывать не позволила себе, лишь пока не закололо кожу иголками. И, как в детстве, сбежала по скользкой хвое назад, в гостиную.
– Не знаю, на что они там надеются, – с хриплым смешком сказала она, стукнув ладонью по письму. – Как бы только они не получили, чего вовсе и не ждут, – чуть ли не мечтательно прибавила она. – Почти со всеми так и бывает.
Но Хэролд Фезэкерли стал решетом, через которое слова бежали, как вода, а с ними и все испытанное или, точнее, то, что не было испытано. Мальчишка, плачущий среди зловония разящих дезинфекцией гальюнов. Что случилось, Фези, малыш? Широкая, бугристая от мозолей рука похлопывает по плечу, прогоняя горести. Ничего. И несказанное блаженство, хоть и видишь при сумеречном свете, как тут же в политых мочой опилках копошатся мерзкие червяки. Ветер на море, омывающий кожу, продувающий все, кроме самых укромных уголков сознания. Зажигательное стекло голубого глаза. Неподвижный вопросительный знак белого ибиса среди папирусов. Мечты и пророчества, бьющиеся о кое-как сколоченные сосновые двери.
Но тайные значения письма, от которых его бросало в дрожь, пока он сидел в своем меблированном стойле, были, разумеется, еще и трепетом, и оглушающими страхами возраста.
Когда немного спустя супругов Фезэкерли призвали в дом на скале, все четверо были не то чтобы старые, но пожилые. (Уклониться от этого визита никак нельзя, заявила Ивлин.) Все либо костлявые, либо расплывшиеся. На костлявых некогда модное и элегантное платье висело мешком. А Клем и Неста Даусон (именно Даусон) явно выпирали из своих костюмов, задуманных как просторная, практичная одежда.
Ивлин видела: Даусоны до ужаса схожи – и несхожи.
А что видел Хэролд, кроме сверкающего за окнами моря, он и сам не знал. Уж конечно, дыхание ветра. За окнами даусоновского дома всегда был виден ветер.
Чету Фезэкерли пригласили на чашку чая.
– Подумай, Хэролд, ну как не стыдно Несте, она ведь такая мастерица стряпать.
– Большего, возможно, не захотел Клем. Теперь уже не с одной Нестой надо считаться.
– Ах, Клем! – Голова у Ивлин завертелась, как на шарнирах. – Дура она, если не может поставить на своем!
Фезэкерли привезли молодоженам металлическую подставку для гренок, хотя Ивлин опасалась, что Даусонам, которые обошлись с ними так небрежно и попросту обманули, стыдно будет принять подарок.
Но вот они все за столом, чашки в неуверенных руках грозят опрокинуться, тарелочки с сандвичами еле удерживаются в равновесии. Ивлин заметила – посуда уже не простая белая, Клемова, а настоящий сервиз, вероятно, Неста его унаследовала от какой-нибудь из старых дам или от матери.
Свет коснулся чашек довольно тонкого фарфора и обратил их в прозрачную яичную скорлупу, из которой еще не совсем ушло дыхание жизни.
Чашка Хэролда бренчала по блюдцу. Под ветром бренчали неплотно закрытые окна.
– Ах, какая прелестная брошка! – не сдержалась Ивлин.
Ибо на серый джемпер вязаного костюма, под крупной белой шишкой зоба, Неста приколола брошь – на черном мраморном фоне яркая мозаика цветов. Конечно же, не свадебный подарок. Ивлин не могла представить, чтобы мясистые руки Клема держали что-нибудь в итальянском духе.
– Это тебе принцесса… она оставила? – спросила Ивлин.
– Ну, нет! – оскорбленно ответила Неста и опустила коричневатые веки. – Ничего итальянского Эдди оставить не могла. Драгоценности она только носила. Они принадлежали Фернандини Лунго. И потом, – прибавила она, смягчая резкость ответа, – эта брошка пустячок. Я сама ее приобрела. В сувенирной лавочке. На Понте-Веккьо.
Вдруг показалось – фарфоровая чашка для нее тяжелое бремя.
– Но она милая. – Это было извинение.
– Прелестная, – с ударением сказала Ивлин, хотя интересоваться тут было уже нечем.
С какой стати ей даже муторно стало? Ничего страшного не случилось. Поправляя ошибку, которую мог бы сделать кто угодно, Неста сама пояснила, что брошка никакая не ценность. И однако Ивлин впору было завопить – из-за своей оплошности, из-за Даусонов, нет, из-за всех их четверых.
Неста разбила одну из доставшихся по наследству чашек. И от огорчения застыла на миг дольше, чем надо бы, в нелепой позе, с вывернутыми внутрь коленями. На ней были серые чулки в резинку, наверняка собственной вязки. Ноги под ворсистой юбкой точь-в-точь как у хоккеиста, от рожденья не пригодного для этого спорта.
– Что ж ты как неловко, – упрекнул Даусон. (За все время он ни разу не назвал жену по имени.)
– Но ты ведь знаешь, я неловкая, – сказала Неста… И сказала неловко.
Он опустился на колени, на половицы, вел себя так, будто чашка была его, а не жены. Хэролд смотрел на руки, собирающие осколки, и опять вспомнилось сорочье яйцо, которое Клем достал и дал ему выпить через дырочку, когда они были мальчишками.
– Не забудь… это в ведро для свалки, – предупредил Даусон. – У нас три ведра, – объяснил он гостям, – одно для свалки, второе для компоста и третье для мусоросжигателя.
Ненадолго замолчали, слышно было только, как скатываются и позвякивают осколки чашки, надо полагать, Неста сбрасывала их в нужное ведро.
В тот день Неста не пыталась курить. Вместо этого она принесла свое вязанье, и когда терпеливо раскручивала серые и коричневатые усики шерсти, это производило такое же впечатление, как если бы курила.
Даусон сидел нахмурясь, вероятно, прислушивался к звуку спиц. Оба они прислушивались.
Ивлин чувствовала, она тонет в происходящем, а берега от нее скрыты.
Она повернулась к окну, так что серьги ударили ее, и заговорила громко, небрежно, с нарочитой беспечностью:
– Наверно, отсюда видны просто изумительные закаты. Над морем.
Даусон откашлялся:
– Солнце садится на западе, с другой стороны горного кряжа.
Неста продолжала вязать, улыбаясь довольно вымученной улыбкой.
– Мы любуемся восходом, – сказала она. – Почти каждое утро. Это чудесно.
– Должно быть, вы ранние пташки! – пробурчала Ивлин, обратив недовольство собой в шутливый упрек другим.
– О да. Мы встаем рано, – с гордостью подтвердила Неста и кивнула. – Мы оба.
Даусон поднялся. Отошел от жены и стоял, глядя в окно. Солнце уже покинуло море ради мира по другую сторону кряжа, оставив тончайший налет безукоризненно белого света на подернутых рябью водах.
Чете Фезэкерли оставалось слушать спицы, в лад их постукиванью Неста покачивала головой и едва заметно шевелила губами. Ивлин всегда терпеть не могла, чтобы не сказать боялась, безмолвия пустых комнат, для нее стук костяных спиц был тоже своего рода безмолвием, и она дала Хэролду знак собираться.
Они оглянулись. Странно это было – видеть Даусонов, стоящих вместе у калитки ниже уровня дороги, в иссякающем вечернем свете.
На обратном пути Ивлин и Хэролд не разговаривали.
Ивлин следовало бы поблагодарить Даусонов письмом на толстой белой почтовой бумаге, которая была одной из ее дорогостоящих причуд. Она была мастерица писать такие письма, набрасывала их размашистым почерком. Но на сей раз мешкала. А все артрит большого пальца.
Хотя за всю жизнь она получила от Несты только два или три письма, она тотчас догадалась, что письмо от нее, и отложила его до возвращения Хэролда. А когда он вернулся, передумала и не распечатала, пока не осталась одна.
Дорогая Ивлин! (Сама Ивлин написала бы «Дорогая моя Ивлин».)
Не знаю, зачем я пишу, разве что сказать, как я тебя люблю. По-моему, Клем тоже тебя любит, только никогда бы в этом не признался. Оба мы неразговорчивые, и от этого наш союз очень странный; я всю жизнь жила с павлинами!
Мало кто знает, что павлины тоже спасители, они искупают наши грехи. Я начала это понимать, когда мы побывали в том храме над Салониками… (или, может, это монастырь?)… там так пустынно, что не поймешь… и вдруг вечер наполнился молчаливыми павлинами… я впервые увидела их в воздухе… потом они стали усаживаться на ночь, хвостами к веткам кедра.
Клем, я думаю, не верит в искупление, потому что в этом не нуждается, у него такие ясные глаза. Чистейшему хрусталю до них далеко. Мы с ним очень во многом схожи, а вот в этом расходимся.
Да, моя бедняжка Ивлин, ты так и не увидела закат! Позволь сказать тебе, что чаще всего он пронзителен, как крик павлина… хотя иной раз вдруг отворит вены, отдавая свою кровь, скорее из любви, но не из милосердия.
Неста Сосен.
Уже сама эта подпись поразила Ивлин Фезэкерли как удар молота. Как же теперь быть с письмом Несты? Будь в нем открытый огонь, можно бы тут же его подавить. А так она положила письмо в ящик и там оно горело, горело и не сгорало.
Никогда еще Ивлин не была так напугана. Самое ужасное, что никогда она не сможет рассказать об этом Хэролду, ни разу она не рассказала ему ничего хоть сколько-нибудь важного. Если б позвонить в полицию или, того лучше, пожарникам, они бы вырвали ее из лап страха. Но это невозможно, хотя есть телефонный справочник и их номера обведены кружками. Не к трезвону приближающихся машин надо прислушиваться, но лишь к испуганным ударам своего бесчувственного сердца.
Вошел Хэролд и только и сказал:
– Хочу кому-нибудь показаться насчет спины. Я думаю, в нашем возрасте разных болей не миновать.
Он сел, пощипывая кожу на тыльной стороне ладоней.
– Я уже три утра подряд звоню в Газовую компанию, а они, видно, не понимают своих обязанностей, – сказала Ивлин, глядя на его сморщенную посиневшую кожу.
И все смотрела на эти так хорошо знакомые руки.
– Хэролд! Не в порядке передняя горелка. Были бы у тебя руки половчей…
– Следовало бы послать за Клемом Даусоном. Клем починил бы, – сказал Хэролд; случалось, он разговаривал суховато.
На сей раз Ивлин избежала того, от чего невозможно было уклониться утром в одном из каменных ущелий, появившихся в их городе стараниями прогресса. Похоже, ей никак не миновать встречи с Даусонами. Хотя перед ней оказался во плоти один только Клем. Под пиджаком на нем был твидовый жилет, каких уже давным-давно не носят. По крайней мере это давало ей определенное преимущество. И выражение его лица тоже. Чего-то в нем недоставало.
– Кого-кого, а уж вас, Клем, я никак не ожидала встретить в городе, – таким вот лихим тоном она разговаривала обычно с сильными, но безобидными представителями мужского пола.
Он пробормотал что-то про своего поверенного. Или про поверенного Несты?
– Вы знаете, – сказала Ивлин, – я ужасно рада, что Неста в ваших руках. – Однако тотчас отвернулась от них, от красных пальцев, беспомощно сплетенных на жилете. – Бедняжка Неста столько раз создавала дом для других, уж не говорю о ее скитаньях по Европе с Эдди Вулкок. Так отрадно видеть, что теперь она создает свой собственный дом.
Речь вышла удачная, даже изящная, Ивлин чувствовала, ею можно гордиться.
– Не создавала она дом. Дом уже был, – сказал Даусон.
– Но женщина прибавляет какие-то милые мелочи.
Ветер – не тот, что сотрясал дом на скале, – промчался по бетонному ущелью, протрещал между ними.
– Не из тех она была женщин, – сказал он. – Никаких выкрутасов. Да и я не из тех, кому приятна всякая суета.
– Все получилось просто превосходно. У меня такая тяжесть с души. – Ивлин обрадовалась, что можно быть искренней.
Пока до нее не дошло – Даусон говорит о Несте в прошедшем времени. И она почувствовала, что вся в гусиной коже.
Даусон странно вытянул губы; сухожилия на шее напряглись, точно проволока в той мудреной штуковине. Сейчас он похож на одно из своих же изобретений или на какую-то сбивающую с толку современную скульптуру. Скульптуру, что непрестанно движется сама по себе.
– Неста больна, – услышала Ивлин.
Губы Даусона под рыжей щетиной усов все еще вытягивались в поисках нужного слова, и казалось, так будет вечно.
Надо самой попытаться положить этому конец.
– Вокруг столько больных, – согласилась Ивлин. – Вирус гриппа. Я иной раз думаю: чем мы хворали до того, как были обнаружены эти вирусы? Для всех, у кого не в порядке бронхи, в это время года ветер такой предательский.
Она поспешно опустила глаза. Не помнила она, как там у Несты с бронхами. Но кашлянула за всех тех, кто подвержен бронхитам.
Выражая сочувствие, она твердо решила и дальше сочувствовать лишь в общей форме. Не станет она смотреть в остановившиеся, подернутые слезой глаза Даусона.
– Я что хочу объяснить, – о чем-то он просил. – Неста сама туда пожелала. Для лечения. Уж одно это лечение должно быть ужасно. Я бы ни за что ее туда не поместил… если бы не ее желание… хотя по дороге в эту преисподнюю мы и правда повздорили… она бросила мусор не в то ведро. Это, вероятно, было последней каплей. Для нас обоих. Мы оба слишком добросовестные. И молчаливые. Два молчания, знаете ли, могут в конце концов глубоко ранить друг друга.
Опять Ивлин уставилась на его руки. Не настолько он павлин, чтобы ему пришло в голову перерезать себе вены. Его страдание куда более едкое, подспудное.
– Мне так… так… жаль, – сказала Ивлин. – В какой она больнице… или…
Даусон сказал ей название. Которое она, конечно, забудет. Уже забыла.
Ну был бы тут Хэролд. При крутых поворотах от Хэролда толку чуть, но все-таки он придает ей силы действовать с большим блеском.
Что до Клема Даусона, горе ли его, угрызения ли совести, что там он ни испытывал, докучливой навязчивостью становятся несносны. Веки у него воспаленно-красные, будто накрашены.
Помочь ему было нечем, и Ивлин пошла прочь. Она ступала так бесшумно, словно улица застлана ковром, словно все двери заперты, словно все несчастные, но, к счастью, беспомощные пациенты сидят за этими дверьми связанные и ждут новых кар за свои грехи.
Придя домой, она выпалила:
– Я встретила Даусона. У Несты какой-то нервный срыв. Она в этой… он назвал мне где, но я забыла.
Она тараторила, комкая слова, не для того, чтобы Хэролд ничего не понял, но чтобы поскорей с этим покончить.
Хэролд, всегда склонный изумляться, сейчас, похоже, ничуть не изумился.
– Разве, по-твоему, это не странно? – спросила Ивлин, не в силах дольше терпеть.
– Нет, – медленно ответил он. – По-моему, не странно.
– Пожалуй, ты прав, – сказала Ивлин. – Нынче столько народу страдает нервным расстройством. Мы живем как под дамокловым мечом… вечно угроза войны… и спешка… и никакой прислуги.
Хэролд сидел, пощипывая кожу на руках.
– У Даусона у самого было нервное расстройство, когда в Египте его уволили со службы, – сказала Ивлин.
Примерно в это время Хэролда потянуло к далеким прогулкам, он уходил один, не говоря Ивлин куда. Не одолевай ее страх, она, наверно, стала бы брюзжать, допрашивала бы его с пристрастием, гадала бы, уж не завел ли он любовницу. Но страха ей и без того хватало, новые поводы были ни к чему, и она помалкивала. Так что Хэролд мог пока отправляться в эти одинокие походы. Он бродил по безлюдным уголкам побережья, среди утесов и лантаны. Однажды он набрел на свалку всякого хлама и уселся передохнуть на край разодранного кресла. Он был глубоко тронут множеством обретших свободу предметов, в частности сломанной музыкальной шкатулкой, оставшейся от поры более утонченных изобретений. Случалось, его застигали солнечные закаты, и их отрешенное неистовство было ему на благо.
Несмотря на все это, он был по-прежнему предан жене. Ивлин ему жена. Если от долгой совместной жизни понятие это стало отвлеченным, все равно оно укоренилось в сознании с железной неколебимостью.
Хэролда влекли и вечера цвета железа, когда море окрашивалось в тона устриц и стали. Манил ветер, что вздымает валы на море, а тебя пробирает до костей, режет, как ножом. Хорошо сесть в конце дня на паром и безвольно отдаться его движенью. Пронизанные ветром воды гавани под стать сумрачным глубинным думам Хэролда. И ничья чужая мысль ему здесь не навязывается. Половина пассажиров слишком поглощена своей респектабельностью и вечерними газетами, а другая половина с безошибочным чутьем держится тех, в ком признает своего брата-повесу.
Достигнув зрелых лет, Хэролд часто не без смущения слышал, что у него, мол, «почтенная наружность». Не сознавай он вполне трезво свои недостатки, он бы нежился в лучах этой лести. А так приходилось только посмеиваться. И в том, как вызывающе он запахивал свою «почтенную» персону в вышедшее из моды пальто английского твида, чувствовалось даже некое отвращенье. Эта его причуда под конец перешла в привычку, что сказывалось во время его одиноких прогулок – например, однажды к вечеру, когда он ни с того ни с сего вспомнил нелепые пинцетики, которыми Неста Сосен, покуривая, держала сигарету.
Он стоял в одиночестве на палубе ныряющего парома, над волнами, с которых слиняли обычно бьющие в глаза краски. Для большинства пассажиров тут было слишком бурно, слишком ветрено. Они предпочли тесниться за стеклом, оберегая свою изнеженную шкуру. Кое-кто из них явно уповал на выпивку в качестве дополнительной защиты. Кроме Хэролда Фезэкерли, лишь еще один – то ли храбрец, то ли одержимый – склонился над поручнями на носу. Широкоплечий, кряжистый человек этот неотрывно глядел за борт, и Хэролд решил было, он страдает морской болезнью, но, проходя мимо, заметил – оба они наклоняются в лад качке, оба одинаково вдыхают запах идущего по волнам судна, и незнакомец этот вовсе не незнакомец, а его друг Даусон.
Даусон оглянулся. Он был взлохмачен встречным ветром, но вовсе не пьян. Будто мальчишка, он свернул шляпу и засунул в карман пальто, застегнутого на единственную, готовую вот-вот отлететь пуговицу. От сильного порыва ветра его огненные коротко стриженные волосы стали дыбом. Он распустил губы, должно быть, чересчур наглотался воздуха.
Встреча была слишком неожиданная. Хэролд предпочел бы ее избежать. Несмотря на его долгую и задушевную дружбу с Даусоном, он не мог придумать, как начать подходящую беседу.
– Я ездил навестить жену, – сразу же выпалил Даусон, словно только и ждал случая поделиться.
– Ей, наверно, было весьма приятно, – сказал Хэролд и сам услыхал, как напыщенно это прозвучало.
– Не думаю, – сказал Даусон. – Она была очень раздражена. А прежде с ней этого не бывало. Раздражительность – свойство из тех, какие мы оба не приемлем. Но сегодня она была… и говорить не хочется… злобная. Все время жаловалась, что кричат павлины. Конечно, от уличного движения там чудовищный шум. Да еще для человека в ее состоянии. Она, должно быть, про этот шум говорила.
Хэролд Фезэкерли не прочь бы разобраться насчет павлинов, хотя бы самому поразмыслить, но сейчас было не время. Понял он другое – в могучем теле Даусона душа уже далеко не так несокрушима, как прежде. Подобное открытие ошеломляет.
Не окажись это состояние столь преходящим, оно вы-звало бы брезгливость. Но Даусон – или, может быть, сам дух его громоздкой плоти – решил еще побороться. Он повернулся навстречу обвинению, сцепил руки за спиной на поручнях, выставил грудь и живот навстречу удару, лицо – навстречу кулаку, выпрямился, даже откинулся назад, по ходу движения катера. И в этот миг солнце рассекло грязно-серую чреду облаков, вскрыло и чрево волн, так что из глубин вновь выплеснулись всем напоказ кричащие краски павлиньей яркости и пестроты.
– Господи, – захлебываясь, тяжко выдохнул Даусон, – как-нибудь, когда мы встретимся… при других обстоятельствах… мне надо будет… я попытаюсь рассказать тебе, Хэролд, все, что пережил. – Он говорил с закрытыми глазами. – С нами вот что случилось. Со мной и с этой женщиной. Мы оба жили в одном и том же измерении. Это нас потрясло – вдруг увидели, есть человек, способный читать твои мысли.
Хэролд Фезэкерли и не глядя знал, что из-под красных век под рыжими, в налете морской соли бровями текут слезы.
– Это положило конец тому, что вообще не должно было случиться.
Вскоре они вошли в спокойные воды, под полосатый шатер света. Пассажиры поднимались по мягко покачивающимся дощатым сходням. Откуда-то доносилась прилипчивая мелодия духового оркестра.
Они по привычке обменялись рукопожатием. Один сошел с парома и отправился на автобус, а там и домой – к своему словно бы дому, другой возвращался тем же паромом, никаких других намерений у него как будто не было.
Поначалу Хэролд не упомянул о встрече с Даусоном на пароме, а потом не упоминать было уже просто: ведь это касалось только его.
– Хорошо прошелся? – спросила Ивлин, когда он вернулся, и откусила только что вдетую в иголку шелковую нитку.
В юности она считалась мастерицей вышивать, но вскоре забросила это занятие, опасаясь, как бы люди не усомнились в ее утонченности. И лишь недавно, «под старость», как говорила она с усмешкой, она наполовину иронически, наполовину от тоски по прошлому принялась за какое-то сложное вышивание, чтобы занять себя, когда супруг пренебрегал ее обществом.
Застав жену за вышиванием, Хэролд почувствовал себя виноватым. Весь этот вечер взгляд его был устремлен не столько в книгу, которую он пытался читать, сколько на женину иголку. Он рад был бы поговорить с Ивлин, да не мог. Хорошо, хоть до зимы недалеко и они уедут в Кэрнс.
На следующий вечер он купил ей букет роз.
– Дорогой ты мой, как мило с твоей стороны! – вырвалось у Ивлин, от неожиданности она и не заметила, до чего помяты завернутые в бумагу бутоны.
Увидев, какой неудачный букет он выбрал, Хэролд почувствовал себя еще виноватей, да притом понял, что опять его надули.
Он принес ей и вечернюю газету.
– Не знаю, зачем мы зря тратим деньги, – всегда говорила Ивлин Фезэкерли.
Но вечерние газеты читала. Ей нравилось читать гороскопы, «просто для развлеченья», и она с удовольствием – нет, сказать «с удовольствием» не годится, в этом было бы что-то нездоровое, – она читала или, по крайней мере, проглядывала сообщения об убийствах: ее стали занимать «выверты человеческой натуры».
– Есть сегодня интересные убийства? – спросил Хэролд как о чем-то само собой разумеющемся.
– Нету, – ответила Ивлин и тоном, каким обычно изрекала что-нибудь забавное во время их плаваний, продолжала – Убийцам изменила выдумка.
И тут газета зашелестела у нее в руках.
– Хэролд, – сказала она. – Клем… Клем Даусон умер.
Хэролда Фезэкерли оглушило.
– Что? – тупо спросил он. – Как… Клем?!
– Несчастный случай… похоже. – Ивлин держала газету как можно дальше от себя. – Вот ужас!
Она решительно делала вид, будто речь идет о ком-то постороннем и Хэролду следует быть ей за это признательным.
«…направляясь вчера вечером со стороны парома, Клемент Перротет Даусон был сбит проходящим автобусом, – читала она вслух. – Полагают, что смерть наступила мгновенно…»
Но ее приглушенный голос ничего для Хэролда не смягчил.
– Мгновенно! Как милостиво! – сказала Ивлин.
Непостижима эта, присущая иным женщинам, сила или повелевающая ими условность, что способна и весть о конце света обратить в банальность.
– По-видимому, – продолжала Ивлин, – водитель затормозил и по крайней мере два пешехода пытались остеречь беднягу… Клема, который, казалось, ничего не понял. По-видимому, – цеплялась она за недавно прочитанное слово, – он все шел, споткнулся, так говорят, и упал под автобус.
Она выронила газету, беспорядочно рассыпались листы.
– Раздавлен!
– Так и написано «раздавлен»? – спросил Хэролд.
Потому что хотелось представить себе крупную огненную голову Клема все еще сияющей, ослепляющей откровением, а не расплющенной, будто упавшая на гудрон дыня.
– Нет, – сказала Ивлин. – Не совсем так.
Стены квартиры угрожающе надвигались на них.
– Боже мой, бедняга! Что ж нам делать? – вскинулась Ивлин.
Она вытирала руки маленьким полотенцем для гостей, которое так изящно вышивала.
– Какие-нибудь родные у него есть?
– Не знаю.
Ивлин была безутешна: ну кто сообщит о случившемся Несте в обитель, куда привела ее извечная неприкаянность.
– А ты знал, что Клем еще и Перротет?
Был час, когда ночь начинала звучать незнакомыми голосами.
Хэролд?
Хэролд не знал, неизвестно было им также и как распорядятся имуществом Клема.
Оставалось неизвестно, пока Ивлин не получила письмецо все от той самой Перри:
Уважаемая миссис Фезэкерли,
я побывала в доме и сделала все, что могла, одежду всю отдала Армии спасения ну и прочее, потому как она, бедняжка, совсем больная, говорят, так там и останется. Молодой поверенный уж так старался. Они с мистером Томпсоном обо всем позаботились, дом теперь на запоре, покуда мистер Томпсон не приищет покупателя, это, может, и не скоро будет, такой-то дом не всякому по вкусу. Мистер Томпсон агент по продаже недвижимости из Банданы. Такие, стало быть, дела, и коли вы пожелаете сами поглядеть, я подумала, надобно сообщить вам, где ключи.
Как я знаю про вашу старую дружбу с покойником, то и вкладываю фотографию, я сама их снимала после женитьбы. Мне удовольствие, коли она будет у вас. Что она не больно ясная, не взыщите, фотоаппарат у меня так себе, да ведь наперед никогда не скажешь, как оно получится.
Искренне ваша
И. Перри (миссис)
Ивлин предпочла бы не заметить снимка, но все же кинула на него быстрый неодобрительный взгляд. Плохо проявленная фотография уже выцвела. Две крупные бесформенные фигуры застыли посреди пустоты. Хоть, наверно, что-то их соединяло, стояли они как-то врозь, не зная, смотреть ли им друг на друга или в объектив. Фотограф по крайней мере оказался точкой притяжения, куда можно было обратить улыбки, которые иначе устремлены были бы в никуда. Лица смутны, расплывчаты, и все же Ивлин уловила в них выражение неистребимого простодушия, граничащего со слабоумием, как бывает у тех, на кого еще не опустился занесенный топор. Будто у жертвы убийства на фотографии в газете.
Нет, невозможно хранить эту фотографию. Ивлин мигом бы ее разорвала, не будь тут Хэролда, он не то чтобы следил за нею, но все понимал.
– Письмо от той женщины, – сказала Ивлин, ей некуда было податься, – от миссис Перри. Она не прибавляет ничего нового… ну, ничего существенного… чего бы мы не знали.
– А что она могла? Без нее уже все известно.
Ивлин направилась в ванную, она подозревала, что Хэролд теперь долго будет рассматривать фотографию и предаваться печальным размышлениям. Ну, ничего, мужчины не так чувствительны.
Хэролд и вправду позволил себе погрузиться в туманную мглу фотографии. И несколько раз перечел письмо. Будь у него мужество, – а он, хоть и поздновато, осознал, что обладает лишь физической храбростью, – можно бы поехать в Бандану, взять ключ у агента по продаже недвижимости и в последний раз поглядеть на дом Даусона. Но… про это могла бы узнать Ивлин. Нет, такое ему не под силу. Как не под силу войти в тот еще хранящий живое тепло, тихонько поскрипывающий дом, вернее в хибарку – пожалуй, справедливо они его так назвали – туда, где совсем недавно печально ворочался на соломе кроткий, но мудрый допотопный зверь и сквозь деревянную решетку впитывал непостижимость бескрайней синевы, а громадная шелковистая птица складывала и расправляла крылья и устремляла затаенный взгляд в себя, в некую свою предысторию.



