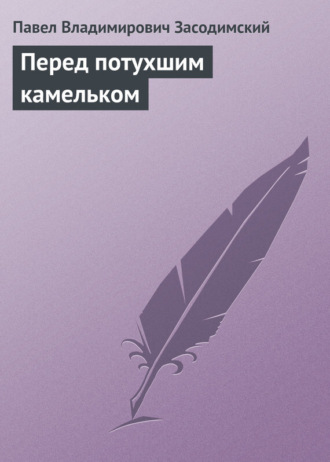
Павел Владимирович Засодимский
Перед потухшим камельком
Нет! Будущий ребенок мне вовсе не нравился. Уж если признаться, я досадовал на него и за то, что благодаря ему Леночка так подурнела. Юнона обратилась в беременную барыню… Конечно, я и теперь любил Лену, то есть она и теперь мне казалась иногда привлекательной. Но ребенок… ребенок смущал меня, и я ждал его рождения, как появления на свет своего личного врага. Хлопоты о маленьком приданом, по-видимому, доставляли Леночке великую отраду, а меня раздражали и бесили. Когда Леночка начинала толковать о каких-то бинтах, о губках, о треугольниках, я иногда не выдерживал и обрывал ее.
– Ах, оставь, пожалуйста, эти пустяки! Как будто на свете только и речи что о ребенке! – резко заметил я ей однажды.
– Да как же, милый! Нельзя же его оставить голеньким… – кротко возразила Леночка. – Кто ж о нем позаботится?.. За что ж ты сердишься? Я ведь тебе не мешаю…
Положим, она не мешала… Это верно. Но зато она растеряла из-за «него» все свои уроки. Ходить на уроки в таком положении барышне, разумеется, было неприлично. Расходы мои все увеличивались. А что будет с появлением ребенка? Он, этот ожидаемый таинственный незнакомец, начинал нагонять на меня панику. «О Господи! Чем же все это кончится!» – мысленно восклицал я и чувствовал себя глубоко несчастным. «Родительский инстинкт», «голос крови», «врожденное чувство любви к детям»… Прошу покорно разобраться в этой галиматье. И замечательно, в течение многих веков люди, как попугаи, не отдавая себе никакого отчета, повторяют эти изречения…
Наконец первого апреля – в день по преимуществу лжи и обмана – он появился на свет. Сын!..
Против всех моих ожиданий роды оказались очень трудными благодаря тому, что восемнадцатилетняя мать была еще глупа, а я, разумеется, не мог знать, что для родов требуется некоторая подготовка. По словам повивальной бабки оказалось, например, что Леночке были нужны какие-то ванны, что Леночке следовало больше ходить, а она между тем последние два-три месяца почти постоянно сидела дома. Одной почему-то выходить ей не хотелось, а мне, понятно, было неловко гулять с ней по улицам; ее положение меня шокировало, и я под разными благовидными предлогами отказывался сопровождать ее.
Пришлось звать доктора, но до операции, впрочем, дело не дошло: здоровая натура Леночки справилась без щипцов и хлороформа. А в аптеку все-таки пришлось побегать, и ночью мне совсем не удалось заснуть.
Поутру, когда все было уже кончено и прибрано, я вошел в спальню. Леночка была очень измучена, но показалась мне чрезвычайно мила в своей бедой кофточке с кружевами и в кокетливом маленьком чепчике на распущенных белокурых волосах. Она была бледна, но голубые глаза ее сияли, «как звезды», сказал бы поэт. Рядом с нею, на подушке, лежало маленькое красное существо. Мне, разумеется, тотчас же указали на него. Я наклонился над ним.
Глазенки – чистые, как ясное небо в майское утро – казалось, пристально, пытливо посмотрели на меня, – словно этот выходец из тьмы небытия хотел спросить: «Зачем вы меня вызвали на Божий свет? Что вы мне дадите? Что вы готовите для меня в жизни?..» Мне на мгновенье стало как-то жутко под взглядом этих ясных глаз, еще никогда не лгавших и не видавших никакой житейской мерзости. Я даже вздрогнул… Нервы, конечно! Если сутки поволнуешься, недоешь, недопьешь, не поспишь ночь, так, разумеется, каждый пустяк может довести чуть не до обморока… Затем, смотря на сына, я как бы в ответ на его немой вопрос сказал про себя: «Я не звал тебя! И не думал я тебя вызывать! И мысли у меня не было о тебе, когда я впотьмах на площадке лестницы в первый раз обнял ее и сказал ей: «Люблю!» Вовсе я не помышлял о тебе и в то время, когда гулял с Леночкой под ветвями смолистых, пахучих сосен при волшебном свете луны… В поэзии тех дней и ночей не было места для мысли о тебе!» И я говорил сущую правду…
– Что ж ты, Алеша, не поцелуешь его? Поцелуй! – тихим, усталым голосом сказала Лена.
Я нехотя прикоснулся слегка губами к его нежной щечке, но вдруг лицо его сморщилось, губы сложились в горькую гримасу. Ребенок заплакал. Вероятно, я уколол его своей бородой или усами… Ведь не мог же он, разумеется, понять смысла моего холодного, недоброжелательного взгляда на него; не мог же он – этот кусок мяса – знать, что я вовсе-вовсе не рад его появлению, что без него мне было гораздо удобнее с Леночкой наслаждаться жизнью. «Началось!» – подумал я, глядя на плачущего ребенка. А, однако, знаменательно… Мой поцелуй заставил сына в первый раз заплакать…
Мать в ту же минуту взяла дитя, и дитя мигом утешилось на ее груди. С какою любовью, с каким восторгом Леночка смотрела на него! Конечно, я не мог ревновать Леночку к этому куску мяса, – но все-таки теперь, при взгляде на мать и ребенка, мне пришли в голову кое-какие мысли, не совсем лестные для моего самолюбия… Если бы в наше время существовало некое сказочное чудовище, если бы это чудовище потребовало для себя человеческой жертвы и если бы Леночку спросили, кем она готова пожертвовать – сыном или мной? то я вовсе не уверен, что не очутился бы в ужасной пасти этого чудовища…
– Не правда ли, Алеша, ведь он походит на тебя? – спросила Лена, с радостной, светлой улыбкой смотря на дитя, прильнувшее к ее груди.
Леночка смотрела на него так, как будто увидала в банковской таблице, что на наш билет выпал выигрыш по крайней мере тысяч в сорок. Я не разделял ее телячьих восторгов и находил, что предмет ее восторгов ровно ни на что не похож.
– Напротив, мне кажется, он скорее похож на тебя! – заметил я лишь для того, чтобы сказать что-нибудь. – У него глаза совершенно твои!
– Глаза… да! это правда… – любовно смотря на ребенка, промолвила Лена. – Но лицо твое, и волосики темные, и вьются – так же, как у тебя.
– Я слыхал, цвет волос у ребят меняется!..
– Алеша! Мы назовем его Александром!
– Как хочешь, милая! – поддакнул я.
И действительно, мне было решительно все равно, как ни назвать этот кричащий кусок мяса: Александром, Иваном или иначе…
Прошло две недели. За это время наш Саша (уже окрещенный) заболевал раза два или три. Приходилось звать доктора, да еще не одного, потому что первый доктор – серьезный молодой человек, – по мнению Лены, отнесся к Саше весьма невнимательно, – потрогал у него только животик да «пощелкал пальцем по спине» (ее собственные слова). Зато другой доктор, старичок, нам очень понравился. Он, собственно говоря, был ничуть не внимательнее первого, но опытнее и гораздо лукавее. Он похвалил ребенка.
– Какой славный, здоровый мальчуган! просто прелесть… – проговорил доктор.
Леночка нашла, что он ужасно знающий врач, и настояла на том, чтобы заплатить ему не менее трех рублей…
Жизнь моя окончательно выбилась из обычной колеи (впрочем, она выбилась еще раньше, с того момента, как я ввел Леночку в свой «дом»). После обеда я обыкновенно ложился отдыхать с газетой часа на полтора; интересно узнать: о чем потолковал император Вильгельм германский, с кем на свидание поехал итальянский министр Криспи, как поживает mister Гладстон и т. д. Строго-то говоря, мне до них не было никакого дела, но привычка… Отдохнувши, я отправлялся гулять, или к знакомым на винт, или наконец в Малый театр. Я всегда охотно любовался на бюсты (не знаменитых людей, разумеется, а на женские бюсты). Ночью, как всякий благонамеренный гражданин, я любил покой… А тут беготня за докторами, в аптеку, туда и сюда, ночью до меня иногда доносился детский плач. Все это, конечно, ужасно расстраивало меня.
Положим, Лена все больше сама возилась с ребенком и днем и ночью, и эта возня, по-видимому, доставляла ей громадное наслаждение. Но иногда она чувствовала себя дурно, ей нужен был ночью покой, и мне в таких случаях приходилось не спать по целым часам. Я ходил с ребенком по комнате, укачивая его, – и злость меня разбирала на это несносное, надоедливое существо. Так, кажется, иной раз взял бы его да и хватил головой об стену… Но такое душевное помрачение, конечно, через мгновенье улетучивалось. Упоминается о нем лишь потому, что из песни слова не выкинешь. Я – человек не кровожадный, мне даже противно было раздавить прусака (таракана), и, уж конечно, прокурору я никогда не доставлю случая расточать его красноречие по обвинению меня в умерщвлении ребенка…
Много лет тому назад один известный профессор в своих публичных лекциях из анатомии и физиологии мозга говорил, что в головном мозгу есть такой нежный, чувствительный пункт, что если уколоть его булавкой, то смерть последует моментально. Интересный предмет… Где этот пункт – я теперь не помню. Но он есть, это – верно!..
Пускай глупцы толкуют о «врожденном» чувстве любви к своим детям, о «голосе крови» и тому подобной чепухе. Не скажу, чтобы я был зверь, изверг человеческого рода, но тем не менее к своему детищу я не только не питал никакого теплого чувства, но, напротив, – подумывал о том, как бы мне отделаться от него каким-нибудь благовидным манером. (Повторяю: не убийством. Хотя я – человек со слабостями и грешками, но на подобное-то злодейство я не способен.)
Тут вышел один случай… Не будь этого случая, так мне, разумеется, наплевать! Живи Саша у меня на квартире… тем более что Лена торжественно, чуть не под клятвой обещала, оправившись от болезни, совершенно избавить меня от обязанностей нянюшки и гарантировать мне спокойный сон по ночам, и послеобеденный отдых, и возможность повинтить во всякую данную минуту.
– Милый! Он у меня не будет плакать… Уверяю тебя! – успокаивала меня Лиса Патрикеевна.
Дело в том, что около того времени мне блеснула в будущем возможность устроить очень выгодное дельце. Познакомился я с одной богатой вдовушкой. По слухам, у нее было до шестидесяти тысяч капитала да в каком-то черноземном захолустье клочок земли в тысячу десятин. Вдовушка и сама по себе была аппетитна – довольно полная, лет тридцати пяти, брюнетка, с блестящими черными волосами, с пухлыми пунцовыми губками и так далее, а уж с денежной стороны она представлялась изумительно лакомым кусочком. Мне показалось, что она была неравнодушна ко мне, и я решился заняться ею…
Я рассуждал так: ребенок – вещественное доказательство, живая улика; он может связать меня по рукам и ногам. Не будь ребенка, мне было бы сравнительно легко сладить с Леной. Ну, пришлось бы вынести несколько неприятностей, выслушать ряд упреков… рыдания, слезы и стоны, как вообще довольно верно описывается в романах. Но ведь я же для того и мужчина, чтобы не поддаваться сентиментальностям, которые обыкновенно нашего брата до добра не доводят. Одним словом, мы с Леночкой разошлись бы без скандала, и я мог бы в качестве законного супруга преспокойно присосаться к моей черноземной вдовушке… Однажды вечером, когда я уже лежал в постели, мне пришла в голову блестящая мысль. На другой же день я стал приводить ее в исполнение.
Охотники на дрохв обыкновенно начинают издалека ездить кругом стада этих зорких, осторожных птиц, с каждым кругом все ближе и ближе подъезжая к своим жертвам, и наконец, когда дрохвы очутятся на ружейный выстрел, охотники, соскочив с дрог или прямо из экипажа, стреляют птицу…
Так и я начал издали подходы к своей «дрохве» и кстати, к слову – с грустным видом – стал заговаривать с Леночкой о том, что ребенок нас стеснит. Я до четырех часов в правленье, возвращаюсь домой усталый, «разбитый», «часто с головною болью» (поэтическая вольность!) и помогать ей не в силах; она с ребенком на руках, конечно, не может ходить на уроки в пансион. А если она не станет ничего вкладывать в хозяйство, то нам, пожалуй, придется туго, придется иной раз поголодать, и вся эта денежная неурядица может неблагоприятно отразиться на «бедном Саше». Поручить ребенка кухарке – рискованно; нанять няньку – нет средств. Мертвая петля, да и шабаш!.. И в то же время я намекал на то, что могу отвезти Сашу в имение к матери (мать моя в ту пору была еще жива и сидела в своем разоренном, полуразрушенном Михальцеве).
Леночка не хотела и слушать о разлуке с сыном. Ни боже мой! Ни за что на свете!.. Вот она ужо оправится. Сашурка окрепнет, тогда она отнимет его от груди, станет кормить коровьим молоком, – и ей будет можно снова приняться за уроки.
– Да когда же это будет? – возражал я. – А деньги наши убывают.
– Ах, Алеша! Погоди же немного… Какой ты, право!.. Видишь, как Саша еще слаб, да и я не в силах… – говорила Леночка, жалобно посматривая на меня и протягивая по одеялу свои исхудалые руки. (Она то несколько дней бывала на ногах, то опять ложилась в постель.)
Я пошел далее – и продолжал кружить вокруг «дрохвы».
Неужели она училась на счет народа и так развилась духовно лишь для того, чтоб закабалить себя в детской и в кухне, обратиться в мамку и в няньку… А что еще выйдет из Саши, – Бог весть! Разве мы редко видим, как у почтенных родителей бывают дети такие негодные, что родителям с прискорбием приходится отказываться от них? На иного балбеса родители затратят тысячи, а от него людям ничего, кроме горя… Неужели, говорил я, материнство превратило ее в «самку» (в худшем смысле этого слова) и совсем отрешило от общественных интересов? Неужели дальше свивальников и пеленок она уже ничего не видит в мире?..
Тут мне припомнились разные «книжки» и «статейки», которыми некогда зачитывались мои товарищи и за которые я тогда не дал бы гроша ломаного… потому что был глуп. А вот теперь мне и пригодились все эти «книжки» и «статейки». Я стал говорить Леночке об общем благе, о вековом долге народу, о служении идее, о том, что «обильною скорбью народной переполнилась наша земля», et cettera et cettera[3]. Леночка поколебалась… Я так и знал, – знал, чем можно пронять ее. Но все-таки она устояла. Возражение с ее стороны последовало то же: она поправится, примется за работу, а из Саши она вырастит «достойного гражданина».







