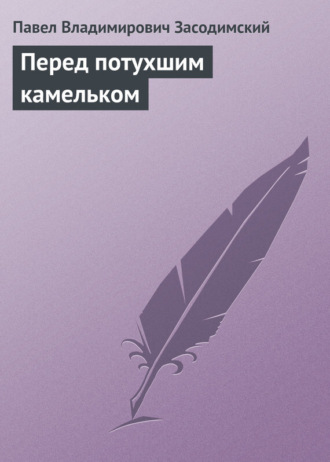
Павел Владимирович Засодимский
Перед потухшим камельком
Но, очевидно, Леночке было совестно. Она покраснела и не решилась посмотреть мне в глаза, пылавшие в те минуты таким огнем и одушевлением, каких хватило бы на сотню Кромвелей и Вильгельмов Теллей.
Я пошел еще дальше… Если она думает о «достойном гражданине», говорил я, то прежде всего нужно постараться о том, чтобы ребенок вырос здоровым и сильным. А в Петербурге, при здешнем климате, при здешней зараженной почве и воде, при фальсификации всех продуктов (за исключением яиц), начиная с молока и кончая вареньем на «глицерине», к тому же при наших условиях жизни – в трех маленьких комнатах – трудно, даже едва ли возможно, вырастить здорового человека. Я много и подробно говорил Леночке об ужасах английской болезни, об оспе, скарлатине, дифтерите, о кишечных, желудочных катарах и других болезнях, по-видимому на вечные времена свивших себе гнездо в Петербурге.
Разумеется, я иллюстрировал свою мысль блестящими примерами из жизни моих знакомых, то есть убийственно грустными фактами смертности в среде детей. С видом глубокого, искреннего сокрушения и тяжело вздыхая, я говорил о несчастных малютках, таких бледных и чахлых… Неужели ей не жаль петербургских детей? Если она хочет вырастить какую-нибудь нервную хворую дрянь, которую первый же порыв сквозного ветра может унести в могилу, то пускай она оставляет Сашу при себе, пускай тешит этою живой игрушкой свой материнский эгоизм.
Наконец-то!.. Я попал в цель. Леночка уже не могла энергично возражать мне, Леночка сдавалась. А я, не давая ей ни отдыха, ни срока, продолжал ковать свое железо. Я начал читать ей на сон грядущий газетные сообщения о размерах заболеваемости в Петербурге, о развитии той или другой эпидемии и т. п. Леночка слушала эти вести – это газетное memento mori[4] – и бледнела…
Иной чувствительный болван, пожалуй, заметит, что я подвергал Лену самым утонченным пыткам хуже всяких «испанских сапогов» и «нюрнбергских красавиц». Я мог бы возразить, что подобное сравнение не только не остроумно, но даже просто бессмысленно. На войне нет жестокостей. Между мной и Леной шла борьба, происходил поединок, причем я нападал, а она защищалась… я остался победителем – et voila tout[5].
С другой стороны, я не жалел красок при описании тех благ, что ожидали Сашу в деревне. Здоровая пища, отличное молоко – без подмесей, прекрасный воздух, сад, самый бережный уход за ребенком, наконец доктор в трех верстах и там же аптечка – одним словом, в том благодатном краю наш Саша, как сказочный Антей, наберется сил, вырастет здоровым, сильным, краснощеким, настоящим богатырем, и тогда уж можно будет делать из него какого угодно «гражданина» – во вкусе Чичерина или Марата.[6]
Ночи две Саша спал беспокойно и покашливал, днем плакал и «сучил ножками». На третий день утром Леночка не выдержала и сдалась окончательно. Прячась за самовар и украдкой глотая слезы (ей уже было известно, что я не терплю бабьих причитаний), дрогнувшим голосом она промолвила:
– Я уж, право, не знаю, Алеша… что мне делать! Не отправить ли в самом деле Сашу в деревню? Он как будто начинает хиреть…
– Конечно, он страшно похудел… стал совершенно зайчонок! Давно бы его следовало отправить… – поддержал я ее решимость.
– Только как мне быть!.. Милый, мне так жаль его! Он такой маленький и… и я так привыкла к нему!
И Леночка, как ребенок, закрыв лицо руками, горько зарыдала. Я старался успокоить, утешить ее.
– Там старухи… пожалуй, окормят его чем-нибудь… станут пичкать чем попало… – печально говорила она, стараясь подавить рыдания.
– Вот глупости! – возражал я. – Моя мать, слава Богу, умеет ходить за детьми… Я могу, кажется, служить недурным примером ее уменья вести детей…
Я выпрямился на стуле и, выпятив грудь, самодовольно усмехнулся.
– Теперь начало мая… – продолжала Леночка. – В июне или в июле я ведь могу съездить к твоей мамаше хоть ненадолго… только повидаться с ним?
– Что за вопрос! Конечно, можешь… – весело согласился я. – Хочешь, так вместе поедем!.. Возьму отпуск на месяц…
– Только, пожалуйста, Алеша, чтобы мамаша каждую неделю писала нам… ну хоть строк пять – десять… – заметила мне Лена.
– Ну, разумеется…
Участь Саши была решена… Леночка, очевидно, уже не колебалась, а только страдала при мысли о твердо принятом намерении… Уходя в то утро из дому и прощаясь с Леночкой, я почувствовал себя как-то неловко при взгляде на ее грустное лицо, такое измученное и бледное от бессонной ночи. Она всю ту ночь просидела над ребенком и проходила с ним по комнате. Я слышал из своей комнаты ее шаги и тихое баюканье, но мне хотелось спать и лень было вставать – идти к ней на смену… Глаза ее были красны, на лице следы слез.
Хоть мне и было неловко (не скажу, чтобы «совестно»), но я все-таки с живейшим любопытством наблюдал за Леной. Вивисекция – вещь чрезвычайно интересная для всякого мыслящего человека.
Я еще с детства отличался особенной склонностью к наблюдениям над животными. У нас в саду, за липовой аллеей, близ пруда, лягушек была масса. Как они вечером, бывало, примутся квакать, так на балконе просто неудобно было разговаривать… Заглушают!.. Вот я возьму, бывало, да палочкой и прижму лягушке лапу к земле – и пытливо смотрю, как она ежится и корчится от боли, старается вырваться. Или ударю ее, переверну на спину и палкой упрусь ей в брюшко… Дергает она беспомощно лапками, таращит на меня глаза, силится приподняться, вертит своею безобразной головой, – а я стою, наклонившись над нею, наблюдаю за ее судорогами и смотрю на ее вытаращенные глаза… Я проделывал свои опыты и наблюдения также над кошками, над щенятами… С годами моя любознательность развилась в этом направлении; с лягушек и тому подобной мелкоты я перенес свои опыты на человека, что, конечно, было уже гораздо интереснее…
Сашу начали отнимать от груди и приучать к коровьему молоку. Наконец я попросил у начальника трехдневный отпуск и взялся отвезти ребенка в деревню… Я велел прислуге нанять карету на Николаевский вокзал[7] и привести ее к подъезду. Лена очень долго прощалась с ребенком, как будто тот в самом деле что-нибудь понимал. Она почти все утро прощалась с ним… (По ее мутным, покрасневшим глазам и по измятому личику могу подозревать, что это прощанье началось еще с вечера и продолжалось всю ночь.)
Когда Сашу закутали в одеяльце, Леночка опять принялась прощаться с ним. Она несчетное число раз целовала его в губы, в щеки, целовала ему глаза, волосенки, плакала так горько-горько и своими слезами закапала Саше все лицо… Наконец на прощанье я дал Леночке Иудин поцелуй, схватил «дорогую ношу» и пошел… Леночке в тот день опять прихварывалось, и она ужасно жалела, что ей нельзя было поехать на вокзал. Лена уже с лестницы воротила меня…
– Постой, постой, Алеша! Иди-ка сюда!.. – сильно взволнованным голосом крикнула она мне.
Пришлось воротиться.
– Что такое? Забыла что-нибудь? – спросил я с досадой.
– Нет, нет… Я вот только… сию минуту! – растерянно бормотала она, обливаясь слезами.
– Мы опоздаем на поезд!
– Я не задержу, милый… Я сейчас!..
Бледною, дрожащею рукой она трижды перекрестила малютку, порывисто наклонилась над ним и опять впилась в него губами. Не нацеловалась еще досыта!..
– Ну, теперь неси… Бог с вами! Поезжайте! – говорила она сквозь слезы, а сама все продолжала цепляться за ребенка и не пускала нас.
Видя, что действительно дальние проводы – лишние слезы, я наконец со всевозможной осторожностью вырвал у Леночки свою «дорогую ношу» и пошел. Она уже не решалась более ворочать меня… Ну, признаться, такого обилия слез я еще ни разу не видал в жизни. Я готов был поверить, как это ни странно, что эта восемнадцатилетняя мать и в самом деле очень любила свое дитя…
День был ясный и теплый. В воздухе припахивало распускавшимся листом. Гуляющие – взрослые и детишки – почти сплошной толпой двигались по тротуарам. Там и сям были видны парни со связкой ярко-красных пузырей, поминутно норовивших сорваться с веревки и унестись в лазурную высь. Слышны были звуки шарманок, которых теперь совсем не слышно… Праздник весны был в самом разгаре… Я очень жалел, что Леночка сидит в комнате и не может воспользоваться такой прекрасной погодой: свежий воздух возвратил бы ее щекам румянец, блеск – ее глазам и сделал бы по-прежнему интересной…
Когда карета завернула за угол, я опустил стекло и крикнул извозчику:
– На Мойку… в воспитательный дом!
Я ни минуты не думал отвозить Сашу к моей матери: я очень хорошо знал ее взгляды на нравственность вообще и на женскую нравственность в особенности. Как бы она ни любила меня, но ни за что не признала бы любовницу моей женой, своей «невесткой», и назвала бы Леночку так, как принято попросту звать падших женщин. Разбираться в разных тонкостях было не ее ума дело. Легче было бы голыми руками выворотить с корнями пень из земли, чем сбить старуху с ее позиции. Заговори я с матерью хоть языком ангелов, она все-таки не приняла бы к себе в дом ни Леночку, ни нашего ребенка (только постаралась бы во что бы то ни стало взглянуть на них украдкой, заплатила бы за это удовольствие большие деньги, поплакала бы, может быть).
Устроив Сашу в воспитательный дом, я воспользовался трехдневным отпуском и уехал по Варшавской железной дороге на станцию Сиверскую к одним знакомым, уж давно приглашавшим меня к себе. Время провели приятно – перекинулись в картишки, ходили гулять в лес, любовались на живописные виды. Впрочем, лес на картинах художника Шишкина мне больше нравится, чем в действительности… В сиверских лесах было еще сыровато, и я загрязнил себе сапоги.
«И он мог еще гулять после того!..» – заметит на мой счет иной нервноразвинченный субъект. А что же мне было делать в такую прекрасную погоду?.. «Ведь все это ужасно жестоко… И неужели он не чувствовал угрызений совести?..» Вот это мило! Совесть… А за что же бы совести меня грызть?
Леночка сильно ошибалась; она мечтала служить разом двум богам. А между тем ей следовало или удержать при себе ребенка и сделаться нянькой и кухаркой, или расстаться с Сашей и снова приняться за учительскую деятельность. Что же я сделал такое ужасное? Какое же преступление я совершил? Пускай человек отрешится, если может, от всех предрассудков и заблуждений ума и чувства, и тогда он сам увидит, что я только возвратил обществу полезного члена. Если же произошло такое удачное совпадение, что, возвращая обществу хорошего работника, я в то же время возвратил себе любовницу и развязал себе руки по отношению к богатой вдовушке, то уж это – мое счастье… Саша! А что ж такое? Был ли бы он еще счастливее, оставшись с нами?.. Найдется ли в мире такой мудрец (человек искренний и правдивый), который положительно, вот сейчас же, ответит мне на этот вопрос без всяких «если» и «но» и смотря мне прямо в глаза? Да счастье-то что такое? Где оно, в чем оно? У каждого человека на этот счет ведь свой аршин…
Меня всегда удивляло, что на человеческом языке существует так много очень красивых, звучных слов, но притом совершенно бессмысленных. Вот хоть взять «угрызения совести»… Ведь от таких слов у иной несчастной старушонки последний волос на голове дыбом встанет. А если хорошенько разобрать все эти ужасные глаголы, то и окажется – ерунда.
Пушкин, например, – наш препрославленный певец женских «персей», «ручек» и «ножек» – говорит, что «совесть – когтистый зверь, скребущий сердце, незваный гость, докучный собеседник, заимодавец грубый (?)… ведьма, от коей меркнет месяц (?) и могилы смущаются и мертвых высылают!..» Что ж это такое, как не набор фраз? Я готов голову прозакладывать за то, что «угрызения совести» выдумали романисты. Эти канальи – большие мастера сочинять для потехи всякие страшные и жалкие слова. Меня, например, совесть никогда не мучила, хотя и я, конечно, по слабости, присущей человеческой натуре, поступал иногда дурно, не совсем правильно. В часы ночной бессонницы «когтистее» клопа или блохи никакой зверь меня не кусал…
На третий день вечером я благополучно возвратился домой. Расспросам о Саше, я полагаю, не было бы конца, если бы я насильно не прекратил их.
– Извини, голубушка! Устал ужасно… и спать хочется до смерти! – сказал я, зевая и потягиваясь.
Впрочем, ночь я спал дурно…
Я попросил одну свою «старую» тверскую знакомую каждую неделю писать мне о «милом Саше», о том, что он здоров, растет не по дням, а по часам, аукает и, кажется, все уже понимает, только не говорит. Я предупредил ее, в чем дело; она должна была, по возможности, подделываться под руку моей матери, то есть писать старинным прямым почерком и подписываться фамилией моей матери. Я редко переписывался с матерью и рассчитывал, что Лена не заметила хорошо почерка моей старухи и не помнит его.
Через неделю пришло письмо и невыразимо обрадовало Леночку…
Она той порой стала заметно поправляться, появился румянец. Она опять стала делаться интересной… О Саше, конечно, она болтала постоянно, несколько раз перечитывала подложное письмо, составленное, впрочем, довольно мастерски, вязала Саше чулочки, шерстяные башмаки, какие-то белые дурацкие колпачки, вышивала ему к зиме одеяльце – одним словом, вся жизнь ее наполнялась мыслью о Саше. Впрочем, это меня не касалось, чем бы дитя ни тешилось… Леночка была счастлива или по крайней мере спокойна – и прекрасно!
– Он уж, может быть, теперь говорит: «Ма-ма-ма!» – соображала Лена, и я вполне разделял эту ее сладостную надежду.
В то время когда все шло отлично, Леночка успокоилась и вдовушка продолжала делать мне глазки, вдруг дернуло мою тверскую знакомую захворать; она укатила куда-то на юг, и письма о Саше прекратились. Первую неделю Леночка еще довольно терпеливо ждала письма, а затем загрустила и стала приставать ко мне:







