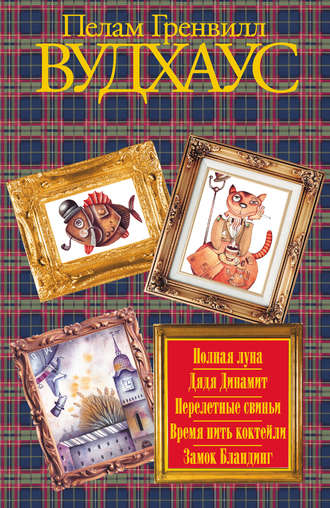
Пелам Гренвилл Вудхаус
Полная луна. Дядя Динамит. Перелетные свиньи. Время пить коктейли. Замок Бландинг (сборник)
4
Комната ее, соседняя с комнатой Типтона, выходила не в парк, а на луга. Туда она и смотрела со своего балкона, пытаясь обрести утешение в этом мирном пейзаже. От перелесков и кущ она ждала того, чего ее сосед некогда ждал от уток.
Но когда дух сломлен, толку от них мало; с усталым вздохом вернулась она к себе – и тут же взвизгнула. В кресле кто-то сидел.
– Не хотел беспокоить, – приветливо сказал Галли. – Ты размышляла, дорогая. Тебе показалось, что я вор?
– Мне показалось, что это Фредди.
Галли поправил монокль и заметил, серьезно на нее глядя:
– Тебе повезло, что это не он. Ожерелье валялось на столе. Да, ты могла все испортить! Я его взял. Дорогая моя, неужели ты не поняла, что оно для тебя значит?
Пруденс устало махнула рукой, как христианская мученица, которой приелись львы:
– Ничего оно не значит. Мне на все наплевать, если со мной нет Генри.
Галли встал и погладил ее по голове, хотя для этого пришлось покинуть кресло. Однако смотрел он на нее озадаченно. Он думал, что она умнее.
– Будет и Генри, – сказал он. – У нас в руках талисман. Мы можем диктовать оппозиции любые условия.
Он вынул монокль, протер носовым платком, вставил обратно.
– Давай я расскажу, что было после твоего ухода. Плимсол увел Веронику в сад, мы остались. Слово взял Фредди. Он прекрасно описал нам, что сделает с ним Агги. Гермиона приняла это холодно, заметив, что у него болезненное воображение. Мой острый ум все спас: вот и хорошо, больше ее ничего не интересует. На ее взгляд, инцидент исчерпан.
– А разве это не так?
– Было бы так, если б не Фредди. Америка что-то с ним сделала. Мастер! Мы слушали как зачарованные.
– Что же он сказал?
– Сейчас, сейчас. Он сказал: если мы не вернем ожерелье, он все откроет Типтону, мало того – признает, что это его подарок. Вероятно, при этом он потеряет концессию, но Бог с ней, один он страдать не хочет. Успех был огромный. В жизни не видел Гермиону такой синей.
Пруденс восторженно глотнула воздух.
– Ох! – сказала она. – Кажется, понимаю.
– Так я и думал. На Гермиону больно смотреть. Заглянул Кларенс и заметил для верности, что он сказал Плимсолу насчет этой помолвки, Эгберт просил. Зашел и Эгберт и утверждал, что он просил не говорить.
Пруденс глядела в потолок, видимо, благодаря небо за такую благосклонность к деве в беде.
– Дядя Галли, это же очень хорошо!
– Еще бы.
– Они разрешат мне выйти за Генри!
– Именно. Это наша цена.
– Мы не уступим!
– Ни на йоту. Подлезет к тебе – посылай к своему поверенному.
– Они вас замучают.
– Дорогая моя, я немолод, меня мучили люди и почище. Но не преуспели. Меня минуют просьбы, словно это легчайший воздух.
– Шекспир?
– Очень может быть. Уж он скажет. Великий человек.
Пруденс радостно вздохнула:
– Нет, это вы великий человек, дядя Галли. Повезло Генри с крестным!
– Я тоже так думаю. Есть и другая школа. Ну, я пошел, спрячу его получше. Придумал прекраснейшее место, ни кто не догадается. А потом погуляем.
– Я бы рада, но придется написать Генри. – Вдруг ее поразила новая мысль: – Фредди жалко!..
Мысль эта посетила и Галахада.
– Да, немного, – признал он. – Что ж, не разбив яиц, не сделаешь яичницы. Это не Шекспир. Кажется, я. А может, слышал где-то. И потом, ему недолго мучиться. Гермиона сложит оружие, ты уж мне поверь.
Глава 10
1
Если бы Пруденс лучше слышала – или, точнее, если бы она не приоглохла с горя, – она бы уловила с балкона какой-то короткий крик. Если бы она пристальней глядела на луга и кущи – точнее, если бы она не приослепла от слез, – она бы заметила, что издал его Генри Листер, сидевший на пеньке у второй кущи справа.
Но она не увидела его, не услышала, хотя он кричал и махал руками словно семафор, и ему пришлось смотреть, как она исчезает в доме. Теперь ему оставалось запомнить, где ее окно, и пойти на поиски лестницы.
Предположив, что он понуро ушел из гостиной, Фредди не ошибся. Задержавшись лишь для того, чтобы свалить кресло и еще один столик, он покинул комнату. О багаже он мог не беспокоиться, так сказала сама хозяйка.
Чувства человека, приехавшего надолго, а изгнанного через двадцать минут, по необходимости хаотичны, но одно Генри знал – времени у него бездна. Шел шестой час, день растягивался до бесконечности. Чтобы занять его, он пошел побродить, инстинктивно избегая лужаек перед замком, и добрался наконец до упомянутой кущи, где и присел поразмышлять о том, как бы увидеть Пруденс.
Судьба настолько причудлива, что он увидел ее в первые же минуты. Да, она больше напоминала кукушку в часах, но он ее видел. И, как мы уже говорили, пошел раздобыть лестницу.
Ничего удивительного в этом нет. Ромео подумал бы о том же, и даже Чет Типтон, если Галли не ошибся. Чем Генри хуже их? Ничем. Любой влюбленный, увидев на балконе возлюбленную, захочет присоединиться к ней.
В английских усадьбах то хорошо, что лестницу где-нибудь да найдешь. Генри попалась прислоненная к дереву. Лестница, даже средних размеров, – нелегкое бремя. Он нес ее легко, едва ли ею не играя.
Он прислонил ее к стене, поставил потверже и начал взбираться вверх. Любовь окрылила его. Легко, как перышко, достиг он балкона, вбежал в комнату – а снизу на все это смотрел полковник Уэдж, решивший прогуляться, чтобы усмирить разум, кипящий после встречи с лордом Эмсвортом.
Если бы подошли к нему и спросили: «Полковник Уэдж, испил ли ты горькую чашу?» – он бы резонно ответил: «Уж кто-кто, а я ее испил». Но нет, его ожидало еще одно испытание – какой-то взломщик без зазрения совести лезет в дом, не дождавшись ночи!
Вот почему давление его очень огорчило бы Э. Дж. Мергатройда. Ночью – да, рано утром – лезь, бывает. Но когда обитатели замка еще не переварили пятичасовые бутерброды… Полковник содрогнулся от негодования и дернул лестницу.
Она растянулась на траве – он побежал на генеральные квартиры, просить подкрепления.
2
После дядиного ухода Пруденс не сидела в комнате. Влюбленная девушка, терзаемая совестью, пишет так же быстро, как писал лорд Эмсворт на вокзальном телеграфе. Кончив письмо и пометив: «Г. Листеру, эскв.», она лизнула конверт и запечатала задолго до того, как сам эсквайр подошел к лестнице.
Теперь надо было найти горничную, с которой она успела завязать нежную дружбу, и подкупить ее; так что она пошла на поиски.
Вот почему, войдя в ее комнату, Генри никого не обнаружил. Точнее, так ему показалось, но вскоре он понял, что главное есть. На столе лежало письмо, которое автор благоразумно оставил до конца переговоров. При нынешнем положении в замке опасно носить с собой письма, когда выходишь на линию противника.
Генри Листер дрожащими пальцами открыл конверт и прочитал слова: «Мой дорогой, золотой, миленький Генри!» Почувствовал он примерно то, что чувствовал на футбольном поле, когда откормленные члены другой команды вставали с его живота. Разум подсказал ему, что, если девушка тебя не любит, она так не напишет.
Письмо было просто прекрасное – ни прибавить, ни убавить. Оно было настолько лестным, что кто-нибудь, скажем – леди Гермиона, решил бы, что речь идет о ком-то другом. Даже сам он, перечитав его сорок раз, удивлялся, что богоподобное создание – это он и есть.
Правда, к концу тон немного менялся. От чистой лирики он сворачивал к сводке военных действий. Речь заходила об ожерелье, но Генри Листер читал дивную сагу с не меньшим восторгом, признавая, что случилось самое истинное чудо. Он тоже пожалел было Фредди, который нечаянно превращался в футбольный мяч судьбы; но утешился той же мыслью, что и Галахад, а именно – насчет яичницы. Мало того, он тоже решил, что леди Гермиона скоро сдастся. Казалось бы, ничто не омрачало его радости.
Однако кое-что ее омрачило. За дверью послышались голоса, один из них – вышеупомянутой леди Гермионы.
– Ты уверен? – говорила она.
Ответил ей голос незнакомый, ибо Генри Листер еще не имел чести познакомиться с Эгбертом Уэджем.
– Да, старушка. Прислонил огромную лестницу и лезет, как фонарщик. Сам видел. Вон она, пойдем, посмотришь.
Какое-то время было тихо – видимо, говорившие смотрели из коридорного окна. Потом заговорила леди Гермиона:
– Поразительно! Да, это лестница.
– Полез на балкон, – сказал полковник, словно один из Капулетти, увидевший Ромео.
– А слезть не может.
– То-то и оно. Если бы он спускался по лестнице, мы бы его встретили. Значит, он в одной из комнат. Обыщем.
– Эгберт, не надо!
– Э? Что? Револьвер при мне.
– Не надо! Подожди Чарльза и Томаса. Что-то их нет.
– Хорошо, старушка. Спешить некуда. Мерзавец от нас не уйдет.
Когда беды обступили со всех сторон, рано или поздно наступает мгновение полной загнанности. Вспомним кабанов. Бывает это у индейцев. Пришло и к Генри.
Он не знал, кто такие Чарльз и Томас. Были они, заметим, лакеями и вносили в гостиную на наших глазах сливки и сахарную пудру. Сейчас, в людской, они без особого пыла слушали Биджа, который объяснял им, что именно от них требуется. Объяснял он обстоятельно, но они полагали, что странно ловить воров, когда самое время для чая с бутербродами.
Генри их не знал и узнать не хотел. Человек его силы и храбрости не испугался бы сотни Чарльзов с Томасами, тысячи полковников – боялся он леди Гермионы. Она побуждала его к действию, словно кактус, положенный в брюки.
Прежде всего он запер дверь. Потом поспешил к балкону. Полковник Уэдж считал, что мерзавцу не уйти; но он не учел, как воздействует на разум его супруга. Вдохновленный ею, Генри быстро понял, что на стенах бывают водосточные трубы, а там одну и увидел. Сердце у него упало. До нее было футов десять.
Для дрессированной блохи это пустяк. Раскланявшись с публикой, улыбнувшись друзьям в первом ряду, отряхнув с усиков пыль, она бы, конечно, воскликнула: «Алле-гоп!» – и прыгнула. Генри этого не мог. Когда-то один молодой человек летал на особой трапеции – но сколько лет он тренировался! Он не Генри.
Однако надежда не исчезла. Стену замка всплошную увивал плющ, на вид – успокоительно-крепкий. Но кто его знает! Покрасоваться всякий может, ты покажи на деле.
Так размышлял Генри, понимая, что в случае неуспеха окажется на траве, с виду жидкой и неприветливой. Он так и видел, что лежит бездыханный, словно человек из стихов Лонгфелло под названием «Excelsior».
Он взвешивал «за» и «против», когда услышал женский голос:
– Дверь закрыта. Он здесь. Взломайте ее, Чарльз!
В конце концов лежать бездыханным на траве – еще не самое худшее. Генри перекинул ногу через балконные перила и коснулся ею плюща.
Одновременно с этим Типтон, пробежав мимо стоявших в коридоре, юркнул к себе, словно кролик в норку.
3
Радостно хрюкнув, Типтон опустился в кресло. Сторонний наблюдатель заметил бы, что под пиджаком у него слева – какая-то штука, вроде большой шишки.
Когда Генри Листер, узнав все, что нужно, о Чарльзах, Томасах и револьверах, вышел на балкон и начал разглядывать плющ, Типтон покинул комнату Галахада, осторожно, словно кабан, который еще не загнан, но хотел бы не привлекать лишнего внимания. Он бежал по коридору, уже на втором этаже заметил группу, включавшую леди Гермиону, полковника, дворецкого и лакеев. То, что они глядели на соседнюю дверь, вызвало в нем не любознательность, но благодарность. Они стояли спиной к нему.
Теперь, в безопасности, он вынул фляжку, нежно на нее посмотрел и сделал пробный глоток. Кабана он еще напоминал, но не загнанного, а прибывшего на источники вод. Он облизнул губы.
Благосклонность переполняла его. Он был рад, что предоставил концессию Фредди, истинному брату (не змию). Почему, в сущности, нельзя подарить сестре какую-то безделушку?
Но избавление от нелепой враждебности, равно как и чувство, что ты обручен с единственной девушкой в мире, еще не подвигли бы его на кражу фляжки. Была и третья причина: он знал, что долина сени смертной позади. Сам Э. Дж. Мергатройд с чистой совестью сказал бы: «Здоров».
Вы смотрите – да, он хлебнул для смелости и увидел свинью. Но какую? Настоящую. ЕЕ видели все. Будь там Э. Дж. М. – и он бы увидел, а к тому же с удивлением узнал бы, что нет никаких лиц. Впервые за время испытания Типтон выпил – а лица нет.
Что это значит? Поворот. Чистый воздух сделал свое дело. Он здоров и может пить сколько душе угодно.
Собираясь продолжить, он заметил краем глаза что-то странное и посмотрел получше. Лицо он недооценил. Что его раньше задержало, трудно сказать – наверное, дела; но, решив, что оно отстанет, Типтон ошибся.
Оно прижалось к стеклу и пристально на него глядело, словно хотело что-то сказать.
4
Глядело оно потому, что Типтон в окне был для него тем, чем был парус для Робинзона. Сказать же оно хотело, что не прочь войти.
Когда ты лезешь по плющу к трубе, может случиться, что, увидев трубу вблизи, ты в ней разочаруешься. Генри усомнился в ней, подобно тому как прежде сомневался в плюще.
Поэтому, увидев Типтона, он изменил весь свой план. В приятном обитателе замка он сразу признал длинного и пугливого обитателя рододендронов, но понадеялся, что в особых обстоятельствах он переборет свой страх. По-видимому, он застенчив, чурается незнакомых, но если речь идет о жизни и смерти – великодушен и прост.
Тем самым он может впустить его и дать скромное прибежище – скажем, под кроватью, – пока пыл погони не угаснет в сердцах загадочного Чарльза, таинственного Томаса, неопознанного типа с револьвером, а главное – леди Гермионы. Ни мешать, ни навязывать знакомство он, Листер, не станет. Если хочет, пусть не здоровается и впредь.
Все это нелегко сообщить через закрытое окно, а потому, для начала, Генри приложил к стеклу губы и сказал «Эй!».
Именно это междометие ввергло Типтона во тьму и мрак, напомнив ему о недавней встрече. Ладно, пускай эти лица молчат, если иначе нельзя, но издавать звуки – нет, это слишком! Он взглянул на Генри именно тем взором, каким глядел на мучителей святой Себастьян.
Листер же чувствовал то, что чувствует осажденный гарнизон, когда морская пехота США прибудет – и уйдет, повернувшись на пятках. Неохотно ухватившись за трубу, он стал спускаться, размышляя о том, что никогда больше не понадеется на длинных, тощих типов. «Чем толще, тем лучше», – думал он, осторожно спускаясь по трубе.
Труба не подкачала. Казалось бы, что ей стоит подшутить, отделившись от стены, и отфутболить его, словно летучую звезду? Но нет, она не колыхнулась. Генри понемногу ободрился и даже возвысился духом. Да, Пруденс он не застал, зато его не застали невидимый Томас, неведомый Чарльз, тип с револьвером, а главное – леди Гермиона. Наверное, они очень глупо себя чувствуют.
Дух вознесся выше всего, когда он тронул ногой твердую землю. Но ненадолго. Острый запах свинарника хлынул на него, и кто-то сказал высоким голосом:
– Уо уы ууу уеуеуе?
5
Голос принадлежал немолодому и невысокому человеку в вельветовых штанах. Ему было лет сто, а может, восемьдесят, но беды и заботы рано его состарили. Для Генри он был незнакомцем, а вот леди Гермиона сразу бы узнала в нем свинаря. Да, это у него не было нёба. Не всем же их иметь, в конце концов.
Однако, если вы слезаете по трубе, лучше, чтобы у стоящих внизу оно было. Легче понять друг друга. Генри Листер не понял Эдвина Потта.
Тем самым он не ответил, а свинарь, приняв на себя всю тяжесть диалога, сказал: «Уауа уа, уа?», имея в виду: «Поймал вас, а?» Генри, не ответив снова, попытался его обойти, словно корабль, обходящий буек.
Однако Эдвин Потт, сказавши «Поймал вас, а?», поступил соответственно, то есть схватил беглеца за пиджак. Тот попытался вырваться – и не смог.
Когда-то мы сказали, что Генри был храбр и силен. Это правда. Повстречайся он с бешеным быком, он бы знал, что делать. Но перед ним, одной ногой в могиле, стояло жалкое существо, с которым возможны только рыцарство и милость. Порекомендовать ему хорошую микстуру – да, пожалуйста. Дать ему в зубы – вот это нет.
Рыцарственно, милостиво, но тщетно Генри потянул пиджак. Ситуация, как говорится, была тупиковой. Листер хотел вырваться – и не мог. Потт хотел позвать на помощь, но издавал тонкий звук, похожий на посвист газа. (Голосовые связки он сорвал, пытаясь воззвать к толпе в «Гербе Эмсвортов», защищая консерваторов.)
Именно в этот натюрморт вписался полковник Уэдж со своим револьвером.
Предполагая, что он его провел, Генри прискорбно ошибся. Капитана – да, майора – не исключено, но не полковника. Мысль о трубе посетила Эгберта Уэджа, когда Чарльз начал со вкусом взламывать дверь (какой лакей не рад поломать что-нибудь хозяйское?).
– Руки вверх! – крикнул полковник. Он хотел прибавить «негодяй», но забыл это слово.
– Уауо уа! – заметил Эдвин Потт, и полковник, неплохой лингвист, понял, что слова эти означают «Это я!».
– Молодец! – сказал он. – Так держать. Сейчас загоню его в дом.
Генри это предвидел, но все же закричал.
– Молчать! – пролаял полковник. – На-ле-во кругом! Шагом марш! Револьвер заряжен.
Шествие обогнуло замок, направляясь к террасе. Галахад, находившийся там, ощутил специфический запах и очнулся от забытья. Увидев Генри, полковника и Потта, он удивился.
– Господи, это Генри! – воскликнул он, укрепляя в глазу монокль. – В чем дело?
Удивился и полковник. Он не знал, что взломщики вращаются в таких кругах.
– Генри? – спросил он. – Ты что, знаком с ним?
– Знаком? Да я его носил на руках!
– Не может быть, – сказал полковник, окинув взломщика взглядом. – Он куда сильнее.
– Он был еще маленький, – объяснил Галли.
– Маленький? Ты что, знал его в детстве?
– И очень близко.
– Какой он был?
– Просто прелесть.
– Значит, изменился, – печально признал полковник.
– Уо уо уа, – заметил Потт.
– Потт его поймал, – перевел полковник. – Он слезал по трубе.
Генри счел нужным вмешаться:
– Я лазил к Пру. Она стояла на балконе, и я притащил лестницу.
– Правильно, – одобрил Галли. – Хорошо поговорили?
– Ее не было. Она мне оставила письмо. Все в порядке, она меня любит.
– Господи! – воскликнул теперь полковник. – Это про него говорила Гермиона?
– Да, – отвечал Галли. – Это демонический друг нашей племянницы.
– А, черт! А я думал, взломщик. Простите.
– Не за что, не за что.
– Вы, наверное, перепугались.
– Ничего, ничего.
Полковник Уэдж питал склонность к романтике. Кому приятно, думал он, когда у тебя утащат из-под носа невесту и запрут в замке? Любил он и храбрость. Доверие к лестницам и трубам ему понравилось.
С другой стороны, он был хорошим мужем, а жена этого субъекта не любила, это он точно знал.
– Вот что, Галли, – сказал он, – лучше я пойду. Ты меня понял?
Галахад его понял и даже одобрил:
– Да, Эгберт, не вмешивайся. Беги и забери своего спутника. Мне надо кое-что сказать Генри.
Полковник ушел, уводя Потта, и Галли стал серьезен.
– Генри, – начал он, – случилась неприятная вещь. А, черт!
Это он прибавил, потому что на террасе появился Типтон Плимсол. Генри оглянулся и тоже увидел тощего типа, нарушившего простейшие законы гостеприимства. Лицо его омрачилось. Как правило, он был добродушен и терпим, но есть же пределы!
Взгляд у того осветился; он понял: люди здоровые просто проходят через этих призраков. Он сам читал. Результаты блестящие. Призраки теряются – и в переносном, и в прямом смысле слова.
Препоручив душу Богу, он наклонил голову и пошел на Генри.
– Ой! – сказал тот.
– О-ох! – сказал Типтон.
Трудно сказать, кто удивился больше, кто больше рассердился. Поскольку Генри переводил дух, первым заговорил его противник.
– Да он настоящий! – обратился он к Галахаду. – Отвязаться от него не могу! Куда он только не совался – и в бар, и в эти кусты… Только что смотрел в мое окно, висел, заметьте, в воздухе. Если он думает, что я это буду терпеть, – сколько можно!
Галахаду снова пришлось лить масло на взбаламученное море.
– Это Генри вы все время видите? – сказал он. – Поразительно! Он мой крестник. Генри Листер. Генри, перед то бой Типтон Плимсол, племянник моего старого друга. Когда вы встретились впервые? В отеле «Баррибо»?
– Он смотрел в бар.
– Я выпить хотел, – сообщил Генри. – Я шел жениться.
– Жениться? Вот почему вы мотались у регистратуры?
– Да.
– Черт знает что!
– Все это легко объяснить, – вмешался Галли. – Его невесту, мою племянницу, схватили и заточили. Он последовал за ней.
Типтон совершенно смягчился, он даже улыбнулся, но нелегкое воспоминание снова насторожило его.
– А зачем эта мерзкая борода? – поинтересовался он.
– Маска, – объяснил Галли. – Камуфляж. А в окно он смотрел, потому что лез от Пруденс. Она ваша соседка.
– Да, – подтвердил Генри. – Он меня не впустил.
– О чем сожалеет, – предположил Галли. – Помню, мой любимый друг, по прозванию Хобот, часто видел лица в окне и убегал, как ошпаренная кошка. К несчастью, он умер. Цирроз печени. Так что бывает. Честно говоря, мы не виним Плимсола.
– Не виним, – сварливо согласился Генри.
– Надо ставить себя на чужое место, – продолжал Галли. – Что он еще мог сделать?
– Вроде бы ничего, – согласился Генри немного приветливей.
Что до Типтона, он забыл и простил. Улыбка вернулась и так сияла, что заменила бы вечернее солнце, если бы ему надоело освещать террасу.
– Нет, какое бремя свалилось! – вступил он в беседу. – Вы не представляете, как я мучился! Чуть что, глянь – эта пако… в общем, физиономия. Я бы больше не выдержал. Теперь, когда я женюсь…
– Вы женитесь?
– А что?
– Поздравляю!
– Спасибо, старик!
– Желаю счастья, старик.
– Это уж точно. Так вот, теперь, когда я женюсь, я буду пить только под Новый год…
– Конечно, – вставил Генри.
– …и по большим праздникам.
– Естественно.
– Но приятно знать, что опасности нет. Как-то глупо дуть эту воду, если другие пьют коктейль. Хорошо, что я на вас наскочил.
– Именно, наскочили, – заметил Генри.
– Ха-ха, – откликнулся Типтон.
– Ха-ха, – поддержал его новый друг.
Типтон хлопнул его по спине; он хлопнул Типтона. Галахад умилялся, глядя на эту сцену. Потом он спросил, не обессудит ли Типтон, если он отведет в сторону своего крестника. Типтон ответил: «Что вы, что вы!» Галли обещал, что они обернутся в минуту. Типтон сказал на это: «Сколько угодно, сколько угодно».
– Генри, – сказал Галли, когда они отошли, – хорошо, что вы подружились с Плимсолом. Теперь все зависит от него.
– В каком смысле?
Монокль затуманился:
– Когда он пришел, я говорил, что случилась неприятность. Пру хотела взять деньги на гостиницу у моего брата Кларенса. С этим ожерельем мы могли диктовать. Она про него написала?
– Да.
– Вот. Могли диктовать. Но я его потерял.
– Что?!
– Его украли. Захожу к себе – его нет.
– Господи!
– Взывайте не к Господу, а к Гермионе. Или она украла, или… Не важно. Деньги надо взять у Плимсола.
– Я не могу. Мы едва знакомы.
– Верно. Но он очень рад, что вы не призрак, и сделает что угодно. Поговорю с ним я. Да я уламывал таких букмекеров! Ничего, справлюсь.







