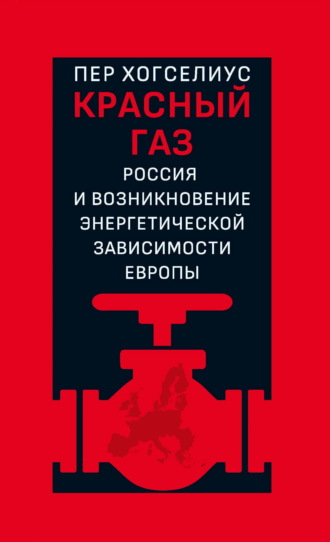
Пер Хогселиус
Красный газ. Россия и возникновение энергетической зависимости Европы
3. Создание экспортной стратегии
Из Центральной Азии в Сибирь
Из всех газоносных регионов Советского Союза самой богатой оказалась Западная Сибирь. Однако в то время, когда страны Западной Европы только начинали рассматривать возможность импорта красного газа, еще никто не знал, что именно в этом регионе сосредоточены практически неисчерпаемые запасы природного газа. Еще в 1959 г. было известно только о двух небольших газовых сибирских месторождениях, запасы которых оценивались в скромные 42 млрд кубометров. Советские геологи не теряли надежды обнаружить там еще большие резервы, но в то время не представлялось возможным делать какие-либо прогнозы по поводу того, станет ли сибирский газ стратегически важным сырьем. Руководитель Главгаза Алексей Кортунов по-прежнему направлял усилия на развитие других перспективных регионов, богатых газом. В первую очередь это касалось Центральной Азии, а также Украины, Кавказа и Волжского района. В 1961 г. Алексей Сорокин, заместитель Кортунова по международным связям, выступая на проводимом в Стокгольме Международном газовом конгрессе, заявил, что «крупнейшей перспективной провинцией в отношении газоносности является Прикаспийская низменность»1. Когда вскоре после этого СССР посетила крупная делегация из США, ее членов аналогичным образом проинформировали, что Советский Союз в этом вопросе возлагает самые большие надежды на азиатские республики. В обоих случаях о газовых запасах Сибири упоминалось лишь вскользь.
В январе 1962 г. Главгаз разработал перспективный план развития газовой промышленности на ближайшие 20 лет. Хотя в результате изысканий, проведенных в Сибири, уже были обнаружены некоторые перспективные газовые месторождения, сформировалось мнение, что в течение этого периода сибирский газ будет играть относительно скромную роль «из-за отдаленности будущих центров добычи газа от потребления»2. Ожидалось, что к 1980 г. газ из Сибири сможет обеспечить около 10 % общей потребности в советском газе. Как и раньше, более перспективным регионом считалась Средняя Азия. Предполагалось, что газ, полученный со среднеазиатских газовых месторождений, будет составлять 25 % общей добычи советского газа, а оставшаяся часть будет поступать из освоенных газовых регионов – Украины, Кавказа и Центральной России.
Однако примерно в это же время было открыто гигантское газовое месторождение в Сибири. Оно располагалось рядом с деревней Пунга, на левом берегу Оби, недалеко от еще одного, обнаруженного ранее, гораздо менее крупного месторождения. Вскоре после этого, в апреле 1962 г., были открыты и другие месторождения, расположенные на расстоянии нескольких сотен километров на север, в районе реки Таз. Затем одно за другим в этом регионе были обнаружены новые месторождения газа.

Рис. 3.1. Коммерческие запасы советского природного газа в период с 1950 по 1966 г. (на 1 января, тыс. кубометров, категории А+В в советской терминологии) Источник: по данным журнала «Газовая промышленность».
После открытия новых запасов газа Главгаз начал утверждать, что западносибирский газ имеет «огромное народнохозяйственное значение». Увеличение количества новых газовых месторождений в Сибири называлось трендом, представляющим «принципиальное значение». К концу 1963 г. разведанные и выявленные запасы природного газа составляли уже 150 млрд кубометров4. Эти новые месторождения появились как нельзя кстати, особенно учитывая тот факт, что начиная с 1962 г. стала проявляться вызывающая беспокойство тенденция: коммерчески доступные газовые запасы страны, которые вплоть до 1960 г. ежегодно увеличивались по экспоненте, начали демонстрировать замедление темпов роста. Появилось ощущение, что возникшая стагнация может помешать достижению впечатляющих целей, заявленных в хрущевском двадцатилетием плане развития на период до 1980 г., в котором ставилась задача по добыче в целом не менее 720 млрд кубометров природного газа.
Открытие новых газовых месторождений в Сибири могло стать основой для устойчивого роста объема добычи. По утверждению Главгаза, «напряженность топливного баланса районов европейской части страны и Урала может быть смягчена только дальнепривозными видами топлива, среди которых природный газ севера Тюменской области должен занять ведущее место»5. Предполагалось, что это будет исключительно полезным для страны в целом, поскольку такой подход позволил бы сэкономить крупные объемы угля и нефти.
Главгаз при поддержке Министерства геологии и региональных партийных организаций Тюмени доказывал, что следует приступить к осуществлению крупной инвестиционной программы, которая позволит в короткие сроки превратить Сибирь в новое газовое Эльдорадо. Однако эта идея не вызвала всеобщего энтузиазма. Должностные лица и аналитики, участвовавшие в обсуждениях, придерживались кардинально различных мнений по поводу того, как использовать новые месторождения. Главгаз хотел незамедлительно начать интегрировать сибирские газовые месторождения в общую советскую систему газоснабжения, создание которой уже было близко к завершению. При этом предполагалось строительство нескольких магистральных газопроводов, которые протянулись бы до Москвы и до других европейских регионов. Однако некоторые влиятельные чиновники выступали в защиту более постепенного подхода к эксплуатации газовых месторождений, а также настаивали на создании региональной инфраструктуры, благодаря чему, вместо того чтобы поступать на Запад, газ в основном использовался бы для нужд самой Сибири и для промышленного Урала. Сторонниками такого подхода являлись Государственный комитет по планированию – Госплан (это означало, что отношения между Байбаковым и его прежним протеже Кортуновым ухудшились), а также конкурирующие отрасли советского топливно-энергетического комплекса. Угольная и нефтяная отрасли промышленности почувствовали угрозу в связи с радикальными планами Кортунова в Сибири. У них были опасения, причем вполне оправданные, что расширение газовой отрасли будет происходить за их счет. Отношение Министерства энергетики также было весьма скептичным, поскольку его аналитики планировали затопить для выполнения гидроэлектрических задач большую часть северотюменских территорий, богатых газом, и в этот проект никак не вписывалась крупномасштабная добыча газа в той же местности6.
Оппоненты, или «консерваторы», считали, что нет никой необходимости, чтобы доля природного газа в общем топливном балансе СССР увеличивалась сверхбыстрыми темпами, запланированными в хрущевском 20-летнем плане развития. Они утверждали, что Центральная Азия и европейская часть России через пару десятилетий сами смогут удовлетворять потребности в газе. Чтобы подкрепить свои аргументы, консерваторы указывали на наличие огромных сложностей, которые могли возникнуть при добыче газа, а также во время строительства газопровода в Западной Сибири – в регионе, географические и климатические условия которого требовали совершенно новых технологических и логистических подходов. Приблизительно 70 % тюменского региона занимали практически непроходимые болота. Другие ее территории находились в зоне вечной мерзлоты, и регулярные каналы связи там отсутствовали. Мало кто хотел работать в таких условиях. Тюмень, по их словам, была далеко не раем7.
Неудивительно, что в столь сложных условиях большинство имевшегося оборудования становилось бесполезным. Таким образом, необходимо было разрабатывать новые методы и искать решения различных проблем, включая производство новых стальных сплавов для строительства газовых трубопроводов. Трудности, с которыми сталкивались сталелитейная и машиностроительная отрасли промышленности, пытаясь поспеть за стремительно растущими потребностями газовой промышленности, уже были подробно описаны. Не было уверенности, смогут ли эти отрасли надлежащим образом удовлетворить все более высокие требования, предъявляемые к качеству продукции и к объему ежегодного выпуска, необходимого для добычи и транспортировки сибирского газа. Частично эти проблемы можно было решить, воспользовавшись помощью из-за рубежа, но с 1962 г. этой возможности препятствовало небезызвестное западное эмбарго на экспорт труб большого диаметра, введенное по инициативе НАТО в ответ на строительство Берлинской стены и Карибский кризис. Учитывая эти обстоятельства, казалось маловероятным, что советская империя сможет справиться с сибирскими вызовами8.
Кортунов и другие «радикалы» признавали, что сибирский проект потребует огромных инвестиций и что его реализация будет очень дорогостоящей в краткосрочной перспективе. Однако они подчеркивали, что в долгосрочной перспективе затраты будут компенсированы в результате существенного увеличения эффективности энергетического снабжения страны. Байбаков и его единомышленники доказывали, что проект сопряжен с огромными рисками, и настаивали на необходимости проведения в первую очередь более точных предварительных геологических оценок. Однако радикалы не видели никаких убедительных причин откладывать осуществление масштабной инвестиционной программы по освоению сибирских газовых месторождений. Кортунов – игрок по натуре (что несколько раз чуть не погубило его во время войны) – был готов рискнуть, чтобы реализовать грандиозный проект, и считал, что осторожная позиция Госплана лишена мотивации и видения будущего. Когда наступил момент решающей схватки, Главгаз объединился со своими единомышленниками, в частности с Министерством геологии (его глава Александр Сидоренко проявлял в этом вопросе не меньший энтузиазм), а также с тюменской региональной партийной организацией (по мнению ее главного представителя Бориса Щербины, сибирский газ был уникальной возможностью для ускорения развития региона)9.
У Главгаза был еще один важный, но не слишком надежный союзник – советский руководитель Никита Хрущев. Решения, принятые им в 1950-е гг., придали новый импульс развитию советской системы газоснабжения. Однако в октябре 1964 г. Хрущев был неожиданно смещен со своего поста, и в СССР сформировалась новая система руководства – Кремль теперь был под контролем триумвирата, состоявшего из Леонида Брежнева – первого секретаря ЦК, Алексея Косыгина – председателя Совета министров и Анастаса Микояна – председателя Президиума Верховного Совета (через короткое время его сменил Николай Подгорный). Никакого конкретного решения по поводу того, как и когда начинать использовать сибирский природный газ, в это время так и не было принято.
Главгаз и ситуация с природным газом в Западной Европе
На протяжении всего этого периода Кортунов и его коллеги прилагали огромные усилия к тому, чтобы бросить все силы страны на обеспечение устойчивого роста газовой промышленности. В то же время они проявляли большой интерес к развитию газовой промышленности за границей и особенно внимательно отслеживали положение дел в Западной Европе. В западноевропейских странах быстро набирала популярность идея об использовании природного газа в качестве топлива, в связи с чем начинали открываться перспективы международной торговли в этой области.
В Европе основная надежда возлагалась на Нидерланды, на территории которых находилось гигантское газовое месторождение Слохтерен. В сентябре 1963 г. группа западногерманских энергетических компаний подала заявку на строительство газопровода, проходящего от границы Нидерландов до промышленных центров Германии. Этот проект считался начальной точкой создания крупномасштабной «газовой системы, снабжаемой с месторождения Слохтерен, которая когда-нибудь протянется вдоль долины Рейна и дальше, до Швейцарии и Австрии». Через несколько месяцев поступила информация о том, что принадлежащая государству французская газовая компания Gaz de France также обсуждала с голландцами возможность заключения контракта. Если бы эта сделка состоялась, то это вдвое увеличило бы потребление природного газа во Франции. Примеру Франции последовали Бельгия и Великобритания. Они также начали переговоры с Нидерландами, газовые резервы которых к этому времени оценивались в огромную величину, составлявшую поо млрд кубометров10.
В это же время такие события, как завершение ожесточенного конфликта между Францией и Алжиром и обретение Алжиром независимости (1962), заставили вновь задуматься о крупномасштабном экспорте газа из Сахары в Западную Европу. Франция, бывшая колониальная держава, и Великобритания, которая уже пробовала использовать сжиженный природный газ (СПГ) и даже импортировала небольшие объемы такого газа из США, первыми заключили контракты с Алжиром. Кроме того, широко обсуждалась еще одна потенциальная возможность – импорт газа из Ливии.
Таким образом, к середине 1960-х гг. идея о том, что на западноевропейские рынки газ может поступать и из Нидерландов, и из Сахары, казалась вполне реальной. Правда, пока еще не было твердого представления о том, какая из этих двух стран станет главным поставщиком природного газа в Европу. Для некоторых стран и регионов, в частности для Испании, Португалии и Южной Италии, импорт газа из Алжира был более предпочтительным, чем из Нидерландов. Однако Бельгия, Великобритания и Северная Германия как с политической, так и с логистической точки зрения были заинтересованы в импорте голландского газа.
Рынки Франции, Швейцарии, Австрии и Южной Германии заняли в этом вопросе промежуточную позицию, и в связи с этим необходимо отметить один важный момент. Поскольку эти страны имели невыгодное географическое положение, находясь на большом расстоянии как от голландских, так и от алжирских газовых месторождений, то их больше всего интересовало наличие какого-нибудь потенциального третьего источника природного газа. Наиболее привлекательным для них был советский газ. Чиновники газовой промышленности начали серьезно рассматривать перспективы импорта газа с Востока. К этому их стимулировали два фактора. Во-первых, складывалось впечатление, что благодаря недавнему открытию сибирских месторождений в ближайшее время должны были сформироваться значительные объемы советских «избытков газа на экспорт», появление которых Уильям Конноле предсказывал несколькими годами ранее. Вторым фактором была наблюдаемая тенденция к «разрядке» в отношениях между Востоком и Западом. В июне 1963 г. президент США Кеннеди сформулировал свою «стратегию мира» и обратился к Советскому Союзу с конкретными предложениями по окончанию холодной войны. Вскоре после этого в Москве был подписан Договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, были ослаблены западные ограничения на торговлю с коммунистическим блоком. Эта тенденция продолжала развиваться в течение последующих нескольких лет. К 1964 г., когда Хрущев был смещен со своего поста, возникшее напряжение внутри капиталистического и коммунистического лагерей, соответственно казалось не менее серьезным, чем напряжение между ними. Словом дня стал «полицентризм»11. В таких условиях политические соображения играли уже гораздо меньшую роль при принятии решений о развитии экономического сотрудничества и создании единой транснациональной системы.
Идея присоединить Западную Европу к советской газовой системе еще сильнее окрепла в начале 1964 г., после того как между Советским Союзом и Чехословакией была достигнута принципиальная договоренность по поводу строительства газопровода под названием «Братство» для экспорта природного газа из СССР в социалистическую Чехословакию. По сути, это было продолжение получившего широкую известность проекта по созданию нефтепровода «Дружба», который был реализован двумя годами ранее и благодаря которому несколько центральноевропейских стран начали импортировать огромные объемы советской нефти. Впоследствии планировалось дотянуть газопровод «Братство» и до других стран – участниц СЭВ. Более конкретный договор между СССР и Чехословакией был подписан 3 декабря 1964 г. Тогда и выяснилось, что предполагаемые объемы торговли были достаточно скромными. И все же, как и в случае с первыми контрактами по голландскому и алжирскому газу, эта договоренность имела принципиальное значение – заключив ее, СССР продемонстрировал свою готовность поставлять за рубеж природный газ. Более того, предполагалось, что в ближайшее время советская газопроводная система начнет расширяться в западном направлении. Фактически планировалось, что советский газ будет поступать до Братиславы, которая располагается на границе с Австрией12.
В то же время, когда подписывался контракт между СССР и Чехословакией, несколько западноевропейских газовых компаний вели активные переговоры с Нидерландами, Алжиром и/или Ливией, пытаясь договориться о масштабных импортных поставках газа. Теперь правительства западноевропейских стран все чаще обращались к Кремлю и к Главгазу с конкретными и, как казалось, вполне серьезными запросами по поводу возможности импорта красного газа в качестве альтернативы или дополнения к импорту природного газа из других стран. Этот вопрос интересовал в первую очередь Австрию, которая граничит с Чехословакией, а также Италию – ее государственная нефтегазовая компания ENI уже приобрела известность, благодаря тому что в огромных объемах импортировала газ из СССР. Кроме того, Италия ощущала все больший дефицит газа в среднесрочной перспективе.
Перспективы экспорта: риски и шансы на успех
Глава Главгаза Алексей Кортунов приветствовал интерес, проявляемый западными странами к советскому и, в частности, к сибирскому природному газу. В ходе внутренних советских дебатов он отмечал большую экономическую выгоду, которую можно было бы получить от экспорта газа в западноевропейские страны, а также важное политическое значение потенциального влияния на топливно-энергетический баланс капиталистических стран. Считалось, что для СССР особую важность представляли несколько факторов. Среди них в первую очередь называли динамичное развитие западных рынков природного газа, а также тот факт, что некоторые газовые компании уже заключили контракты на импорт природного газа из Нидерландов и/или Алжира. По мнению западных стран, советская империя, обладавшая новыми громадными газовыми месторождениями в Сибири и имевшая богатый опыт нефтяного экспорта в страны Центральной и Западной Европы, вполне могла использовать шанс принять участие в начальном периоде создания транснациональной системы газоснабжения13.
Однако на самом деле Кортунов стремился не столько к развитию зарубежной торговли и установлению советского политического влияния за границей, сколько к укреплению роли природного газа в качестве главного энергетического источника в самом Советском Союзе. Его горячую поддержку идеи экспорта газа следует рассматривать именно под этим углом зрения. Точнее говоря, Кортунов выступал в защиту экспорта газа, потому что, по его мнению, газ на экспорт должен был поступать из Сибири, и если СССР возьмет на себя эти обязательства, то ему потребуется быстрое освоение недавно открытых сибирских газовых месторождений. При планировании экспорта в Чехословакию предполагалось поставлять газ из Западной Украины. Однако ограниченных запасов Галиции было явно недостаточно, если бы речь шла об экспорте больших объемов газа, позволявших оправдать прокладку трубопровода до таких стран, как Италия.
Имелся еще один фактор, который заставлял Кортунова горячо поддерживать идею экспорта газа в Западную Европу. Он полагал, что если использовать опыт более ранних энергетических связей между СССР и западноевропейскими странами, то экспорт газа можно было бы организовать по схеме встречной торговли. И тогда у СССР появилась бы возможность в обмен на газ получить доступ к самым современным промышленным товарам. Главгаз уже получил серьезную выгоду от импорта западноевропейских стальных труб и другого оборудования в обмен на советскую нефть. Если бы в зарубежной торговле использовалась не только нефть, но и природный газ, то в перспективе это наверняка расширило бы объемы импорта. Советскому Союзу стало сложнее импортировать западные трубы большого диаметра после того, как в 1962 г. НАТО ввело политику эмбарго. Однако благодаря новым тенденциям разрядки в отношениях между Западом и Востоком появились шансы на ослабление политики эмбарго. Трубы большого диаметра, которые надеялся получить Главгаз, в принципе могли использоваться для строительства нового магистрального трубопровода из Сибири.
Преимущества такой перспективы видел не только Кортунов. К этой идее проявляли интерес, правда, по разным причинам, и политические руководители СССР. Кремль считал, что экспорт газа был бы выгоден для страны как с экономической, так и с политической точек зрения. Серьезный кризис 1963 г. в сельском хозяйстве заставил советское руководство выделить огромные суммы денег на импорт зерна с Запада. В связи с этим Министерству внешней торговли требовалось увеличить свои поступления в твердой валюте. Экспорт нефти уже зарекомендовал себя важным стратегическим средством, необходимым для выполнения этой задачи, и природный газ теоретически мог стать еще одним источником получения твердой валюты. По мнению Министерства внешней торговли, торговля газом с капиталистическими странами могла быть чрезвычайно выгодной, особенно учитывая цены на голландский и алжирский газ, которые являлись предметом жарких дискуссий на Западе14.
С политической точки зрения экспорт газа мог бы предоставить Кремлю еще одну возможность противостоять усиливающемуся влиянию США на экономику стран Западной Европы. Ранее СССР с удовлетворением отмечал, что после сворачивания плана Маршалла в 1951 г. экономическая независимость Западной Европы начинала заметно укрепляться за счет снижения роли США. Однако, как отметил Брежнев, к середине 1960-х гг. «американский капитал вновь стал усиленно внедряться в промышленность Италии, ФРГ, Англии и других стран». Складывалось впечатление, что США «хотят иметь предлог, чтобы через 20 с лишним лет после конца войны все еще сохранять в Европе свои войска и военные базы, а тем самым и рычаги прямого влияния на экономику и политику западноевропейских стран»15. Экспорт энергоресурсов был одной из тех немногих областей, в которых СССР мог реально противостоять экономическому доминированию США в Европе. С этой точки зрения весьма привлекательной казалась идея расширения экспортной нефтяной базы за счет включения в нее природного газа. На самом деле, экспортируя природный газ, советская страна могла бы играть более важную роль, чем при экспорте только нефти, поскольку в этой области ей вряд ли пришлось бы конкурировать с США.
Имелась еще одна благоприятная для СССР возможность, которая, по-видимому, не была предметом обсуждения советского руководства. Речь идет о возможности использования угрозы прерывания поставок газа в качестве политического оружия. Даже если этот вопрос так или иначе упоминался во внутренних советских стратегических планах, общее мнение, по-видимому, склонялось к тому, что такое оружие вряд ли будет иметь сколько-нибудь существенный эффект в обозримом будущем – ведь в то время природный газ играл минимальную роль в энергетическом снабжении Европы в целом. Это означало, что если бы поставки газа и прекратились, то это не оказало бы серьезного негативного влияния на экономику и общество. Также казалось маловероятным, что страны-импортеры рискнут вступить в более или менее сильную зависимость от советских поставок. Чтобы советский природный газ в перспективе превратился в «энергетическое оружие» (а именно этот аспект впоследствии стал главной темой жарких дебатов), этот природный ресурс сначала должен был зарекомендовать себя в качестве важного и надежного компонента европейской энергетической системы в целом. А для этого нужно было время.
Правда, имелись и аргументы против крупномасштабного экспорта газа в капиталистические страны. Одна из проблем состояла в том, что эта идея не полностью вписывалась в советскую стратегию внешней торговли. Руководство органов планирования, как правило, было противником меркантилизма – для них экспорт был «неизбежным злом для оплаты необходимого импорта». По их мнению, внешняя торговля осуществлялась для того, чтобы помогать в решении внутренних задач, а экспорт должен был лишь компенсировать появляющийся дефицит в балансе платежей. В этом отношении нефть становилась самым предпочтительным предметом экспорта, поскольку ее поставки можно было легко увеличивать и уменьшать, а это, в свою очередь, позволяло сбалансировать импорт. Были разработаны различные схемы транспортировки нефти – по трубопроводу, на танкерах, по железной дороге, в автомобильных цистернах, благодаря которым нефть из Советского Союза могла перевозиться покупателям в любую точку мира без каких-либо проволочек и в соответствии с договоренностями, которые могли и не предполагать долгосрочных обязательств16.
Экспорт же газа потребовал бы более сложной и менее гибкой организации процесса, при которой объемы экспорта должны определять за годы и даже за десятилетия до фактических поставок. Такие требования были связаны с разветвленностью предполагаемой экспортной системы. Если говорить об экономической выгоде, то советский газ следовало поставлять в Центральную и Западную Европу только по трубопроводу. А для того чтобы профинансировать такую систему, было необходимо заранее договориться о ее долгосрочной эксплуатации. Из этого следовало, что с точки зрения планирования было невозможно использовать экспорт газа, надеясь за короткий срок залатать дыры в балансе внешней торговли. Более того, в отличие от нефти природный газ мог экспортироваться только в те страны, которые были подключены к газопроводу. Его нельзя будет поставить альтернативным покупателям, если импортер откажется принимать газ и соответственно платить за него. Таким образом, экспорт природного газа был сопряжен с большими рисками для экспортера.
Однако большинство советских должностных лиц, принимавших решение по этим вопросам, доказывали, что выгода от экспорта газа значительно превышает возможные риски, включая отсутствие гибкости процесса, и поэтому от этой идеи отказываться не стоит. Главные возражения вызывал не столько экспорт как таковой, сколько предложение Кортунова поставлять газ из Сибири. Против этого проекта резко выступили Госплан и другие «консерваторы», участвовавшие во внутренних дебатах о сибирском газе. Поскольку «консерваторы» возражали против быстрого освоения сибирских газовых месторождений и против транспортировки больших объемов тюменского газа куда-нибудь, кроме регионов Сибири и Урала, они доказывали, что экспорт возможен только при одном условии – экспортный газ не будет добываться на сибирских месторождениях. Учитывая достаточно напряженный топливный баланс в СССР, были большие сомнения, что экспорт газа удастся осуществить из несибирских ресурсов.


