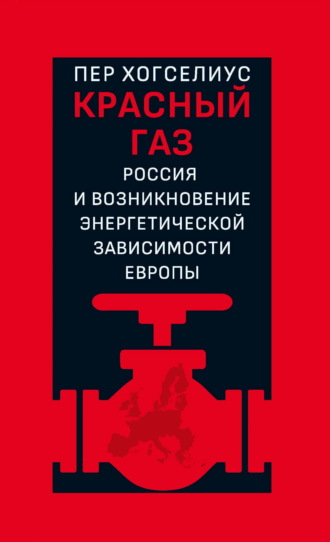
Пер Хогселиус
Красный газ. Россия и возникновение энергетической зависимости Европы
От SMV к ÖMV
Вопросы энергетики были в центре переговоров между СССР и западными союзниками по поводу политического будущего Австрии. Требование Советского Союза о выплате военных репараций в виде поставок нефти из Австрии в страны Восточного блока вызвало серьезные противоречия и завело переговоры в тупик3. Декларацию о независимости Австрии (Государственный договор) удалось подписать только весной 1955 г. К этому времени на восток уже были вывезены большие объемы нефти. В Государственном договоре предусматривалось продолжение поставок в течение еще 10 лет. Объемы вывозимой нефти составляли около 40 % всей австрийской добычи, что оказывало существенное влияние на общий торговый баланс страны вплоть до первой половины 1960-х гг. Благодаря форсированному развитию контролируемых СССР газовых месторождений на короткий период Австрия стала ведущим производителем нефти в Западной Европе4.
В связи с подписанием Государственного договора в управлении добычей нефти и газа в Нижней Австрии образовался организационный вакуум. SMV прекратила существование, и советский персонал покинул страну. Правительство приняло неоднозначное решение, выступив за национализацию и создание государственной компании Австрийское управление по добыче полезных ископаемых (Osterreichische Mineralolverwaltung, ÖMV), под контролем которого оказалось большинство нефтяных и газовых запасов страны. Созданное на основе предприятия, появившегося еще в 1938 г., ÖMV фактически было преемником SMV. Исторически это было уникальное предприятие, которое сначала служило интересам самой Австрии, Западной Европы и американского капитала, позднее находилось в руках нацистской Германии, а затем было под контролем СССР. Теперь же оно полностью принадлежало австрийскому правительству.
Пока компания находилась на этапе формирования, главным направлением деятельности ÖMV явно была нефть. Однако объемы добычи нефти в Австрии заметно сокращались и экспорт нефти в СССР и другие страны постепенно начал замещаться импортом. Тогда в деятельности этой компании относительно более важную роль стала играть добыча газа. Было запущено несколько крупных инвестиционных проектов. Самыми важными из них были строительство компрессорной станции в Ауэрстале, в 20 км к северо-востоку от Вены, начавшееся в 1957 г., и создание системы газопроводов от газовых месторождении к станции5.
Другой важной задачей было создание системы транспортировки газа на большие расстояния. Для этой цели было учреждено несколько региональных газовых компаний. Первая из них, NIOGAS, зарегистрированная в 1954 г., взяла под контроль распределение газа в Нижней Австрии. Вскоре после ратификации Государственного договора были основаны компании Oberdsterreichische Ferngas (OÖ Ferngas) для распределения газа в Верхней Австрии и Steirische Ferngas – в провинции Штирия на юго-востоке. Кроме того, компания Wiener Stadtwerke (Венские коммунальные предприятия) взяла на себя ответственность за распределение газа в столичном регионе6.
Самыми важными клиентами компании ÖMV стали NIOGAS и Wiener Stadtwerke. Начиная с 1960 г., когда был введен в эксплуатацию газопровод между сетями NIOGAS и Steirische Ferngas, Штирия превратилась в третьего крупнейшего потребителя природного газа этого региона. OÖ Ferngas также стремилась получить доступ к газу ÖMV, однако региональная компания не смогла согласовать для нее условия поставки. В Верхней Австрии располагались главные предприятия сталелитейной и химической промышленности, и они были крайне заинтересованы в газовых запасах Нижней Австрии. Однако ÖMV испытывала давление со стороны федерального правительства, которое требовало поставлять газ преимущественно в Восточную Австрию, находившуюся под советским контролем и в отличие от Верхней Австрии никогда не получавшую поддержки в рамках «плана Маршалла». О О Ferngas считала, что ее интересы в этом вопросе ущемлены, и рассматривала возможность строительства газопровода от газовых месторождений до Линца за свой счет, но в конечном счете сочла этот проект слишком рискованным. В результате Верхняя Австрия осталась без природного газа, по крайней мере на какое-то время, и ее взаимоотношения с ÖMV оставались весьма прохладными7.
Компания ÖMV производила добычу газа на трех основных месторождениях, и добываемые ею объемы до 1970-х гг. составляли около 90 % всей газовой продукции страны. Крупнейшим было Цверндорфское месторождение, открытое компанией SMV в 1952 г. По сути, это не было стопроцентно австрийское месторождение, поскольку оно проходило по границе с Чехословакией. В 1958 г. было подписано межправительственное соглашение, в котором предусматривалась совместная эксплуатация этого месторождения. Впоследствии это соглашение было обновлено в соответствии с новыми данными по оставшимся запасам. Дух кооперации, проявившийся в этом совместном проекте, стал важным фактором, который позднее способствовал попыткам ÖMV импортировать природный газ из стран коммунистического блока8.
Добыча австрийского природного газа увеличилась более чем вдвое – с 0,77 млрд кубометров с 1955 г., когда было основано ÖMV, до 1,87 млрд кубометров в 1966 г.9 Австрийский газ приобрел огромную популярность в качестве топлива, используемого как в промышленности, так и для других хозяйственных и личных нужд. ÖMV рекламировала природный газ как источник высококачественного топлива для домашнего потребления и отмечала его позитивные экологические характеристики, особенно по сравнению с углем, который в большинстве западноевропейских стран по-прежнему оставался главным видом топлива. Поскольку в Австрии не было крупных угольных шахт, существовало мнение, что преимущественное использование домохозяйствами природного газа взамен импортируемого угля будет способствовать укреплению национальной энергетической безопасности.
Однако вскоре успехи ÖMV по добыче газа начали создавать определенные проблемы. Темпы открытия новых газовых месторождений на территории Австрии не поспевали за сверхбыстрым ростом потребления. Предвидя грядущее повышение совокупного спроса, ÖMV пришла к выводу о том, что объемов внутренней добычи газа будет недостаточно для удовлетворения потребностей страны в долгосрочной перспективе. За период 1960-х гг. ситуация обострилась еще больше. Для решения этой проблемы ÖMV должна была либо добиться сокращения внутреннего использования природного газа, либо обеспечить дополнительные объемы из внешних источников. Учитывая все большую популярность природного газа в качестве топлива, а также размер инвестиций, сделанных в развитие системы внутренних перевозок и распределения, первая альтернатива не выглядела особенно привлекательной. Поэтому ÖMV решила пойти по второму пути10.
Борьба за импорт: ÖMV против Austria Ferngas
Как оказалось, ÖMV была не единственной австрийской компанией, которая с середины 1960-х гг. искала возможности импорта газа. Тем же самым занимались и региональные компании. В ноябре 1962 г. три главных клиента ÖMV – NIOGAS, Wiener Stadtwwerke и Steirische Ferngas – объединились в совместное предприятие под названием Austria Ferngas. Цель новой компании состояла в том, чтобы договориться о независимых поставках газа из-за рубежа. Тогда у нее появилась бы возможность противостоять фактической монополии ÖMV, являвшейся крупнейшим поставщиком газа. Главным источником зарубежного газа считалось недавно открытое в Нидерландах месторождение Слохтерен. Предполагалось, что газ из Нидерландов можно будет транспортировать в Австрию транзитом через Германию11.
К новому предприятию присоединилась и компания OÖ Ferngas. Эта компания занималась распределением газа в Верхней Австрии, через территорию которой планировалось провести германо-австрийский газопровод. OÖ Ferngas предложила предоставить другим региональным компаниям право на транзит голландского газа взамен на финансовое участие в строительстве газопровода, который на начальном этапе мог бы использоваться для поставок в Верхнюю Австрию природного газа из Нижней Австрии. Церемония введения в эксплуатацию этой газовой линии состоялась в начале 1965 г. В частности, по ней осуществлялись поставки газа на крупный азотный завод в Линце12.
Для Austria Ferngas верхнеавстрийский газопровод был первым шагом на пути получения доступа к голландскому газу. Этот газопровод проектировался в таких параметрах, чтобы на более позднем этапе иметь возможность транспортировать импортируемый из Нидерландов газ в противоположном направлении, т. е. с территории Верхней Австрии к сетям компаний NIOGAS, Wiener Stadtwerke и Steirische Ferngas. Таким образом, этот газопровод был важным базовым элементом, на основе которого Австрия могла в будущем присоединиться к формирующейся западноевропейской газовой системе. Поскольку две западногерманские газовые компании Ruhrgas и Thyssengas уже подписали с Нидерландами многостраничные договоры об импорте голландского газа, то региональные австрийские компании с оптимизмом смотрели на перспективы расширения этой инфраструктуры на территорию Австрии13.
На самом деле оставались сомнения по поводу того, будет ли транспортировка голландского газа на такое большое расстояние экономически выгодной. Кроме того, не было полной уверенности, что удастся заключить соглашение с немецкими регионами, через которые планировалось транспортировать газ. Более того, с точки зрения австрийских экспертов, голландский газ был далеко не идеальным, поскольку его теплотворная способность была намного ниже, чем соответствующие показатели австрийского природного газа. Чтобы справиться с этой проблемой, потребовалось бы либо осуществление дорогостоящих процедур по доведению характеристик внутреннего газа до уровня голландского газа (или наоборот), либо строительство сети отдельных газопроводов для параллельного внутреннего распределения голландского и австрийского газа. Таким образом, будущее голландского газа в Австрии оставалось неопределенным.
Austria Ferngas рассматривала еще один вариант – импорт газа из Алжира. Имея в виду эту цель, региональные компании присоединились к международному консорциуму, созданному для крупномасштабных поставок алжирского сжиженного природного газа (СПГ) в югославский порт Копер в Адриатическом море. Консорциум планировал строительство 580-километровой транзитной системы, проходящей в Чехословакию по территориям Югославии и Австрии. Как предполагалось, на первом этапе по этой системе можно было транспортировать 4 млрд кубометров газа из Сахары. Из этого объема Югославия получала бы 0,5 млрд кубометров, а Австрия и Чехословакия – по 1,5 млрд кубометров. На втором этапе общий объем транспортируемого газа можно было бы увеличить до 6 млрд кубометров. Финансирование проекта планировалось осуществить в следующих пропорциях: на долю Чехословакии – 50 %, Австрии – 37,5 и Югославии – 12,5 %.

Рис. 4.1. Планируемый международный газопровод и линии СПГ для снабжения природным газом Австрии, Италии и Испании. В 1966 г. было еще невозможно предугадать, что Австрия и Италия будут иметь собственные источники газоснабжения.
Источник: Oil and Gas Journal, February 21, 1966, p. 66.
К зиме 1966 г. разработка этих планов достигла стадии «предварительных переговоров» между заинтересованными структурами Алжира, Югославии, Австрии и Чехословакии, однако не было полной ясности относительно того, удастся ли им договориться о цене на газ. Тот факт, что договаривающиеся стороны представляли собой весьма странную компанию, участникам которой ранее никогда не приходилось иметь совместных дел, добавлял ситуации еще большую неопределенность. Однако был еще один фактор, непосредственно определявший энтузиазм, с которым Austria Ferngas вела переговоры и стремилась к созданию международного партнерства: реализация этого плана привела бы к тому, что ÖMV – государственному монополисту – пришлось бы отстаивать свое главенствующее положение в газовой отрасли. Австрия является такой маленькой страной, что, если бы состоялся хотя бы один проект импорта газа, это, наверное, лишило бы перспектив любые другие проекты. Если бы Austria Ferngas удалось осуществить импорт природного газа из Нидерландов или из Алжира, то в итоге ÖMV утратила бы влияние в области импорта газа. Кроме того, эта компания больше не смогла бы осуществлять полный контроль над австрийским рынком природного газа14.
В ответ на эту угрозу ÖMV разработала стратегию импорта природного газа, которая с точки зрения географической и политической ориентации существенно отличалась от стратегий, представленных региональными компаниями. Поскольку практически вся деятельность ÖMV была сосредоточена в восточной части страны, компания не считала нужным искать возможности сотрудничества с Нидерландами или с Алжиром. Безусловно, благодаря импорту голландского газа компания OÖ Ferngas (с которой у ÖMV были весьма прохладные отношения) заняла бы ключевые позиции в области контроля над поставками газа. А если бы реализовался проект с алжирским газом, то аналогичную роль, скорее всего, стала бы играть компания Steirische Ferngas. В обоих случаях ÖMV рисковала утратить влияние и контроль в этой области.
Гораздо более привлекательной с точки зрения этого государственного монополиста была перспектива сотрудничества с коммунистическим блоком. В этом случае импорт природного газа осуществлялся бы непосредственно через регионы, расположенные в восточной части Австрии – именно там, где ÖMV в основном и занималась добычей газа. Кроме того, такая схема позволила бы компании использовать свой прежний опыт сотрудничества с Чехословакией и Советским Союзом. Сначала ÖMV обратилась к внешнеторговой компании Metalimex, с которой в марте 1966 г. она заключила уникальное соглашение. Главным пунктом договора был «виртуальный» экспорт чешского природного газа с совместно эксплуатируемого газового месторождения Цвендорф. Этот контракт позволил бы ÖMV вести добычу газа, который в двустороннем соглашении о добыче назывался «чешским» газом. Согласно договору, ÖMV увеличила бы размер добычи газа на австрийской стороне границы, а Чехословакия, в свою очередь, в качестве экономической компенсации уменьшила бы свою долю добычи. Кроме определения приемлемой цены на газ у партнеров не возникло никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать началу торговли. В частности, не было никакой необходимости в строительстве трансграничного трубопровода. Таким образом, в 1967 г. ÖMV уже могла приступить к импорту природного газа с востока в объеме, который на первом этапе достигал 150 млн кубометров15.
Что же касается возможного импорта природного газа из СССР, то ÖMV проявила интерес к этому вопросу после того, как в январе 1964 г. СССР и Чехословакия выступили с совместным заявлением о планах строительства газопровода «Братство», который должен был тянуться из Украины в Братиславу. Руководство ÖMV с большим энтузиазмом отнеслось к потенциальной возможности подключения к этому газопроводу. После завершения строительства этой линии главную газовую станцию в Ауэрштале, принадлежащую ÖMV, отделяло бы от совместной советско-чехословацкой газотранспортной системы всего несколько километров. Это был невероятно выгодный вариант. Ходили слухи, что СССР и Чехословакия во время двусторонних переговоров уже рассматривали возможность расширения своей инфраструктуры на Австрию. Так или иначе, но ÖMV в любом случае считала весьма плодотворной перспективу присоединения к планируемой восточноевропейской газовой сети16.
Вена горячо поддерживала эту идею. В декабре 1964 г. вопрос о подключении Австрии к советско-чехословацкой газовой системе был официально поднят во время двусторонних торговых консультаций между Австрией и СССР. Однако советская сторона полагала, что время для конкретных переговоров еще не пришло, поскольку к этому моменту у нее все еще не было единого мнения по поводу экспортной стратегии. Создавалось впечатление, что весь 1965 год Москва ломала голову над тем, стоит ли ей стремиться к экспорту газа в Австрию, а если да, то на каких условиях17. Затем в июне 1966 г. появилась информация о том, что СССР окончательно решил выйти на западноевропейский газовый рынок, но что главным своим партнером считает не столько Австрию, сколько Италию. Вена так и не получила никаких четких сигналов по поводу того, рассматривает ли Москва Австрию в качестве еще одного потенциального рынка. На какое-то время единственным источником импортного газа для Австрии оставался виртуальный импорт из Чехословакии.
Стратегия Рудольфа Лукеша
Решение о национализации ряда областей промышленности, принятое австрийским правительством после войны, коснулось не только нефтегазовой отрасли. В частности, были национализированы и смежные отрасли, относящиеся к природным ресурсам. Управление национализированными отраслями промышленности осуществлялось государственной холдинговой компанией ÖIAG, которая разрешала руководству и наблюдательным советам государственных компаний обмениваться информацией по поводу их деятельности. Это вряд ли было бы возможным, если бы эти компании находились в частной собственности. Благодаря такому положению дел появилась прекрасная возможность для выявления областей взаимных интересов. В качестве одного из лучших примеров такого взаимодействия можно назвать установление тесных связей между компанией ÖMV и государственной австрийской сталелитейной компанией VÖEST.
Национализация австрийской сталелитейной промышленности не вызвала особых сложностей, поскольку все австрийское сталелитейное производство сосредотачивалось в руках одной компании. В 1946 г. правительством был создан концерн «Объединенные австрийские чугуно- и сталелитейные заводы Альпине» (Vereinigte Osterreichische Eisen- und Stahlwerke, VÖEST). Его непосредственным предшественником был существовавший в период нацизма металлургический концерн Reichswerke AG fur Erzbergbau und Eisenhiitten «Hermann Göring». На основе этой компании, которая была зарегистрирована вскоре после гитлеровского аншлюса Австрии в 1938 г., нацистам удалось практически с нуля создать мощную австрийскую сталелитейную промышленность. Штаб-квартира и основные производственные мощности этого концерна располагались в родном городе Гитлера – в Линце.
К середине 1960-х гг. VÖEST стал самым важным государственным предприятием. На его заводах трудилось около 20 тыс. работников. Максимально используя послевоенный статус Австрии как нейтрального государства, компания успешно развивала взаимодействие и с западноевропейскими, и с восточноевропейскими партнерами. С точки зрения масштабов сбыта продукции впереди были страны Западной Европы, но если речь шла о поставках топлива и сырья, то на передний план выступала Восточная Европа. Однако главной головной болью для VÖEST было создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС), поскольку таможенные ограничения, введенные этой организацией, мешали ей выйти на столь важный для нее западноевропейский рынок стали. Летом 1966 г. шесть государств – членов ЕЭС предприняли третью и последнюю, попытку совместной деятельности, что, собственно, и предусматривалось при создании Европейского экономического сообщества в 1957 г. Благодаря инициативе этих стран таможенные ограничения, действовавшие между членами ЕЭС, постепенно были отменены. В то же время западные сталелитейные гиганты все более активно стремились проникнуть на восточноевропейские рынки. Концерн VÖEST, у которого на этих рынках позиции были более прочными (что частично компенсировало его отсутствие на западноевропейских рынках), видел в этом для себя угрозу. Поскольку в 1960-х гг. резко усилилось конкурентное давление, компания начала опасаться, что перепроизводство стали может привести к демпингу западной продукции за железным занавесом. Это имело бы для Австрии катастрофические последствия. По словам генерального директора компании Герберта Коллера, на его концерн «все больше давят со всех сторон, поэтому ему приходится держать круговую оборону»18. В такой непростой ситуации VÖEST энергично искал новые рынки и инновационные бизнес-проекты, стремясь защитить свое положение. Коллер и его коллеги внимательно отслеживали основные тренды и общую ситуацию как на восточноевропейских, так и на западноевропейских рынках.
Огромный интерес для VÖEST представляла газовая промышленность, являвшаяся важным потребителем стали. Хотя на заводах концерна и не производились трубы для транспортировки природного газа, концерн выпускал толстые стальные листы, которые использовались в качестве промежуточного продукта для производства труб. Летом 1966 г. совет директоров VÖEST получил информацию о том, что итальянская компания ENI пытается стать импортером советского природного газа в обмен на крупный экспорт стальных труб большого диаметра. Эта информация взбодрила руководителей концерна – ведь если речь шла одновременно и о газе, и о трубах, то, значит, советско-итальянские переговоры были крайне интересны как для ÖMV, так и для VÖEST. Следовательно, этот проект заслуживал того, чтобы начать его обсуждение в рамках ÖIAG.
Герберта Коллера и особенно Рудольфа Лукеша, занимавшего должность бизнес-директора компании VÖEST, очень интересовала более подробная информация о советско-итальянском проекте, которую они могли получить у председателя ÖMV Людвига Бауэра. Лукеш, который был известен изобретательным подходом к бизнесу и умением разрабатывать долгосрочные стратегии, выразил сомнения по поводу того, что итальянцы смогут осуществить поставку такого огромного количества труб, которое было необходимо для реализации сибирского проекта. Поэтому, по его мнению, для этого могло потребоваться участие других западноевропейских сталелитейных компаний. Если Италии был нужен партнер, то самыми очевидными кандидатами были бы крупные немецкие сталелитейные предприятия Mannesmann и Thyssen. Обе компании в течение долгого времени экспортировали в СССР трубы большого диаметра, и качество их труб, по всеобщему признанию, было несравнимо выше, чем у других производителей. Однако вполне вероятно, что в результате введенного НАТО эмбарго на экспорт стальных труб в СССР их непосредственное участие в экспорте было бы затруднительным. Строго говоря, само по себе эмбарго вряд ли помешало бы немецким предприятиям вести бизнес с Востоком. Фактически в условиях политической разрядки большинство европейских стран – членов НАТО к 1966 г. считали эмбарго устаревшим и поэтому не выполняли его условий. Однако Германия в этом отношении была исключением. В связи с этим Mannesmann и Thyssen не имели возможности осуществлять экспорт стальных труб в Советский Союз19.
VÖEST не огорчило такое положение дел. На самом деле австрийцы уже получили хорошую прибыль от эмбарго, благодаря тому что вступили в альянс с озабоченными этой ситуацией немецкими компаниями. Согласно главной договоренности, достигнутой альянсом, стальные трубы, произведенные в Германии, должны были переправляться в Австрию и уже оттуда реэкспортироваться в страны коммунистического блока. VÖEST согласился участвовать в этих проектах на условии, что при изготовлении стальных труб в качестве основного промежуточного продукта будет использоваться австрийская листовая сталь. Лукеш, инициатор и вдохновитель этого альянса, рассматривал советско-итальянский газопроводный проект как возможность для укрепления партнерства. Однако на кону была не только сталь: если бы Австрии на самом деле удалось договориться с СССР об экспорте немецких труб, то, по мнению Лукеша, у Москвы мог бы появиться больший интерес к включению Австрии в советско-итальянскую схему экспорта природного газа. Учитывая этот факт, было решено обратиться за поддержкой к ÖMV.
Немецкие компании с радостью откликнулись на это предложение. Более того, небезосновательными были высказываемые Лукешем сомнения по поводу того, что задача по производству огромных объемов стальных труб, которых СССР ждал от итальянцев, воспринималась ими как большая нагрузка. Особенно сильно это проявилось, когда выяснилось, что Мингазпром хочет получить трубы диаметром 1220 мм, но производство труб такого рекордного размера еще не было освоено ни итальянской сталелитейной промышленностью, ни даже ее флагманом компанией Finside. Неожиданно обнаружился еще один фактор, который мог оказаться весьма полезным для реализации амбициозных австрийских планов, – Венгрия и Югославия не давали твердого согласия на участие в советско-итальянском газовом проекте. Эти две страны коммунистического блока не имели возражений против проекта как такового, однако не испытывали большого желания финансировать его. Планируемый газопровод не представлял первостепенного значения ни для Венгрии, ни для Югославии. Незадолго до этого в Венгрии были проведены изыскательские работы, в результате чего начали расти объемы добываемого внутреннего газа. Кроме того, некоторое количество природного газа Венгрия импортировала из Румынии. В Югославии также имелись достаточно богатые запасы собственного природного газа. Что же касалось импорта, то Иосипа Броз Тито больше интересовали поставки газа из Алжира, чем из СССР20.
При таких обстоятельствах, если бы ENI начала настаивать на проведении газопровода через Венгрию и Югославию, то, скорее всего, итальянцам пришлось бы взять на себя полное финансирование строительства транзитного участка газопровода. ÖMV и сталелитейные компании лоббировали чехословацко-австрийский транзит, полагая, что это была бы более дешевая и более надежная альтернатива. Такой вариант интересовал и СССР, особенно учитывая потенциальную возможность приобретения «австрийских» стальных труб, которыми, по всей вероятности, Австрия могла бы расплатиться за экспорт газа. ENI отнеслась к этой идее с большим сомнением, поскольку не очень хотела отказываться от возможности стать хабом для поставок советского газа в Западную Европу. Этот вопрос был вынесен на обсуждение в Москве – в Мингазпроме и в Министерстве внешней торговли – в октябре 1966 г., когда независимо друг от друга с рабочим визитом СССР посетили две делегации: представители ENI и небольшая группа австрийских экспертов. Итоги этих консультаций были обнародованы в начале ноября, что было приурочено к официальному визиту в Австрию Председателя Президиума Верховного Совета Николая Подгорного. В рамках этого визита было запланировано посещение заводов концерна VÖEST в Линце. Там Подгорный сделал официальное заявление, в котором подтвердил, что VÖEST будет участвовать в советско-итальянском проекте и что Австрия, в свою очередь, будет импортировать советский газ. Кроме того, как предполагалось, Австрия предоставит свою территорию в качестве транзитного коридора для поставок красного газа в Италию и, возможно, во Францию21.

Рис. 4.2. Завод по производству труб Thyssenrohr в Мюльхайме (Рур)
Источник: gwf.
Вопрос о том, каковы были истинные мотивы, стоявшие за советско-австрийской принципиальной договоренностью, вызывал споры и обсуждения. Так, например, по мнению Западной Германии, включение в советско-итальянский проект VÖEST и ÖMV отражало тщательно продуманную советскую стратегию, конечной целью которой было использование в будущем нейтральной Австрии в качестве хаба для подачи советского газа в западноевропейские страны. Немецкие наблюдатели полагали, что цель проекта состояла в том, чтобы помешать или стать противовесом укрепляющимся отношениям Австрии с другими странами Западной Европы22. Ни для кого не было секретом, что в Кремле не одобряли усилия, предпринимаемые Веной на фоне настойчивого лоббирования со стороны таких компаний, как VÖEST, к установлению более прочных отношений с ЕЭС. Эти попытки активизировались после выборов в парламент, состоявшихся весной 1966 г. Впервые со времени окончания войны австрийское правительство было сформировано таким образом, что теперь это была не коалиция двух самых больших партий – Социал-демократической партии (SPO) и правоцентристской Народной партии (ÖVP), а правительство, большинство которого составляли члены Народной партии. СССР с некоторой тревогой наблюдал за тем, как новое правительство во главе с канцлером Иозефом Клаусом, который немедленно начал укреплять контакты Австрии с ЕЭС, стремилось к взаимодействию с этим содружеством. Правда, речь о непосредственном вступлении Австрии в ЕЭС пока не шла. Во время визита в Австрию Подгорный поднял этот вопрос и отчетливо дал понять Клаусу, как СССР относится к такому взаимодействию:
«Несомненно, такой договор приведет к тому, что интересы Австрии будут подчинены интересам ЕЭС, а ее экономические интересы будут частично переданы странам, которые, как известно, враждебно настроены по отношению к СССР. Не следует забывать, что вхождение Австрии в это сообщество нарушит… Австрийский государственный договор, в котором говорится, что Австрия ни при каких обстоятельствах не вступит в политический или экономический альянс с Германией. Это также лишит Австрию как нейтральную страну возможности выполнять обязательства, которые следуют из ее ней-23 трального статуса».
Такая агрессивная риторика показывала, что Кремль крайне обеспокоен новым политическим курсом Австрии. Возникает соблазн вслед за Бонном сделать вывод о том, что стремление СССР включить Австрию в планы по строительству советско-итальянского газопровода отражало стратегию, направленную на уравновешивание или «нарушение» углубляющейся интеграции Австрии с Западной Европой. Такая интерпретация имеет право на существование по следующим причинам: во-первых, в связи с тем что заявление Подгорного о намерениях VÖEST и ÖMV взаимодействовать с СССР было сделано в то же время, когда ЕЭС выступило с резкой критикой этого проекта, и, во-вторых, потому что до выборов 1966 г. Советский Союз не проявлял особого интереса к Австрии как стране, через которую может осуществляться транзит газа. Однако не следует преувеличивать политическую компоненту в разрабатываемой СССР схеме экспорта газа. Гораздо более очевидной причиной, по которой Советский Союз поддерживал идею об участии Австрии в этом проекте, был тот факт, что предпочтительный маршрут транзита газа через Венгрию и Югославию, по всей вероятности, утратил актуальность. Кроме того, итальянцы не имели возможности производить трубы достаточно большого диаметра. Если бы СССР захотел экспортировать природный газ в Италию, возможно, во Францию, а также в другие западноевропейские страны, то, как все больше казалось, единственной реальной возможностью мог быть только транзит через Австрию.


