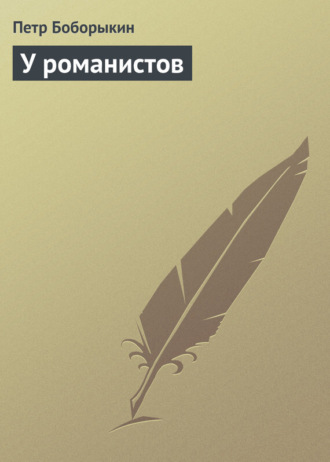
Петр Дмитриевич Боборыкин
У романистов
Если мнение Э. Гонкура и вызвано любовью к брату, то, во всяком случае, такое «показание» очень ценно. Вряд ли он преувеличивал; он подтвердил это даже фактами, доказательствами. Так, например, напомнив мне роман из последней эпохи их сотрудничества – «Г-жа Жервезе». Он сообщил, что все красивые места написаны или отделаны были Жюлем.
– Мы писали по одному и тому же плану, – продолжал он, – и всегда одно и то же, в общих чертах, но мне принадлежала более мыслительная сторона романа: последовательность и детали душевного анализа и общественного отношения действующих лиц; брат прибавлял к этому художественные подробности описательного характера и отделывал язык в местах патетических. Он был настоящий артист, резчик, un ciseleur.
Подтвердил он мне также, что по смерти брата на него напало такое душевное изнеможение, что он положительно сомневался в возможности когда-нибудь приступить к работе. Но случилось так, как я уже выше заметил, что смерть брата, совпавшая с новым изданием их романов, заставила гораздо больше говорить прессу о братьях Гонкур и подготовила значительный успех его роману, написанному в одиночку. Роман этот доставил ему до двадцати изданий, чего не случалось ни с одним из романов, написанных им в сотрудничестве с братом. Видно, что теперь Э. Гонкур ободрился. По крайней мере я в разговоре с ним не подслушал ни одной горькой, досадной ноты. Он очень хорошо знает, что все написанное им предназначено только для известной доли публики. Но содержание и манера его последнего романа, все-таки взяли свое. Кто бы как ни возмущался подробностями истории той падшей женщины, которую Гонкур взял героиней, автор глубоко убежден в нравственном характере своего произведения.
– Мне приятно сообщить вам, – сказал он мне, – что общественная тема, задетая мною в «La Fille Eliza», не осталась без последствий. Наше тюремное ведомство чувствует теперь все варварство системы молчания, которую я проследил на одной из ее жертв. Я надеюсь, что вопрос этот будет заново изучен, хотя, признаюсь, я и не имел прямо утилитарной цели; меня как писателя интересовал самый процесс жалкой душевной борьбы в существе, которое и без того с первых дней сознательной жизни обречено было на нравственную гибель.
Французских писателей я лично знаю давно, но час, проведенный мною у Гонкура, необычайно оживил меня как трудового человека и литератора. Во Франции я не был с 1871 года и с тех пор не встречался еще с настоящим беллетристом-художником, который бы сохранил в себе столько любви к делу. Откровенно говоря, у нас, даже в центре нашей умственной жизни, очень и очень трудно вести такие беседы, какую я имел с Гонкуром. Наши писатели – люди совсем другого типа. У нас дело даже тогда, когда оно дорого человеку, стоит все-таки особняком. Оно не проникает писателя внутренним чувством, одушевляющим его беседу. И, главное, оно не дает собеседнику новой душевной бодрости. Мало того. У нас как-то и неприлично толковать о приемах мастерства, о замыслах и выполнении, о разных подробностях интимной жизни чисто писательского характера. Все это считается краснобайством и рисовкой. А между тем такого-то рода беседы и поддерживают в каждом собрате, в человеке одной с вами карьеры, внутреннюю бодрость. Вы видите, что перед вами не рабочий, отбывающий свою повинность, а художник, влюбленный в самое дело, не ставящий для себя никакой другой цели, кроме творческого совершенства. У такого Гонкура я чувствовал себя точно в мастерской артиста эпохи Возрождения, у какого-нибудь итальянского мастера, вроде Бенвенуто Челлини, который в малейшую вещицу вкладывает свой вкус, любовь к делу, тонкость понимания.
Не стал он скрытничать и насчет замысла своего нового романа.
– Я хочу, – сказал он, – взять мелкую актрису, «une cabotine» и сгруппировать около нее целый мир своеобразных типов, интересов, страстей и пороков. Моя ка-ботинка будет воплощать в себе всю духовную и общественную сущность этой испорченной среды.
Вот и сюжет. Можно прямо сказать, что у Гонкура достанет и наблюдательности, и глубины, и смелости для всевозможных подробностей этой среды. Может быть, ему не хватит только мягкости, юмора; но он за ними и не гонится, его приемы совсем иного свойства. После романа «La Fille Eliza» каждому уже ясно, что можно от него требовать и чего нельзя. А пока он приготовляет к изданию этюд об одной певице XVIII века (вроде тех книг, которые он писывал с братом), заключающий в себе разные эпизоды, живописующие тогдашнюю эпоху, с разнообразной перепиской героини, имевшей успех и во Франции и в Англии.
Мне особенно приятно сообщить читателям журнала «Слово», что новое произведение Гонкура они, по всей вероятности, прочтут одновременно с появлением его по-французски, а то так и раньше. Теперь романисты реальной школы очень ценят сочувствие русской публики, да и в денежном отношении им выгодно появляться раньше на русском языке. Хотя в нашей конвенции с Францией и не стоит ничего о переводах, но редакции русских журналов уже понимают, что гораздо лучше предупреждать международные законодательства…
Личность Э. Гонкура характерна еще и в другом смысле. Кто живал во Франции в эпоху Второй империи, сейчас же почувствует, что такие люди, как Гонкур, быть может, не желая того, вобрали в себя нечто напоминающее бонапартов режим. Они по воспитанию и по происхождению сделались рано если не консервативными, то довольно равнодушными к политике. Крайности передовой партии им не привились. По склонности ко всему изящному и красивому, они мирились с некоторыми внешними отличиями бонапартовой системы. Но внутренно они были гораздо серьезнее. Они не могли не понимать и не чувствовать всю фальшь, нравственную беспорядочность и пустоту кучки авантюристов, захвативших в руки Францию. Внутренно они до сих пор остались всего более легитимистами. Они не пренебрегают своей частичкой «de», любят тонкое общество; но не заискивают ни в ком, живут в стороне и не позволяют себе никаких грязных выходок против теперешнего порядка вещей. Я думаю даже, что умеренная республика не оскорбляет их. Люди с таким тонким умом, с такой смелостью анализа, не могут быть ретроградами. Даже если бы в них сидело закоренелое барство и аристократическое высокомерие, то все-таки их произведения не отразят никогда на себе их личных взглядов и пристрастий. Они верны своему лозунгу: художественному реализму изображения жизни до последних пределов. Пускай Э. Гонкур напишет пять – десять таких романов, как его «La Fille Eliza», и всякий демократ, всякий друг человечества, даже всякий социальный мечтатель скажет ему спасибо: они в любом таком произведении найдут самую обильную пищу для своих протестов, для своей проповеди…
Изящная, если хотите, барская обстановка Э. Гонкура – не фатовство, не выставление напоказ своих средств и привилегированного положения. Все это очень правдиво, потому что отвечает складу человека. Он художник, он до страсти любит все изящное. У нас на Руси (нечего греха таить) свои тридцать – сорок тысяч франков такой Гонкур употребил бы на разные совсем нехудожественные затеи: две трети их проел бы или проиграл в карты; а тут вы видите перед собою трудовую, строгую, самостоятельную жизнь. Измените обстановку, отнимите у Гонкура его доход, он останется все тем же артистом, все тем же другом труда, способным на страстное преследование своих задушевных, творческих целей.
Хозяин проводил меня до дверей. Спускаясь по лесенке, я заметил в полуоткрытую дверь в боковой комнате, отделанной так же артистически, стол с двумя приборами. По сервировке, хотя она и была очень прилична, видно, что хозяин не гастроном, не обжора. В России меня пригласили бы сейчас поесть и выпить. Во Франции гостеприимство по этой части туже; но, право, такая беседа, какой угостил меня Гонкур, стоит нашего закармливания и нашего, иногда весьма наянливого, добродушия, под которым кроется скука и желание как-нибудь убить время.







