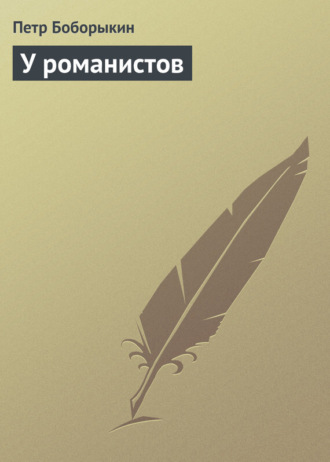
Петр Дмитриевич Боборыкин
У романистов
– В третьем этаже, дверь направо.
В Париже нет нумеров и нет даже обычая прибивать к дверям дощечки. Без привратницы вы можете целый день ходить вверх и вниз по лестнице и ничего не добиться. На той площадке, которую она мне указала по счету этажа, правая дверь была драпирована портьерой с одной стороны. В Париже в обыкновенных буржуазных квартирах таких портьер не вешают, и это даже может показаться немного претензией. Меня впустила горничная в совсем темную, очень тесную переднюю, теснее, чем бывает даже в самых незатейливых петербургских квартирах. Налево узкая дверь была приотворена; оттуда раздался сейчас визгливый лай болонки.
Служанка отнесла мою карточку и, вернувшись, впустила меня в кабинет хозяина. Этот кабинет в России считался бы тесной комнатой, но для Парижа он не особенно мал. От входа направо два окна, у стены – прямо письменное бюро, все заставленное разными вещицами; за ним, лицом к двери, сидел Золя. Портреты очень похожи на него. Но в натуре он гораздо толще, или, лучше сказать, пухлее, в лице оказывается некоторая одутловатость, да и все тело его скорее жирное, чем мускулистое, конечно, от сидячей работы. Если выезжали по югу Европы, вы сейчас догадаетесь, что это человек с южной кровью. Цвет лица у него матовый, но здоровый и незагорелый. По домашнему костюму, по манере, с какой он поздоровался со мною, протянул руку, поднявшись при этом с кресла, видно, что Золя сделался парижанином. Первые года юности провел он уже в Париже; а это всего сильнее влияет и на выговор, и на манеры, и на весь внешний склад человека. Золя родился в Париже, но жил в Провансе до переезда в Париж отроком; но акцента у него не сохранилось. Он говорил не так, как истый парижанин, без этого отчасти горлового, отчасти картавого произношения; но и не как настоящий южный француз; типических звуков, соединенных с буквою «н», у него совсем нет; он произносит их так же в нос, как и любой француз среднего типа. Только во всем пошибе его произношения есть что-то своеобразное. При этом он немножко шепелявит. Сначала вы не заметите, а через пять – десять минут шепелявость все усиливается. Говорит он много, без парижской скороговорки, но пространно, не горячась, с натиском словоохотливого резонера.
Когда я вошел, Золя писал что-то литературное на небольших четвертушках бумаги. Это было в половине первого. Он меня предупредил запиской, что для него самый удобный час – время после завтрака; утрами своими он очень дорожит, а часов с трех опять начинает писать или же просматривать корректуру. Вечером он, как и все парижские литераторы, не работает, то есть не пишет ничего.
Судя по портретам, можно было заключить, что Золя в своем туалете не только не франтоват, но даже небрежен. На портретах он по туалету смотрит каким-то мастеровым. У себя дома Золя гораздо франтоватее. Он работает в коротком пиджаке из белой фланели. В Париже очень многие пишущие люди держатся этого домашнего видоизменения халата. Домашняя рубашка – с воротом, расшитым красной бумагой; манжеты гофрированы, так же как и грудь. Это мне показалось немного странным…
Небольшой кабинетик, вероятно, служит Золя и приемным салоном. В другие комнаты я не проникал ни в этот раз, ни в следующие, когда заходил к нему в те же часы. Вся комната битком набита мебелью разных стилей и разной обивки, картинами и рисунками по стенам, старыми художественными вещами. В левом углу стоит пианино. На полу не один сплошной ковер, а несколько ковриков. На подзеркальнике камина целая разношерстная коллекция всевозможных предметов, купленных у антиквариев. Золя заразился болезнью парижан, впрочем, очень культурной болезнью: страстью к предметам искусства, ко всякому артистическому старью. Нельзя сказать, чтобы его салон-кабинет производил очень изящное и строгое впечатление. Он похож на приемную комнату в небольшом магазине брикабракиста. Но все-таки вы чувствуете, что тут работает человек, любящий все художественное. Такие комнаты, наполненные скульптурными и всякими другими орнаментами и безделушками, гораздо больше говорят воображению, гораздо более согревают человека, чем наши огромные, скучные, голые кабинеты с репсовой мебелью и письменными столами, размерами в добрый биллиард. Вы видите, что трудовой человек все свои экономии употребляет на покупку художественных произведений, с интересом ходит но Парижу, отыскивает их, полагает в них свое любительство. Собачка оказалась тоже собачкой хозяина, а не хозяйки: по крайней мере видно было, что она привыкла жить тут, в кабинете. Госпожи Золя я не видал; но по письму, полученному мною в 1876 году, знаю, что, кроме жены, с ним живет еще и теща.
Наш разговор был сначала полуделовой. Речь шла о новом романе Золя; он его только что задумал; а когда окончит – сказать сам не может. Через неделю или через две он собирался переехать в свой загородный домик, где и приняться вплотную за роман. Очень любезно и совершенно по-товарищески Золя перетолковал со мною и о том, кого бы из молодых, знакомых ему литераторов пригласить корреспондентом в один из русских журналов. Он указал на две личности и дал мне несколько нумеров одного журнала, чтобы я мог судить об их критических этюдах. Когда он говорит о ком-либо, ему лично знакомом, разделяющем его взгляды, словом сказать, о своем человеке, то это выходит у него чрезвычайно искренно, сильно и толково. Вообще это, должно быть, человек прочных привязанностей и антипатий. Во всем, что касается России и сотрудничества в русских журналах, Золя слушается безусловно своего приятеля и собрата, И. С. Тургенева. Он мне прямо и сказал:
– Позвольте мне переговорить с моим другом Тургеневым; он так много для меня сделал и продолжает так дружественно относиться ко мне, что я привык ему верить и никакого дела не начинать без его совета во всем, что касается русской литературы и прессы.
Так он и сделал в данном случае. С подобными людьми очень приятно иметь всякого рода сношения, хотя бы они и были по натуре не особенно покладисты. Тут нет нашей русской бессознательной, фальшивой мягкости и податливости. Скажет вам что-нибудь человек – будьте уверены, что он выполнит свое слово и не станет хитрить, на что имел бы право по своему происхождению, как южанин.
Золя опять подтвердил мне поразительный для него самого успех «Assommoir'a».
– Я в свет не очень много езжу, – сказал он, – но кое-где бываю и в последнее время стал даже больше выезжать. У самых чопорных барынь я уже вижу на столе мой неприличный роман. Конечно, его не дают читать молодым девицам, но уже не считают ни скандальным, ни неприличным говорить о нем во всеуслышание. Я думаю, что половиною успеха этот роман обязан все-таки женщинам; у нас мужчины читают очень мало беллетристики.
Вообще, – продолжал он, – книги идут у нас туго. Составить себе ими положение можно только в исключительных случаях. Я это дело хорошо знаю, потому что сам был приказчиком в книжном магазине. Два-три издания – вот все, на что может рассчитывать начинающий. Деньги дает роман только тогда, когда зайдет за 15000 экземпляров.
Я воспользовался первой маленькой паузой, чтобы задать тот чисто литературный вопрос, с каким ехал еще из Москвы. В романе «Страница романа», как читатель припомнит, кроме длиннот и повторений в описаниях Парижа, есть еще одна странная черта для такого даровитого и сильного писателя, как Золя. Это личность доктора Деберля. В начале вы думаете, что автор сделает из него если не тип, то своеобразный характер. Но ожидание не оправдывается. Я и указал на такое противоречие самому Золя.
– Вы совершенно правы, – отвечал он. – Это так. Он у меня гораздо бесцветнее, нежели читатель ожидает. Но моя ошибка заключается не в его бесцветности, а в том, что я возбудил ожидание в читателе. Это произошло потому, что я недостаточно продумал мотивы, связанные с лицом доктора. Когда я начал писать, я рассчитывал заняться им, как настоящей фигурой, а потом пришел к заключению, что для женщины, введенной мною в роман, безразлично, кого она полюбит. На нее налетела страсть. Она сама после этого пароксизма, вспоминая о своем романе, не может хорошенько дать себе отчета, почему она полюбила доктора Деберля, а не другого, и должна была сознаться, что она его совсем не знает. Вот этот-то замысел и следовало мне провести с самых первых страниц книги, чего я не сделал.







