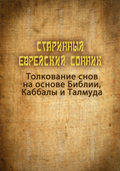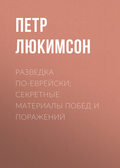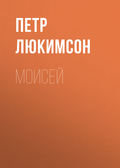Петр Ефимович Люкимсон
Братья Нобели
Что касается двух старших сыновей, то они к тому времени начали посещать в Стокгольме школу Святого Якоба, в которой наряду с богословием преподавались азы чтения, письма и арифметики, а кроме того, там нещадно, с каким-то садистским рвением пороли детей за любую провинность. Оценки в школе выставлялись по трем «дисциплинам» – прилежанию, разумению (то есть сообразительности) и поведению. Дети из более обеспеченных семей учились в расположенной неподалеку школе при церкви Святой Клары, но Андриетте Нобель это было не по карману.
Судя по дошедшим до нас документам, Роберт не проявлял рвения и особых способностей к учебе. В 1841 году, как только ему исполнилось 12 лет, подобно отцу, записался помощником стюарда на корабль, держащий курс в Южную Америку, и прослужил на нем до лета 1843-го. Правда, за это время ему удалось несколько раз побывать дома, и каждый раз он привозил матери в подарок великолепный бразильский кофе. Способности Людвига тоже были оценены его первыми учителями как средние, а в сентябре 1841 года в школе Святого Якоба появился и Альфред, которому на тот момент исполнилось восемь лет. С первых же дней учебы Альфред Нобель стал одним из первых учеников, получившим по итогам года табель с тремя «А» (то есть «отлично») и премированный за это, как уже говорилось в начале книги, учебником античной истории.
Способности мальчика были так велики, что программа школы Святого Якоба казалась ему смехотворно легкой, и потому учебный материал он усваивал с ходу, буквально шутя. Помимо высокого интеллекта, у Альфреда оказалось необычайно развитое воображение. Поэтому не раз во время уроков он полностью отключался от реальности, паря в каких-то своих неведомых высях, а когда приходил в себя, то долго не мог поверить, что с момента «отключения» прошло не более двадцати минут или получаса. У него было ощущение, что минула вечность или по меньшей мере несколько часов. «Да, все было совершенно в мире мечтаний, где я становился душой всего. Вокруг меня толпились самые прекрасные, талантливые и влиятельные, и мое детское тщеславие глубоко впитывало ладан самообожествления! Таковой была моя воображаемая жизнь», – признавался Альфред спустя многие годы.
Запомним это признание, так как оно представляет собой ключ к личности будущего создателя динамита и учредителя самой престижной в мире премии. Огромная фантазия и творческое мышление всегда, с самого юного возраста, сочетались с не менее огромной жаждой признания величия его личности. Даже не столько славы, сколько бессмертия, но бессмертия в весьма характерном для его века понимании – в памяти людей, что и считалось большинством его великих современников подлинным бессмертием.
Глава четвертая
Создатель мин
Нельзя пожимать руку со сжатым кулаком.
Индира Ганди
Тем временем Эммануил Нобель постепенно обживался в Петербурге, переживавшем явно не самые лучшие свои времена.
Если с момента своего основания город рассматривался как «окно в Европу», призванное сделать Россию органической частью западного мира, и именно в таком духе его развивали почти все прежние российские самодержцы, то напуганный в самом начале своего царствования восстанием декабристов Николай I взял курс на русские традиционные ценности, которыми были объявлены «самодержавие, православие, народность». Европейский заговор с целью уничтожения России и православной церкви стал idee fix Николая I и его ближайшего окружения, что наряду с сохранением крепостного строя становилось тормозом в развитии России и все больше увеличивало ее отставание от США, Великобритании и Франции. Правда, в Санкт-Петербурге это долго почти не чувствовалось: столица, если понимать под ней не печально известные петербургские трущобы, а высший свет, пользовалась всеми благами цивилизации и вела даже более роскошный и культурно насыщенный образ жизни, чем Париж или Лондон. Но разрыв между столицей и провинцией, жившей давно устаревшими порядками и понятиями, был колоссален.
И. Карлберг пишет: «В одном царь Николай противоречил сам себе. С одной стороны, он желал возродить российское наследие, с другой – после восстания 1825 года не испытывал доверия к своим соотечественникам. Поэтому при его дворе толпились иностранцы, а в столице проживали множество немецких, шведских и прибалтийских инженеров и зодчих. Особенно доброй репутацией пользовались шведы. Когда в столице обосновался Иммануил Нобель, офицеров царской армии обшивал шведский придворный портной, а Карл Эдвард Болин вскоре стал придворным ювелиром. Шведские кузнецы и ремесленники пользовались все большим спросом»[19]. Одним из этого множества иностранцев, безусловно, и был Нобель.
Кстати, немало шведов, немцев и представителей других национальностей служили в те годы в российской армии и добирались до очень высоких чинов. Причем служение это было глубоко искренним: многие из них воспринимали Россию как свою новую родину и на первое место ставили ее национальные интересы. И так же, как и многих русских по рождению членов высшего командования российской армии и флота, их тревожила техническая отсталость России, в том числе и в вопросах вооружения. А так как заимствовать ничего иностранного Его Величество принципиально не хотел, надо было создавать свое. И среди прочего на повестке дня стоял вопрос создания как сухопутных, так и морских мин, способных преградить путь противнику и нанести ему максимальный ущерб.
Не исключено, что Эммануил Нобель, услышав об этой проблеме российской армии вскоре после прибытия в Або, еще в 1837 году начал обдумывать идею создания мины собственной конструкции. Во всяком случае, эта версия хорошо объясняет, почему, встретившись на городской набережной Або с гофмаршалом, Эммануил сказал ему, что собирается в Петербург, а также то внимание, которое к нему проявил барон Мунк. А огромные связи шведской диаспоры в Петербурге помогли Нобелю добиться представления генерал-губернатору Финляндии князю Меньшикову и генерал-адъютанту императора и одновременно талантливому инженеру Карлу Андреевичу Шильдеру. Будучи командиром саперного батальона, Шильдер проводил на базе этого подразделения опыты по апробации подводных мин, изобретенных военным офицером и ученым Павлом Львовичем Шиллингом, а также пытался без особого успеха создать подводную лодку собственной конструкции.
Судя по всему, Нобель уже был знаком, пусть и понаслышке, о работах над минами Шиллинга и известного физика и инженера Бориса Семеновича (Морица Германа) Якоби и, отталкиваясь от того, что ему было известно, пытался создать что-то свое, хотя никогда не занимался какими-либо видами оружия. Точные даты того, как развивались дальнейшие события его жизни, неизвестны, хотя некоторые ориентировочные «вешки» все же имеются. Профессор Иван Александрович Дьяконов, к примеру, полагает, что знакомство Нобеля с полковником Николаем Огаревым[20], адъютантом великого князя Михаила Павловича, курировавшего все военно-инженерные проекты, состоялось в 1838 году – возможно, по следам письменного обращения Эммануила к Михаилу Павловичу с предложением купить у него патент подводной мины, а возможно, через общих знакомых, и это Огарев уже представил Нобеля великому князю.
В том же 1838 году Нобель открыл первую в России механическую мастерскую в Старой Руссе, где, вероятно, и изготовил первые образцы своих мин, но предприятие оказалось убыточным, что неудивительно – никакие заказы ни на мины, ни на что-либо другое Нобелю получить не удалось. Поздней осенью или даже в начале зимы следующего 1839 года он открывает механическую фабрику уже в самом Санкт-Петербурге вместе с набившимся ему в компаньоны неким шведом Эстремом. Третьим пайщиком нового предприятия стал его будущий сват (впрочем, до этого еще очень и очень далеко), владелец кирпичного завода в Гельсингфорсе Ленгрен.
Увы, и это предприятие с точки зрения бизнеса оказалось неудачным. Причем настолько, что Эммануил многие годы выплачивал Экстрему долг за стартовый капитал, но к 1859 году, когда он покидал Россию, была выплачена лишь половина долга, а после смерти Нобеля-старшего его еще долгое время выплачивали его сыновья. Однако к этому времени Эммануил Нобель, по его собственному признанию, усвоил истину о том, что ничто в жизни не бывает напрасным и случайным – именно то, что кажется случайным обстоятельством, зачастую и ведет к цели.
В ноябре 1839 года по указанию императора учреждается «Комитет о подводных опытах», призванный рассмотреть целесообразность принятия на вооружение армии новых средств обороны портов, и в первую очередь – подводных гальванических мин, созданных совместными усилиями Шильдера и Якоби. Но Комитет подчинен генерал-инспектору по Инженерной части, которым является Михаил Павлович, и в сентябре 1840 года Нобель снова обращается к нему с предложением купить секрет «способа зажигания подводных мин», отличного от гальванического способа, рассматриваемого в Комитете. Из канцелярии великого князя письмо Нобеля поступает к членам Комитета, и настает день, когда он во дворце князя Меньшикова на Невском за одним столом с Шильдером и Якоби обсуждает готовящиеся испытания мин.
Как вспоминал Эммануил в своих биографических записках, Шильдер и Якоби решили провести кабель от начиненных порохом мин к установленным на батарее взрывателям, к каждому из которых должен был быть приставлен солдат. В тот момент, когда над минами проходил вражеский корабль, ознакомленный с их расположением и следящий за акваторией дозорный должен был подать сигнал; солдаты на батарее замыкали выключателем электрическую цепь – и мина взрывалась. Эта техническая идея показалась Нобелю совершенно провальной – по его прикидкам, эффект от таких мин был бы почти нулевым: дозорный мог ошибиться с местом закладки мин, поторопиться или, напротив, слишком задержаться с подачей сигнала; далеко не все мины могли сработать и т. д. Но чтобы не вступать в открытый конфликт с людьми, от которых, возможно, зависело его будущее, вслух он произнес:
– Но ведь это может закончиться удачей лишь один раз из пятисот!
Однако даже такая, очень корректная фраза неожиданно вывела Шильдера из себя (не исключено, что тут сказалась и хорошо известная неприязнь немцев к шведам).
– А что, вы у себя в Швеции придумали что-нибудь получше? – с вызовом спросил Шильдер.
– Не знаю, что там придумали в Швеции, но уверен, что мины можно сделать куда более эффективными, причем без всякого дозорного, – ответил Нобель.
Заметив, что князь Меньшиков заинтересовался возникшим спором, Шильдер потребовал от Нобеля объяснений.
– Корабль должен сам приводить в действие мину в момент столкновения с ней, – пояснил свою мысль Нобель.
– Замечательная идея! Вот только жаль, что пока неосуществимая. Или вы готовы продемонстрировать нам способ ее реализации? Только не на словах, а на практике-с, в ходе эксперимента! – с сарказмом спросил Шильдер.
Надо сказать, что по характеру Нобель-старший был типичным холериком, то есть мог вспыхнуть от любого неосторожно брошенного по его адресу слова. И уж понятно, что он терпеть не мог, когда кто-то пытался выставить его на посмешище. И хотя на тот момент он понятия не имел, как именно следует сделать так, чтобы мина взрывалась только при столкновении с кораблем, он принял вызов и попросил лишь назначить дату проведения испытаний. В итоге было названо 12 октября 1840 года.
* * *
Вскоре Нобель представил на рассмотрение Комитета подробные чертежи своей первой мины, а затем сообщил о готовности к ее испытаниям. Она представляла собой самый обычный деревянный ящик, начиненный порохом (никакого другого взрывчатого вещества на тот момент, по сути, еще не было), установленный на четыре якоря, в который были уложены три детонатора. Но главным новшеством в мине был, безусловно, придуманный Нобелем взрыватель, сердце которого составляла пробирка с серной кислотой, обернутая бумагой, пропитанной той же кислотой. В момент столкновения мины с каким-либо массивным телом пробирка разбивалась; в результате начавшейся химической реакции бумага воспламенялась, поджигала порох – и происходил взрыв.
Испытывать мину решили на Малой Неве, неподалеку от дачи генерала Шильдера на Петровском острове. Вот как рассказывает об этих испытаниях И. Карлберг: «Нобель нервничал. Он потребовал изготовить из грубых деревянных балок плот, который должен был изображать неприятельское судно. “Мину” он сделал из деревянного ящика, в который положил порох и три трубки-детонатора. Он понимал: велик риск, что мина взорвется преждевременно, ибо толчок лодки, с которой они его ставили, может легко испортить все дело. Он еще больше разнервничался, когда выяснилось, что матросы, которые должны были доставить его на место в гребной лодке, говорили только по-русски и не понимали его инструкций. Все они находились в смертельной опасности. Нобель аккуратно пристроил мину на корме и сел в лодку. Только когда мина была спущена на воду и они благополучно вернулись к мосту, он смог перевести дух. Идея сработала. Плот несло к мине. Когда он коснулся трубок-детонаторов, “она немедленно взорвалась, подбросив плот в воздух”, если верить официальному отчету членов комитета, написанному на следующий день. Шильдер был вне себя от радости. Он обнимал и целовал Нобеля, лихо отплясывал на мосту. В рапорте императору комитет не скупился на похвалы. Изобретение Нобеля “превосходило все предыдущие”. Нобелевская мина “с большим успехом” могла применяться в качестве “оружия против подступающего с моря врага”. По сохранившимся оригинальным рукописным документам в Архиве Военно-морского флота в Санкт-Петербурге легко можно увидеть продолжение этой драматической истории. Рапорт о нобелевской мине отослали царской семье, вернее, великому князю Михаилу Павловичу, любимому брату Николая I. Это было вполне естественно. Младшему брату Николай поручил все, связанное с армией и артиллерией, и почти все, что касалось нового огнестрельного оружия, ложилось ему на стол»[21].
Сам Эммануил Нобель, будучи, как любой архитектор, отнюдь не лишенным способностей художника, запечатлел эти испытания в виде акварельных набросков.
По итогам испытаний Комитет признал предложенный Нобелем запал для подводных мин заслуживающим внимания и рекомендовал оставить изобретателя при Комитете для освоения его изобретения на его условиях: выплате 25 тысяч рублей единовременно с условием сохранения секретности и обеспечение содержания в 25 рублей в сутки на все время сотрудничества. «Хотя воспламенение подводной мины по способу Нобеля представляется небезопасным для своих судов без принятия особых предосторожностей, нельзя не признать, что этот способ во многих случаях с пользой может быть употреблен», – говорилось в отчете Комитета об испытаниях.
Все это, напомним, происходило в октябре 1840 года. Однако в ноябре Нобель заболел, и окончательное решение о его работе при Комитете было отложено до его выздоровления. Тем временем в Комитет поступил рапорт некого лейтенанта Рамстета, который заявил о том, что знает, как обеспечить воспламенение подводных мин пиротехническим способом, аналогичным способу Нобеля. После этого, по словам И. А. Дьяконова, у членов Комитета сложилось мнение, что можно обойтись без сотрудничества с иностранцем Нобелем.
Уже 4 января 1841 года Комитет решает отказаться от изобретения Нобеля и исключает его из своих членов, обосновав это следующими причинами:
а) чрезмерными запросами Нобеля о вознаграждении;
б) незнанием Нобеля русского языка, что потребует дополнительных затрат на содержание переводчика;
г) появившейся возможностью разработки аналогичного способа воспламенения мин собственными силами Комитета.
Одновременно изобретателю были указаны некоторые неприемлемые недостатки его изобретения, в частности, невозможность сделать его мину безопасной для своих кораблей.
Для компенсации материальных и моральных потерь Нобелю предлагалось выдать ему вознаграждение в 1000 рублей.
Впрочем, уже очень скоро стало ясно, что ничего реального за предложением Рамстета не стоит. Собственными силами, без Нобеля, Комитет ничего сделать не сможет, и потому было решено вернуться к сотрудничеству с «господином иностранцем» с выплатой ему 25 рублей в сутки в течение всего времени, пока это сотрудничество продолжалось. И Нобель согласился, хотя, безусловно, изначально рассчитывал на большее. Он понимал, что главное заключается в том, что он «вошел в обойму» инженеров, тесно связанных с военной элитой России и разработками новых видов оружия, и это открывало огромные перспективы. Когда его пригласили на обсуждение конструкции нового ружья, он окончательно утвердился в мысли, что находится на правильном пути.
К осени 1841 года он сумел от первой, по сути, кустарной модели мины продвинуться до того, чтобы представить в Инженерное управление целый пакет предложений, которые, согласно И. А. Дьяконову, включали в себя: усовершенствованную пиротехническую подводную мину; способ делать заграждение из этих мин безопасным для своих кораблей; мину, движущуюся по воде, и способ площадного применения подземных (саперных) мин. Нужно заметить, что к этому времени над работой Комитета сгустились тучи: во дворце были явно недовольны тем, что потраченные на его работу немалые деньги до сих пор не принесли практически никаких результатов, и собирались свернуть его деятельность.
21 ноября 1841 года генералу Карлу Андреевичу Шильдеру было прислано письмо о высочайшем решении продлить деятельность Комитета только до весны 1842-го с условием, что до окончания этого срока Его Императорскому Величеству будут представлены опыты, демонстрирующие обещанные Комитетом достижения. Дальше были только позорная отставка и высочайшая немилость, обрекающая на прозябание. Поэтому предложения Нобеля стали для Шильдера, Якоби и всех остальных членов комитета спасательным кругом, подобным тем, которые он какое-то время назад собирался производить в Або.
27 декабря 1841 года Комитет получил предписание великого князя Михаила Павловича рассмотреть пакет новых предложений Эммануила Нобеля, в который входили:
а) усовершенствованная пиротехническая подводная мина;
б) способ обеспечения безопасности подводных мин для своих кораблей (минный перемет);
в) движущаяся по воде мина;
г) способ площадного применения сухопутных мин.
Вот так и получилось, что в 1842 году деятельность Комитета была связана в основном с оценкой новых предложений Нобеля и получала на это необходимое субсидирование из казны. Говоря современным языком, мина Нобеля стала флагманским проектом Комитета, и ему по указанию самого Николая I было велено ни в чем не отказывать. К примеру, когда весной 1842 года Нобелю для будущего эксперимента понадобились двухмачтовое судно и баржа, в военно-морском ведомстве поворчали, но отказать не посмели.
Сам Нобель отлично чувствовал, насколько его ценят и какие огромные ожидания с ним связывают, а потому во время очередной вспышки ярости угрожал, что бросит все к чертовой матери и вернется в родную Швецию. Суммарно, согласно ряду источников, ему было в этот период выделено 40 тысяч рублей – как на эксперименты, так и на личные нужды. То, что пишет по поводу его финансирования Марта Нобель-Олейникова, увы, не только не проясняет, но и запутывает данный вопрос: «Принимая во внимание степень риска для жизни и здоровья, которому подвергал себя изобретатель взрывчатых веществ, вознаграждение, выданное правительством, было достаточно скромным и составляло, согласно нашим сведениям, по 3000 рублей дважды. Однако Нобель при посредничестве Н. Огарева лично ходатайствовал перед Министерством военных дел о снижении суммы гонорара с предполагаемых 40 000 рублей до 3000 рублей, поскольку ни один эксперимент на тот момент не был окончательно завершен. В докладе министру военных дел Н. Огарев указывает, помимо прочего, что “Нобель не получает никакого жалования в Комитете за свои подводные разработки и поэтому вынужден просить о возмещении расходов и времени, потраченных им для данной цели в ущерб прочим занятиям…”».
В то, что Нобель да еще при посредничестве Огарева, ходатайствовал о снижении суммы гонорара, признаемся, верится с трудом. У Нобеля в Стокгольме в буквальном смысле слова голодали жена и дети, и при всей его честности и благородстве ему было отнюдь не до игр в альтруизм. Да и Огарев, будучи натурой в чем-то романтической, последним качеством особо не страдал. Так что нам остается предположить, что 3000 рублей пошли на нужды изобретателя, а остальная сумма включала закупку материалов, судна для испытаний, привлечение квалифицированных рабочих и прочие расходы.
С помощью выделенных ему средств Нобель значительно усовершенствовал свою мину, и теперь внешне она выглядела, как небольшой дубовый бочонок со вставленным в него запальным устройством. На самом деле бочонков было два – один вставлен в другой, – и это, среди прочих мер, обеспечивало безопасность мины до ее задействования, чему Нобель придавал немалое значение[22]. Этой же цели служило весьма элегантное решение о размещении запала в жестяном корпусе, который максимально плотно вставлялся в гнездо в бочонке, чтобы в него не попала вода. Принцип запала был тот же, что и в первом образце, но он опять-таки был куда более совершенным и элегантным с технической точки зрения.
Вот как описывает это устройство и систему обеспечения ее плавучести Ю. Дьяконов: «Запальное устройство представляло собой коническую трубу (по габаритам гнезда) со свинцовым наконечником, в котором размещалась стеклянная колба с серной кислотой, обернутая хлопчатой бумагой, пропитанной хлористо-кислым калием. Свободное пространство засыпалось порохом. Стеклянная колба нижним концом закреплялась в свинцовом наконечнике, а на верхний ее конец надевался металлический трубчатый шток длиной 2 фута. Этот шток, выступая за верхние габариты корпуса мины, мог смещаться при воздействии на него корпуса проходящего корабля. Это смещение приводило к излому стеклянной колбы и вытеканию из нее серной кислоты на бумагу, возгорание которой приводило к воспламенению пороховой засыпки, взрыв которой обеспечивал пробивание свинцовым наконечником жестяной оболочки гнезда и зажигание порохового заряда, размещенного во внутреннем корпусе мины. Для безопасного обращения с запальным устройством, при его установке в гнездо – в процессе постановки мины в море, а также при вынимании его из гнезда – при разоружении мины предусматривалось предохранительное устройство в виде жестяного поплавка с конической жестяной трубкой в нижней части. <…> Отверстия в нижней части баллона обеспечивали вытекание воды из него при всплытии мины на поверхность. Повторное погружение мины на глубину приводило к самовытаскиванию запального устройства из гнезда за счет положительной плавучести пустого баллона и, таким образом, разоружению мины без участия человека».
* * *
Еще одним важным изобретением Нобеля, призванным обеспечить безопасность прохождения «своих» кораблей по фарватеру, стал уже упомянутый выше минный перемет. Он представлял собой пустотелое бревно, размещенное на дне поперек заграждаемого фарватера и способное с помощью специального привода вращаться вокруг собственной оси. С помощью прочных тросов (минрепов) мины закреплялись на бревне, и по необходимости минрепы то наматывались на бревно, принудительно уводя мины на глубину, превышающую осадку проходящих кораблей, то, наоборот, возвращали мины на углубление, при котором они становились опасными для неприятельских кораблей. Перемет Нобеля обеспечивал также возможность безопасного разоружения группы мин при вынимании их из воды за счет самовытаскивания запальных устройств из установочных гнезд. Для этого достаточно было вывести мины на поверхность, а затем снова углубить их с помощью перемета.
9 июня 1842 года на реке Охте было проведено первое испытание усовершенствованной подводной мины и перемета Нобеля по программе, которая включала в себя подъем и опускание мин в воде с помощью перемета в течение 38 минут; проверку безопасности путем вкладывания и вынимания запалов в мины, что, как уже было сказано, осуществлялось лично Нобелем, а также проверку непромокаемости мин путем выдерживания их в воде в течение 8 недель. Июньские опыты были в итоге признаны успешными, и 13 июля в Комитет поступило предписание о проведении опытов над минами Нобеля в высочайшем присутствии, на что было выделено 1060 рублей.
Наконец, месяц с небольшим спустя, 15 августа, Комитету сообщили, что окончательное решение о продолжении или закрытии его деятельности отложено до получения результатов опытов над минами Нобеля. При этом опыты над минами Шильдера было указано пока не производить. Только после этого члены Комитета вздохнули с облегчением – у них появлялся шанс продолжить карьеру на прежних должностях, а заодно и спасти репутацию. Решающие опыты с минами Нобеля были назначены на 2 сентября 1842 года у Синего моста через реку Охту. На испытаниях ждали самого императора, но он по каким-то причинам не прибыл. Однако великий князь Михаил Павлович и цесаревич Александр в назначенное время поднялись на наблюдательный пункт, с которого и наблюдали за экспериментом.
Если судить по архивным документам, результаты эксперимента превзошли все ожидания. 17 сентября в Комитет поступило отношение начальника штаба генерал-инспектора с извещением: «Военный министр сообщил от 14 сентября, что Государь, вследствие представления генерал-инспектора о результатах опыта 2 сентября, приказал:
1) выдать Нобелю 25 000 руб. в награду за передачу секрета его мин;
2) передать изобретение Комитету о подводных опытах и причислить к оному Нобеля»[23].
От Нобеля взамен требовалось подписать обязательство «не раскрывать свою тайну никакому иному государству».