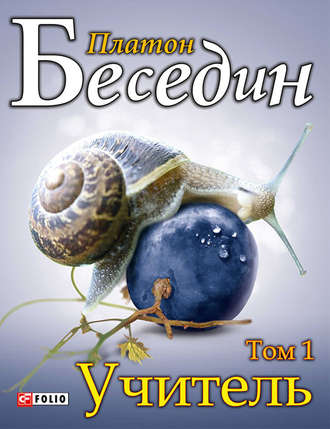
Платон Беседин
Учитель. Том 1. Роман перемен
Как цветок тля
1
У входа в «Старый замок» – «фейсконтроль». Это слово черным маркером выведено на листе А4, приклеенном к двери скотчем. Рядом синей шариковой ручкой приписано – «и дрескод». Контролируют «фейсконтроль и дрескод» три кряжистых татарина: своих, улыбаясь, пропускают, таких, как я, досматривают, иногда щупают, презрительно, нехотя. Это первый эшелон обороны.
Второй – выжатая блондинка с узкими глазенками и широкими полномочиями, лицо хмурое, со следами пережитых страстей. Собирает по десятке за вход. Взамен красной купюры с портретом Мазепы штампует фосфоресцирующую метку на руку.
В предбаннике основного помещения несколько треснувших – замок, видимо, действительно старый – зеркал, у которых вертятся аляповатые девицы. Пахнут дешево, агрессивно – смесью освежителя «Хвойный» и духов “Gevangi”, которыми торгуют на стихийных рынках цыгане. В основном помещении этот запах теряется, смешиваясь с табачным дымом и сигнальными выбросами потовых желез.
Главный ажиотаж – у шеста, где под Мадонну залихватски выплясывают набравшиеся принесенным из дома самогоном и купленным для отвода глаз пивом девицы. Они лезут на вертикальную сталь, отталкивая друг друга локтями, коленями, задницами, пробуют вертеться, упражняясь в предположительно эротических па. Им улюлюкают, хлопают красно-бурые парни с коротко стриженными головами, на которых оставлены торчащие чубчики. Заправляет происходящим нацепивший парик из новогодних дождиков говорун, выкрикивающий в микрофон незамысловатые конструкции вроде «эге-гей, «Старый замок», «а ну веселей» или «с Восьмым марта, девчонки, оторвитесь сегодня». Ему, похоже, верят, потому что отрыв идет, головы теряются на ура.
Встречаю Таню Матковскую. Тянет меня за столики, где сидят наши. Тараторит быстро, язвительно – хорошая замена Андрею Малахову в «Большой стирке».
Садись, садись, не задерживай! Кто эти люди? Наши! Все? Почти, какая разница? Ты садись, пей, у меня дел вагон! Хорошо, только закажу себе пиво! Да-да, о, Надя, сюда-сюда!
Забыв обо мне, Таня машет рукой каланче в белом платье. В наглом свете дискотеки оно просвечивается, но нижнее белье выглядит не сексуальным, а наоборот, отталкивающе нелепым.
Я хочу заказать себе пива, но надо бы познакомиться с теми, с кем мне быть за одним цвета топленого молока столиком.
– Аркадий. Аркадий. Аркадий.
Протягиваю руку. Жму руки. И в этот момент, наверное, всегда бываю смешон. Впрочем, это дело напивное. Поэтому надо идти к барной стойке.
Мне пиво. Вам какое? То, что дешевле. «Черноморское»? Пойдет.
Возвращаюсь обратно за столик. Две девушки болтают о прокладках. «Белла» дешевле, но «Олвейз» качественнее, хотя и то и другое – дрянь; лучше – тряпочки, ха-ха-ха. Девушки как бы секретничают, но так громко перекрикивают музыку, что слышно и мне.
– Выпьем! – грохочет пузан в полосатой бело-зеленой рубашке.
Несколько человек тянут бокалы. Один, с раскрасневшимися ушами, настойчиво лезет с рюмкой.
– А что надо сказать? – Пузан из рода застольных весельчаков. – Респект!
Это слово он тянет на манер комментаторов, объявляющих рестлеров. Через несколько его потягушек я устаю респектовать. Еще пара респектов, пара глотков – и начну говорить с девушками о прокладках.
Но этого не происходит, потому что на танцполе я замечаю ее. И хочу не отводить взгляда, чтобы ублажать, тешить глаза. «And please, say to me, you’ll let me hold your hand».
Сначала мне нравятся ее ноги; очаровывают, пленяют. Обычно ведь говорят что-то в духе: длинные, стройные, эффектные, но тут дело не в этом – они крепкие, точно у легкоатлетки, бегающей марафон. И передвигаются механически точно, уверенно и вместе с тем грациозно, изящно. Амурные ноги, подарок или издевка Эроса. Такие, что непривычно волевым усилием я беру рыжего соседа, который до этого минут тридцать возмущался, почему я не танцую, хотя сам наверняка принадлежит к касте дрочеров, и, заставляя смотреть, говорю:
– Вот с этой девушкой я бы потанцевал!
– С кем? – не понимает рыжий, и вопрос его выглядит святотатством.
Звучит бойкое “I wanna be if you wanna be”, и моя с крепкими ногами танцует рядом с четырьмя девчонками. Видимо, они изображают – вольно или невольно – “Spice girls”. Из них я знаю лишь Джерри Холливелл, но моя скорее похожа на мулатку, которая и поет, и в клипах рисуется меньше других.
Я любуюсь ею, наши идут танцевать, оставляя после себя пустые бутылки. Хотя самое время выпить, отметить чудное мгновенье. Трясу бутылками, тщетно надеясь найти остатки. И официантка не подходит.
Покачиваясь, встаю из-за стола. Нащупываю в кармане мятые купюры. Надо бы прикинуть, сколько денег осталось, но я не прикидываю, конечно. Второе мое столь сильное опьянение в жизни. Хотя сколько там этой жизни было?
– Пятьдесят грамм водки, пожалуйста.
– Думаю, тебе хватит, – чеканит бармен.
Его движения больше не кажутся мне вальяжными, плавными. Теперь они резкие, грубые, да и сам он как будто из дерева. Тушуюсь, вновь мямлю что-то о пятидесяти граммах. Он машет чурбаном – маленькие уши торчат, как сучки, – крепкой головы. Нельзя, значит. Но пиво-то можно? Судя по тому, что он цедит его, пуская облако пены, в пластиковый стакан – можно. Разобрались, ура! Первый глоток, второй, третий – хорошо после респектовой водки. Приваливаюсь к стене, расползаясь толстушкой, снявшей корсет.
– Э, пива дай, на, глотнуть, на!
Ко мне обращается парень в небесно-голубой футболке с округлой красной надписью “CITROEN”. Знакомое сочетание цветов, букв. В такой бегал Мостовой. И Карпин. И Мазиньо. И Хуанфран. Они били, пасовали, делали подкаты. Вот, что они делали. Следовательно, они футболисты.
На парне – футболка клуба «Сельта» из Виго. Недавно канал ICTV показывал, как она обыгрывала «Севилью» из Андалусии, родины Дон Кихота. И визгливый комментатор – ему бы на бойне работать – кричал: «Алекс Мостовой!»
Собственно, из-за Александра Мостового – ну и Валерия Карпина – я и смотрел матч, дождавшись полуночи. Чемпионат Испании по футболу ICTV показывал каждую субботу, но я обычно не выдерживал – засыпал. А тут дождался – и все сошлось: и «Сельта» выиграла, и Мостовой забил, и Карпин пас отдал, и даже навязчивая реклама из прыгающих букв в левом нижнем углу «Лучше гор – только Златогор» раздражала умеренно.
– Угощайся, – протягиваю парню пиво.
– Дякую, братан.
Глотки он делает крупные, частые. Надо бы его попросить развернуться, увидеть, какой номер у него на спине. Вдруг «десятка» или «восьмерка».
– Вы танцуете?
Что за вопрос? Здесь, наверное, все танцуют. Кроме меня. Ну и еще этого парня в футболке «Сельты».
– Простите, вы танцуете?
Вопрос громче, навязчивее, рядом со мной. И задает его – парапарам, марш священных слонов по телу – моя из “Spice girls”, с крепкими, точно у легкоатлетки, ногами.
Как в дурной молодежной кинокомедии, поворачиваюсь вправо, влево, назад, будто зарядку делаю. И наконец хриплю:
– Вы мне?
– Вам, вам, – она улыбается. – Танцуете?
Как там в «Хоббите»? Третий раз за все платит. Раздражать ее тугодумством не стоит. Изобразить решительного умника, героически выдавить:
– Да, да…
И выйти танцевать, оставив парню из «Сельты» пластиковый бокал с пивом.
Есть две песни, под которые танцуют первые «медляки» – “Don’t speak” и “Still loving you”. Мой приходится на вторую. Клаус Майне вкрадчиво поет о любви, а я отдавливаю Раде – наконец у мечты появилось имя – крепкие ноги. Рука сползает по талии вниз, но не от одолевающей меня похоти, а от накатившей – перенервничал – вялости. Рада то ли не хочет поправлять, то ли сочувствует мне. А рука, держащая ее руку, потеет, и я периодически отнимаю ее, чтобы проветрить. Колоколами – “hells bells” – звенит мысль: «Спрашивай ее что-нибудь…»
Какие-то слова все-таки вылетают. Есть даже фразы, несвязные, глупые, но фразы. Рада отвечает с неизменной улыбкой. Тут же забываю сказанное ею, и, как это часто бывает со мной в моменты паники, ледяными клещами выкручивает мошонку. Грех, конечно, молиться в таком случае, но я прошу Господа, чтобы не рухнуть в обморок.
Едва танец заканчивается, разворачиваюсь, не прощаясь, выбегаю из «Старого замка» – ретируюсь, слушая, как грохот дискотеки переходит сначала в гул трассы, а после в стрекотание сверчков. Бегу, опаздывая, домой, и спешка помогает забыть позор уродливого подобия танца с Радой.
Мама, почему ты не отдала меня на танцы? Почему не заставляла развивать координацию движений? Почему не поощряла занятия спортом? Для чего я столько читал? Для чего мне прочитанные книги, когда с ее отдавленных ног смеялись все, даже Клаус Майне?
Да, нацисты были правы, когда сжигали книги. От них одно зло. Они заставляют думать, включают внутренний диалог. Лучше – организовать тысячу танцевальных школ по всей стране. Но в Германии нацисты не сделали этого. Может, в том числе и поэтому они проиграли.
2
Вспоминаю наше знакомство с Радой прежде, чем звонить ей. В нервных, въедливых деталях, переживая ту встречу вновь так подробно и ярко, что не слышу, как, подытоживая выступление Головачева и Новокрещенцева, завершая учебный день, раздается звонок. Быстро набиваю рюкзак “Nirvana” учебниками и тетрадями, репетирую приглашение на свидание, хочу скорее уйти, но Валентина Дмитриевна просит меня задержаться.
Остаемся с ней вдвоем в кабинете. Она листает классный журнал, диктует мои оценки.
У нее интеллигентное лицо, обрамленное кудрями, выкрашенными в насыщенный каштановый цвет, изысканные манеры. Весь ее облик, манера держаться так контрастирует с запахом навоза со двора, с плесенью кабинетных углов, с ветхостью учебников, парт, стен, пособий, что она кажется породистой сукой, оказавшейся в собачьем приемнике в стае бродячих псин – не выбраться, не смириться. И самое мерзкое – за непохожесть ее ненавидят. За то, что она пытается жить честно.
Раньше она преподавала в Горловке. Муж работал на заводе «Стинол». А потом Валентина Дмитриевна оказалась в Каштанах. Ее сразу назначили директором. Остальные учителя заговорщицки переглядывались, ухмылялись, вздыхали – «городская приехала».
Я узнал все это от родной тетки Ольги Филаретовны, работающей в школе завучем и ненавидящей Валентину Дмитриевну по личностным и карьерным причинам.
– Ну что, Аркадий, куда решил поступать?
Глаза у Валентины Дмитриевны миндалевидные, чуть раскосые.
– Пока думаю.
– А что с медицинским?
– Уже нет.
От перспективы декламировать клятву Гиппократа я, действительно, отказался, а новую мечту, пусть краткосрочную, так и не смог отыскать.
– А ведь ты так прекрасно географию знаешь…
Дальше следует эпический, хоть и слегка затянутый, как вступление к “November rain”, монолог о радостях географического будущего. О конференциях и экспедициях. О вулканах и водопадах. О нефти и газе. Наконец, о том, как грешно зарывать свой талант в землю. Фразу «грешно зарывать талант в землю» Валентина Дмитриевна особенно любит и вставляет ее едва ли ни в каждое предложение, и я, правда, начинаю чувствовать себя грешником, которого от ада отделяет лишь самая хрупкая вещь на свете – жизнь; один кирпич, один литр масла на рельсы – и ускорение на highway to hell обеспечено.
– Понимаю, Валентина Дмитриевна, но родители не хотят…
– Я могу поговорить с Марией Филаретовной, – лишний раз убеждаюсь, что звучание имени и отчества мамы не соответствуют ее облику, – она поймет…
– Вы уже говорили, Валентина Дмитриевна, помните?
Она и, правда, беседовала с мамой, специально придя к нам домой. Они сели в кухне на голубых кособоких стульях за столом, покрытым старой, в ножевых порезах клеенкой. Пили чай с мятой, ели галетное печенье «Мария», которое обмазывали персиковым вареньем, извлеченным по случаю из кладовки. Наверное, им было тепло и душевно. Валентина Дмитриевна рассказывала обо мне в географии и географии во мне, убеждала. Но мама не соглашалась. Куда устраиваться? Чем зарабатывать?
Ездить по миру, исследовать, преподавать. Валентина Дмитриевна, искренне – спасибо ей за это – переживавшая за меня, была убедительна, эмоциональна. Но мама не хотела географа в доме.
Хотел ли я? Вновь, как и в случае с поступлением в медицинский университет, я рефлексировал, сомневался, при этом с легкостью принимая решения за других, увещевая их напутствиями и раздавая, как леденцы детям, советы, но за себя определиться не мог. Впрочем, может, именно поэтому я и сам требовал решений за себя от чужих. Чтобы, например, мама четко, безвозвратно, как ломоть отрезала, назвала вуз и специальность, которой мне стоит учиться. Я бы с легкостью согласился. Пусть и, может, страдал потом, но зато сейчас я избавился бы от удавки ответственности.
Но мама – гены, гены – терзалась и блуждала сама. Она ждала конкретики от меня, но при этом воспринимала будто младенца, требующего опеки и заботы, и оттого подсознательно сомневалась в любом моем решении. Мы баловались чудаковатой формой пинг-понга, где каждый перебивал шарик ответственности на чужую сторону, но так, чтобы ни в коем случае не забить гол.
Говоря с мамой на кухне, Валентина Дмитриевна должна была переубеждать и меня. И у нас не осталось бы ни единого шанса возразить ей. Припечатать очевидностью – вот что должна была сделать Валентина Дмитриевна. Скажи она: «Аркадий обязан пойти на географический, потому что он любит, знает этот предмет, а заниматься надо, я говорю вам как человек поживший, тем, в чем действительно имеешь талант», – мы бы покорились ей. Хотя бы потому, что в детстве самым ценным предметом в доме для меня был офицерский атлас, огромный, массивный, похожий на строительную плиту. Не знаю, откуда он взялся, но лежал на запыленном шкафу, рядом с иконами. Маленьким я вставал на стул, чтобы спустить атлас вниз, и листать, листать.
В средних же классах школы, когда я, насмотревшись на Курта Кобейна и Виктора Цоя, решил стать рок-звездой, он тешил фантазию. Чертя синими, красными, зелеными карандашами, я прокладывал на картах маршруты будущих звездных турне.
Мюнхен – Аугсбург – Штутгарт – Нюрнберг – Майнц – Висбаден – Кельн – Менхенгладбаг – Дюссельдорф – Дортмунд.
Лилль – Руан – Париж – Труа – Нанси – Страсбург – Лион – Тулон – Марсель – Монпелье – Тулуза – Бордо – Нант.
Каракас – Джорджтаун – Парамарибо – Богота– Лима – Ла-Пас – Бразилиа – Асунсьон – Буэнос-Айрес – Монтевидео – Сантьяго.
Я катался бы, феерил на рок-шоу, пока не умер бы от передозировки. И фанатки бы рыдали, и носили бы цветы на мою могилу. Ведь «звезда рок-н-ролла должна умереть, без прикола…».
Но тогда Валентина Дмитриевна не нашла аргументов, таранящих цитадель бессоновских, шкаринских фобий, поэтому ее монолог неизбежно разделили на ноль. Не найдет она их и сейчас. Конечно, я пообещаю подумать, да, мы еще побеседуем, но это лишь орнамент, узор, без несущего материала он бесполезен. Географом мне не быть, Валентина Дмитриевна, отпустите…
Выхожу на двор школы, разделенный зелеными линиями кипарисов, тополей и платанов на прямоугольные секторы. Сворачиваю за угол, иду туда, где четыре алычовых дерева создают тень и дают урожай из сине-багровых и ярко-желтых плодов, которые почему-то никто не рвет; они зреют, падают, гниют, оставляя жужжащие сладострастными мухами блямбы. Здесь собираются те, кто смахивает на славян.
Татары же кучкуются с другого угла школы, в беседке рядом с пустырем. Алычи там нет, зато есть приличные скамейки. Но скоро они освободятся, потому что татарам обещали построить отдельную школу.
Подхожу к одноклассникам. Майчук сидит на скамейке, у него на коленях – Люба Петрушкина с самой, как говорят, лучшей среди старшеклассниц грудью. Впрочем, судить об этом я буду, когда Петя – он обещал мне это в брошенном амбаре пьяным от «Каховского» коньяка – продемонстрирует ее фото.
– О, а вот и Бесик, – гнусавит Цапля, Лиза Цаплина, тощая и настолько длинная, словно родители боялись, что она не вырастет, а потому, растягивая, подвешивали ее на турнике и, видимо, перестарались.
– Курить будешь? На – кури!
Петя отрывается от коленки Петрушкиной, лезет в карман, протягивает металлический портсигар сигарилл «Аль Капоне». Ловлю завистливый взгляд Лехи Новокрещенцева. Он вообще из тех, кто взглядами изъясняется лучше, чем словами.
Подкуриваю от бензиновой зажигалки Вадика Головачева. Ничто человеческое баптистам не чуждо.
– Ну ты, красава, сегодня, Бес, – хлопает меня по плечу кучерявый чернявый Артур Тлисов, – вот тут у нас буровая установка…
Он пародирует меня, сбиваясь на фальцет, который прорывается, когда я волнуюсь. Все ржут. Но по-доброму. А вот Цапля, предлагавшая мне две недели назад встретиться, хихикает, кажется, зло.
Жду, когда все разойдутся, дабы позвонить Раде. Сам я, по обыкновению, уйти из компании не могу.
– Ты это, – смахнув Петрушкину с колена, из точки А в точку Б, встает Петя, – давай приходи ко мне – на вечерину. Отрепетируем выпускной. К семи подгребай, и девку свою бери. – Он подмигивает, глаза делаются бесстыжими, как у Люцифера, сорвавшего куш из человеческих душ.
Не спрашиваю его, откуда он знает про Раду. Не стоит швыряться риторическими вопросами. В деревне все про всех знают.
3
После танца с Радой я боялся ходить на подготовительные курсы. Отсиживался дома. Мысль о том, что я могу столкнуться с ней в коридоре, увидеть при свете, а главное – она увидит меня, лихорадкой приковывала к кровати.
Во вторник, когда резко похолодало, как всегда случалось у нас в середине марта, и студеное утро полезло с улицы в дом, мама, заметив испарину на моем лице, сунула градусник мне под мышку. Оказалось тридцать восемь и три.
Бабушка охнула. Мама всплакнула – мои хвори она всегда принимала за вселенскую трагедию – и оставила меня дома, наказав полоскать горло фурацилином, промывать нос солевым раствором и вливать в себя горячее питье, лучше всего малину или черную смородину. За исполнением указаний должна была следить бабушка.
К середине дня она, видимо, перестаралась. Перина, на которую меня уложили, промокла, став, точно стираная, а я, обезвоженный, побледнел и поплыл. Лишь после этого бабушка, распахнув окна, пустила воздух. Стало легче.
Она так пристально опекала меня, что делать приятное – те радости, коими обычно тешатся, когда болеют: сон, телевизор, книги, безделье – не получалось. Я был один на один с образом Рады, и Клаус Майне вкрадчиво шептал “ Time, it needs time to win back your love again”.
В среду я также остался дома, но, к счастью, смог подружиться с кайфом безделья. Бабушка, напуганная вчерашним усердием, заходила ко мне только по зову и ничего, хотя на ее лице читалось непреодолимое желание, не навязывала. Меня отдали на растерзание каналу СТС, который я обычно смотрел лишь днем, после школы, а тут удалось деградировать прямо с утра. Шли в основном повторы сериалов – «Бухта Доусона», «Беверли Хиллз», «Квантовый скачок», «Чудеса науки», – но с учетом пропущенного вчерашнего дня это было весьма кстати.
Я воодушевился настолько, что отправил бабушку в магазин – купить продукты для любимых хот-догов. Получив ингредиенты, встал, прошел в кухню, под переживания – вербальные и невербальные – бабушки включил покрытую слоем липкого жира печку «Харьков», засунул туда булочку, разогрел. Достал ее, разрезал, смазал кетчупом, майонезом, горчицей (жаль, что была только с зернами), положил в желто-розовую массу теплую аллергического цвета сосиску, расплавленный на сковородке сыр, но после запаниковал, не найдя в столе с вечно отваливающейся дверкой, повисшей на расшатанной навеске с торчащими шурупами, которые было все некому закрутить, бабушкиных квашеных огурцов. На поиски ушло десяток неестественно долгих минут и сотня квадратных сантиметров желудка, уничтоженных выделенным в предвкушении чревоугодия соком. Когда же наконец я капитулировал, бабушка принесла из кладовки банку с фирменными огурцами. Я нарезал их длинными полосками и, окаймляя сосиску, с пиететом разложил внутри булочки.
Тупое жевание хот-догов уничтожало воспоминания, переживания о Раде.
Вернувшись с работы, мама сначала получила у бабушки детальный отчет о моих действиях, после сунула градусник, потрогала лоб, проверила горло, нос и постановила, что утром я иду в школу, а затем – на подготовительные курсы.
Идти вечером на занятия, чтобы вжиматься в стены, пытаясь сохранять незаметность, лишь бы не встретиться с Радой – нет, легче было бы запереть себя в «Железной деве». Поэтому, выйдя в Песчаном, вместо курсов я отправился на пляж.
Бетонированный пирс, изъеденный солью волн, пустовал. Работало лишь несколько палаток, и расхристанный мужик, безвольно свесив руки, дрых на скамейке. Я спустился к морю, растирая подошвами мелкий влажный песок, оставляя на нем рельефный след. Резким йодированным запахом отмечались бурые водоросли, выброшенные на берег.
В очередной раз до изнеможения я принялся мотать эпизод нашего знакомства с Радой. Хотел повторить его вновь, учтя предыдущие ошибки. Да, я не стал бы озираться, будто сельский дурачок, удивляться, пунцоветь, нервничать, топтать ноги. Нет, определенно, я был бы спокоен, уверен в себе. И галантен. И очарователен. И монументален. Что там еще полагается?
Так вместо занятий неделями я шлялся по пляжу, прокручивая варианты поведения с Радой, пока на остановке не наткнулся на Таню Матковскую. Мышиное лицо ее пришло в движение, засуетилось, и черты без того хаотичные – возможно, Бог, создавая ее, просто швырнул нос, брови, глаза, губы – окончательно утратили порядок.
– Ты куда делся, Бессонов? Тебя один человек хочет видеть…
Она вцепилась мне в руку. Потащила к песчановской школе. Я хотел вырваться, но Таня держала крепко. Как собачонку, она подтащила меня к входу в школу, и в этот момент из дверей вышла Рада. Улыбнулась Тане. После заметила меня:
– А, тот самый Аркадий. Ну давай, что ли, пройдемся…
Она сказала это так естественно, просто, словно встреча наша была запланированной. Таня расцепила хватку, – пост сдал, пост принял – и под новым конвоем я поплыл по школьному двору.
Если правда, что в состоянии комы человек наблюдает за собой со стороны, то на второй встрече с Радой я пребывал в коме. У ржавеющих турников, теребя браслетик “Nirvana”, я исподлобья, стесняясь, разглядывал смуглую с подвижными чертами лица девушку: ярко-красные губы, кудрявые, будто завитки лапши «Мивина», черные кудри, темно-карие глаза. Похожа на татарку. Или на цыганку. Но не на русскую, точно. Общаясь с ней, я даже принюхивался, вспоминая риторику деда, утверждавшего, что татарские женщины специфически пахнут.
Но запаха не было – только страх и слова, вспыхивавшие огненными буквами, складывавшиеся в пылающие предложения. Огонь распространялся, подбирался ко мне, оцепеневшему от власти женщины.
4
После нашей второй встречи я пробовал стать буддистом в отношениях с Радой. Не спорить, не проявлять инициативы, не раздражаться, не желать – и не будет обид, терзаний, разочарований.
Но достичь равновесия я не мог. Каждая наша встреча – они стали регулярными – обдавала жаром, и я дрожал, отводя глаза, дабы не показывать смущение, страх. Когда же Рады не было рядом, я терзался мыслью, что вскоре мне предстоит поцеловать ее. По-настоящему, не в щеку, не так, как она целовала меня при встрече, наливая капилляры кровью. Нет, я должен буду целовать ее умеючи, мастерски, как знаток и ценитель. Как долбаный мачо.
Конечно, я целовался до этого. Пять, шесть, может быть, семь раз – пьяные воспоминания путались – при игре в «бутылочку». Брать меня в нее стали благодаря Пете. Когда горлышко указывало в мою сторону, я вставал на четвереньки и подбирался к жертве, вытягивал губы трубочкой, лез целоваться, просовывая язык как можно дальше и вращая им, точно перемешивая ингредиенты миксером. Ощущений не было. Лишь много, много слюны. Но это не в счет. Это даже не тренировка. А вот теперь предстоит решающая игра.
Вычитав идиотский, всесоврамши совет, я начал тренироваться на помидорах. Свежие еще не выросли, хотя надо было упражняться на них, поэтому одну за другой я вскрывал банки с консервацией, доставал плоды и впивался в них так, что шаленел от уксусной кислоты маринада. Еще раздражал перец. Черные горошины проваливались в желудок, оставляя неприятный шлейф горечи. Часто после этого у меня начиналась отрыжка, переходившая в изжогу, которой так мучился перед смертью дед. И его стоны «ууу, печет, ууу, дурно мне» снова зазвучали во мне.
Я штудировал книги о любви, выбирать которые мне помогала Маргарита Сергеевна. После моего интереса к каббале она прониклась ко мне не просто дежурной симпатией, а странной, близкой к патологии увлеченностью. Правда, сначала она подсовывала сомнительные книжицы вроде «Месть еврея», которые начинались интригующе: «Стоял чудный солнечный день. Еврей выехал на охоту». Дальше маховик фантазии автора с польской бздящей фамилией раскручивался, и нефритовый стержень пронзал разгоряченное лоно. Я же алкал точных советов по управлению женщиной, потому требовал серьезные книги. Маргарита Сергеевна смотрела взволнованно, теребила массивное серебряное кольцо на большом пальце и шла в подсобку, возвращаясь с ветхой, как правило, обклеенной скотчем книгой.
Толстой, Стендаль, Лермонтов, Кьеркегор, Бунин. Эти авторы препарировали любовь, и она мучилась, терзалась на столах гениальных патологоанатомов. Муки были тем чудовищнее от того, что гении молчали о практической стороне вопроса.
– Маргарита Сергеевна, – злой, взволнованный, а потому готовый быть откровенным суетился я, – мне нужна конкретика!
– Ну так, Аркаша, это все опыт, – улыбалась Маргарита Сергеевна. – Сама жизнь научит…
И я опять убеждался в бесполезности книг, нуждаясь в конкретном практическом руководстве. Особенно тогда, когда Рада вместо стандартной прогулки по набережной вручила мне сложенный вчетверо лист, который надушила так, что даже спрятанный в рюкзак он терроризировал пассажиров рейсового автобуса навязчивым терпким ароматом. Я развернул послание дома, за сараем с дровами и при свете пузатого фонаря с лампой на весь бок и встроенным радио – незаменимая вещь при регулярных отключениях света – читал, пропитываясь парфюмом.
Рада писала грамотные вещи. О том, что мы уже не дети и пора переходить к более серьезным отношениям, а не ходить будто первоклассники, держась за руки. О том, что мне хватит вертеть головой при встречах. О том, что необходимо больше узнать друг о друге.
Я и, правда, знал о ней чуть больше, чем о случайном попутчике в транспорте. Только внешность. Крепкие ноги, смуглая кожа, черные кучерявые волосы, темно-карие глаза, высокая грудь, подчеркиваемая ремешками и поясами. Тело из тех, которые принято называть точеными. Броский маникюр, редкого для села густо-сиреневого цвета. Из недостатков – едва заметные, пугливые в своем появлении усики над верхней губой, которые, возможно, со временем, когда она располнеет, превратившись в тумбообразную матрону, станут отпугивающими усищами.
Да, я тянулся к Раде, как тянутся к эффектным девушкам пубертаты, но общение с ней было тускло, неинтересно, пусто. Музыка, передачи, уроки, учителя, деревня – темы для обсуждения банальны, скупы. Да и музыку она слушала другую. Передачи смотрела иные. А книг вообще не читала. Будь она парнем, я назвал бы ее самым непривлекательным человеком в округе, но, к несчастью, у нее были притягивающие крепкие ноги.
В письме она писала железобетонные вещи. Перейти к более серьезным, взрослым отношениям. Узнать друг друга лучше. Быть мужественнее и увереннее. Набор обязательных банальностей, самых точных вещей на свете. Жаль только, она молчала о том, как реализовать, применить ее пожелания. И оттого, читая ее письмо, я столь болезненно испытывал собственное одиночество, от которого так старательно отбивался все старшие классы, забивая голову, тело, досуг безделицами.
Мне нужно было действие, яркое, решительное. Такое, на которое я был не способен. И вдруг мне повезло.
Кто-то – спасибо ему за это – оставил на сиденье автобуса мужской журнал. На обложке загорелый парень, блестящий от глянца и масла, демонстрировал рельефные кубики на животе. Содержание – в том же ферромонистом духе: чем живет Сильвио Берлускони, как быстро накачать пресс, для чего Брэду Питту Дженнифер Энистон, много пошлого юмора, очень много обнаженных и полуобнаженных девиц. Но во всей этой информационной воронке была одна ценность – статья «Как устроить девушке крышеснос», написанная известным пикапером, чье фото – разжиревший самодовольный мужик, похожий на провинциального участкового, откормленного пугливой женой и заботливой мамкой, – прилагалось.
«Крышеснос – сюрприз, совершаемый парнем для погружения девушки в состояние некого транса, ускоряющего процесс соблазнения». Изучив пикаперские инструкции, я разработал свой крышеснос, памятуя о надухаренном письме Рады.
5
Сегодня в школу я не иду. Готовлюсь к свиданию с Радой. Тщательно, продуманно, наверняка. Но из хаты, конечно, выхожу. Чтобы мама с бабушкой не заподозрили в прогулах. Тетради, учебники, ручки – в рюкзак. Немного – для вида. А вот приготовленных мамой бутербродов с вареной колбасой беру с запасом. Много ходить по селу, еще больше нервничать – два фактора, заставляющих есть больше обычного.
Выхожу из дома, иду вдоль главной трассы, мимо одноэтажных бело-синих домов и развалин бывшего АТП, возле которого на жухлой траве скелетами древних стальных мамонтов ржавеют комбайны, грузовики, прицепы. Стекла выбиты, шины спущены, салоны выпотрошены. Днем в них редко, но играют дети.
Мы с братом тоже вертелись здесь, облюбовав ГАЗ с длинным кузовом и прямоугольной кабиной с неподвижным рулем и торчащими из приборной доски проводами. Витя чаще всего держался за руль, а я, схватив припрятанную для таких случаев доску, отстреливался от воображаемой погони. Мы были налетчиками, ограбившими банк.
За этим занятием мы проводили все выходные, забывая вернуться домой и получая нагоняи от мам. Или приходили в вечер буднего дня; я строго после выполненных уроков, а Витя когда хотел, хотя чаще всего он крутился возле меня, смотрел телевизор и препирался с бабушкой.
А потом наши игры в ограбление прекратились. Вите – я-то мог бы отстреливаться и сейчас – стало неинтересно, он повзрослел. И сначала оборвались наши встречи в ГАЗе, а затем и встречи вообще.
Часто, проходя АТП, я останавливаюсь возле грузовика. Стою, держусь за массивный бампер с ржавыми залысинами отшелушившейся краски. Думаю, вспоминаю те дни, рефлексируя, бередя себя так, что ухожу разочарованный, кислый. Мысли стесняют веригами, давят к земле. Мысли о том, что как руль в салоне не вертится, так и нам ничего не вернуть. И дело не в месте и способе встречи, а в тот чутком единении, когда оба верили, что доска может быть автоматом, а пули могут лететь, избавляя от общих врагов. А теперь что? Стрелять друг в друга?




