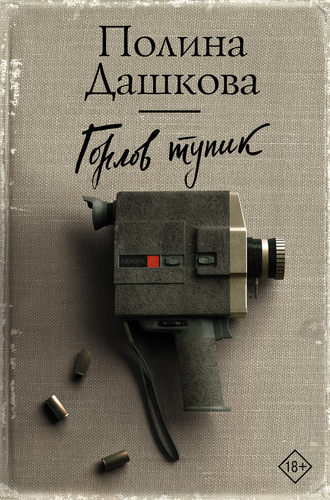
Полина Дашкова
Горлов тупик
За дверью притаился сюрприз: студент азербайджанец Мамедов, мужик лет тридцати, здоровенный, пузатый, с полным ртом золотых зубов. Во время летней сессии Вячеслав Олегович не поставил ему зачет. В течение семестра Мамедов трижды пытался пересдать, но так и не сумел ответить ни на один вопрос. Его тупость и наглость раздражали, рука не поднималась чиркнуть «зачт.», как это делали в таких случаях другие.
Судя по выпученным глазам и красной роже, Мамедов отступать не собирался. Понятно, с понедельника начиналась зимняя сессия.
– Минэ к ызамын ны дапускат!
Мамедов зашагал рядом по узкому коридору, помахивая раскрытой зачеткой. Старый паркет жалобно скрипел под его тяжелой поступью.
– И правильно! – огрызнулся Галанов.
– Нычэво ны правылно! Стыпэндыю ваще ны дают!
– Вы, Мамедов, лекции пропускаете, учитесь четвертый год, а по-русски говорить грамотно не умеете. – Галанов покосился на его изумрудный, с золотой искрой галстук и ускорил шаг.
Мимо сновали преподаватели, студенты, приходилось жаться к стене. Коля Лоскутов, завкафедрой художественного перевода, поравнявшись с Галановым, шепнул сочувственно:
– Слав, лучше поставь, не отвяжется.
Первокурсница с семинара поэзии обогнала их на повороте, улыбнулась:
– Здравствуйте, Вячеслав Олегович.
«Катенька! – Сердце нежно вздрогнуло. – Надо же, не забыла мое имя, смотрит, улыбается».
Он ничем не выдал своих чувств, сохранил серьезность, холодно кивнул в ответ:
– Добрый день.
Ее звали Катя Снегирева. Он принимал у нее вступительный экзамен по литературе, запомнил сразу, настолько была хороша. Нежный овал лица, высокая шея, гордая посадка головы – будто оживший портрет кисти Боровиковского. Он старался не смотреть в ее большие темные глаза, слишком опасно. На экзамене спрашивал нарочито строго и поставил «отлично» вовсе не за очарование, а за безупречные знания.
Она проскользнула мимо, он проводил ее взглядом, мысленно расстегнул молнию клетчатой шерстяной юбки, стянул через голову мешковатый серый свитер, вытащил шпильки из тяжелого узла на затылке и сглотнул, представив, как рассыпаются длинные каштановые волосы по обнаженным плечам. Наваждение продолжалось не долее секунды. Катя исчезла, на ее месте соткалась из воздуха дородная фигура Оксаны Васильевны, сурово погрозила пальцем и тоже исчезла. Галанов взглянул на часы. Без десяти двенадцать.
– Стыпэндыю ны плотют, матпомощь даже ны дают! – канючил Мамедов. – Я выучил! Высо зынаю! Сыпрасы лубой вапырос! Прам щас сыпрасы, давай!
– Во вторник в четыре зайдите на кафедру, поговорим.
– Выторнык?! Нэт, нэлзя выторнык!
Дверь учебной части открылась, в проеме появилась завуч Наталья Ильинична.
– Вячеслав Олегович, можно вас на минуту? Мамедов, подождите в коридоре.
В просторном кабинете пахло кофе. В кресле у окна раскинулся секретарь парторганизации, завкафедрой марксизма-ленинизма Володя Романчук, полный, лысый, с добрым испитым лицом. К нему на подлокотник молодецки присел семидесятилетний поэт Григорий Озеркин, в черном кожаном пиджаке поверх алой водолазки, подтянутый, без пуза, трижды разведенный, четырежды женатый. Он руководил семинаром поэзии, на котором училась Катя. У стола, закинув ногу на ногу, сидела приглашенная преподавательница грузинской литературы Тина Чкония, тонкая синеглазая брюнетка, с мальчишеской стрижкой и крупными бриллиантами в ушах.
– О, Слава, вот и ты, – радостно воскликнул Романчук.
– Кофе хотите? – спросила грузинка.
Она говорила по-русски почти без акцента, голос низкий, глубокий, волнующий.
Галанов поздоровался со всеми, от кофе отказался, взглянул на часы: двенадцать без семи.
– Вячеслав Олегович, тут у нас такая история. – Наталья Ильинична одернула жакет и поправила прическу. – Да вы присядьте, в ногах правды нет.
– Видите ли, я спешу очень. – Галанов нервно кашлянул.
– Поспешишь – людей насмешишь. – Романчук хихикнул и ткнул Озеркина локтем в бок.
Тот хихикнул в ответ, соскользнул с подлокотника, взял Галанова за плечи и почти насильно усадил в соседнее кресло.
– Ну, братцы дорогие, – взмолился Вячеслав Олегович, – не тяните кота за хвост, честное слово, ждут меня.
Вдруг показалось, что ждет вовсе не Оксана Васильевна завтра на даче, а Катя в его «Волге» во дворе, сегодня, сейчас. Перед глазами помчались непрошеные видения. Он садится за руль, они целуются и едут сначала к служебному входу «Елисеевского», потом к нему в пустую квартиру у метро «Аэропорт». На заднем сиденье – пакеты с заказом: осетр горячего копчения в промасленной бумаге, палка финского сервелата, две пачки тончайших польских галет, цейлонский чай, кофе «арабика», марокканские апельсины, венгерские яблоки. Запас на несколько безумных суток. Запереть все замки, выключить телефон. Никаких дачных застолий, никаких гостей, никакой Оксаны Васильевны, и гори все синим пламенем…
– О чем задумался, детина? – долетел до него сквозь сладостный туман бодрый голос Озеркина.
Он решительно тряхнул головой, видения исчезли.
– А тортик? – ласково предложила завуч. – Свеженький, только из кулинарии.
– Вы же знаете, я не ем сладкого! – Получилось слишком громко, грубо, он выдавил виноватую улыбку и добавил: – Спасибо, Наталья Ильинична.
– На нет и суда нет. – Она вздохнула и заговорила совсем другим, строгим официальным тоном: – Вячеслав Олегович, у вас на семинаре учится студент Логлидзе Нодар Вахтангович.
– Есть такой. – Он вспомнил рыжего худющего грузинского юношу с жидкой бородкой а-ля Добролюбов. – Способный, но звезд с неба не хватает и пропускает много.
– Вот именно! – Завуч подняла вверх палец и стала похожа на грозящую Оксану Васильевну. – На ноябрьские уехал домой в Кутаиси, вернулся только двадцатого.
– Знаю, – кивнул Галанов, – болел, в больнице лежал. Разве справку не предъявил?
– Предъявил. – Завуч шагнула к столу, вытащила медицинский бланк. – Все как положено, печати, подписи на месте, только написано по-грузински.
– Правильно, больница же в Кутаиси. – Галанов опять взглянул на часы.
Двенадцать ноль-пять. Прасковья Петровна предупредила, что работает сегодня до часа. Потом придет сменщица. Хотелось успеть, застать Прасковью, сменщицы обязательно что-нибудь путают, забывают положить самое вкусное. От института на машине минут пятнадцать. Повороты, светофоры, одностороннее движение. Пешком добежишь быстро, но назад, к машине, тащить громоздкие пакеты неудобно.
– Я тоже так подумала, – продолжала завуч, – документ как документ, Логлидзе к зимней сессии допущен, «хвостов» не имеет, учится без троек. А вот вчера бумаги разбирала, и зашла Тина Георгиевна, заметила справку на грузинском.
В дверь постучали, появилась черная голова Мамедова:
– Ызвынаюс, рышилы мой вопрос уже?
Все молча уставились на Галанова: решать ему, никто за него Мамедову зачет не поставит. А поставить придется, потому что Мамедов родной племянник известной партийной шишки в Баку, шишка в приятельских отношениях с ректором института, с кем-то в ЦК, в КГБ и чуть ли не с самим Леонидом Ильичом. Не давать такому стипендию и матпомощь – подвиг вольнодумства, об отчислении речи быть не может.
Галанов безнадежно махнул рукой.
– Зайдите, Мамедов.
Племянник ввалился, протянул зачетку вместе с шариковой ручкой. В прозрачной трубочке плавала в глицерине красотка, то в купальнике, то без купальника. Галанов чиркнул в нужной графе «зачт.», расписался.
– Сыпасыба, – сверкнула золотая улыбка.
– Не за что. Идите.
Племянник шагнул к двери, но вдруг остановился, посмотрел на завуча и спросил:
– А как насычет стыпэнди?
Наталья Ильинична густо покраснела, всплеснула руками:
– Совесть есть у вас, Мамедов?! Стипендию получают студенты, которые учатся без троек, у вас, Мамедов, ни одной четверки, вам «удовлетворительно» с трудом натягивают.
– У кого тройкы, таму матыпомош.
– Голодаете? – ласково спросил Романчук. – На хлеб не хватает?
– Нэт! – Племянник возмущенно запыхтел. – Кушаю хорошо! Паложыно матыпомош мынэ!
– Идите, Мамедов! – рявкнул Вячеслав Олегович. – Идите, а то я ваш зачет аннулирую!
– Ны нада! – Племянник спрятал зачетку в карман и выкатился.
– Иди, сын мой, и больше греши, – пропел Озеркин, когда дверь за ним закрылась.
– Вот бесстыжий, – завуч фыркнула, – выдали ему бесплатный проездной, а он на «Волге» новенькой по Москве разъезжает, в общаге комнату за ним держим отдельную, а он трехкомнатную квартиру на Арбате снимает.
Озеркин тихо присвистнул, Романчук покачал головой:
– Ну уж и на Арбате! Ну уж и трехкомнатную!
Вячеслав Олегович выругался про себя: «Плевать, на чем разъезжает, что и где снимает, сейчас два часа будут обсуждать».
– Так что там с Логлидзе? – спросил он, в очередной раз взглянув на часы.
– Ах, да. – Тина надела очки и стала читать своим глубоким волнующим голосом: – «Справка дана гражданину Логлидзе Нодару Вахтанговичу, 1958 года рождения, в том, что 8 ноября сего года он был экстренно госпитализирован и прооперирован в больнице номер 10 города Кутаиси по поводу внематочной беременности. К занятиям в институте может приступить с двадцатого ноября сего года. Освобожден от физкультуры на два месяца».
Романчук прыснул.
– Второй раз эту песню слушаю, не могу!
– А нам с тобой, Слава, особенно смешно, – Озеркин подмигнул, – мы с тобой ему рекомендации в партию давали.
– У него кандидатский стаж в феврале заканчивается. – Романчук икнул и высморкался. – Что будем делать?
– Я не хотела навредить мальчику, – медленно произнесла Тина, – прочитала и перевела машинально. Я говорила Наталье Ильиничне и вам повторю: не надо это раздувать. Зачем портить жизнь ребенку?
– Ребенку! – Завуч передернула плечами. – Взрослый мужик, и нахал к тому же. Почему они так написали? Поиздеваться решили?
– Да бог с вами, Наталья Ильинична, – синие глаза Тины вспыхнули, бледные щеки порозовели, – разве они знали, что здесь, в Москве, в учебной части, кто-то сумеет перевести с грузинского? Никогда себе не прощу…
– Ну, все равно, – смягчилась завуч, – другое что-нибудь не могли сочинить? Аппендицит или, там, гланды?
– Не могли. – Тина решительно помотала головой. – Вдруг напишут, а потом правда случится? Накаркать боялись. Внематочная беременность мальчику точно не грозит, вот и написали.
– Логично. – Галанов нервно усмехнулся.
– Делать что будем? – повторил Романчук.
– Слав, ты сказал, он способный. – Озеркин поцокал языком и сдвинул в задумчивости седые брови. – Может, пропесочим хорошенько у нас на партбюро и пусть учится? Зачем сор из избы выносить?
– Способный, – кивнул Галанов, – по сравнению с Мамедовым вообще гений.
Зазвонил телефон. Завуч ответила:
– Да, Оксана Васильевна, здравствуйте, да, тут, у нас.
Галанов взял трубку, услышал возбужденный голос жены:
– Славик, уф, хорошо, застала тебя, а мы тут с Клавой зашиваемся, Сошников звонил, он в командировку не уехал, прийти хочет, и Федя Уралец с каким-то приятелем, еще Дерябины пожалуют в полном составе, в общем, по итогам человек пятнадцать будет.
За окном, в институтском дворе, возле памятника Герцену стояла группа студентов, они что-то бурно обсуждали, жестикулировали, курили. Среди них Катя в коротком овчинном тулупчике, в ярком бирюзовом платке.
– Скатерть сложи аккуратно в пакет, – журчала трубка, – ну, ту, с красными петушками, вилок двенадцать штук, только не серебряных, а мельхиоровых…
Катя слепила снежок и бросила в белобрысого обалдуя с семинара драматургии. Обалдуй обнял Катю, повалил в сугроб, они резвились в снегу, как щенки, их счастливый визг долетал сквозь приоткрытую форточку.
– Во втором ящике, смотри, не забудь… Гвоздика сухая, в буфете, где пряности… Как только вернешься домой, сразу перезвони мне!
– Да, да, – повторял Галанов, покорно кивая.
Глава третья
По утрам он давился синеватой манкой, сплевывал рыхлые комочки, мазал на хлеб комбижир вместо масла, хлебал мутный чай и вспоминал вкус черной икры, ананасов, апельсинов, парной телятины. В этой вонючей коммуналке он родился, вырос и еще ребенком точно знал: надо вылезать из дерьма во что бы то ни стало. Хотелось жить в отдельной квартире, спать на просторной мягкой кровати, есть вкусную еду. Не просто хотелось, а полагалось по праву, потому что он не такой, как все. Он лучше, умней, других. Он с детства чувствовал, что поднимется очень высоко, сделает блестящую карьеру. Так и случилось. Он поверил в свои силы, осознал свою особую миссию. Но они сбили его на взлете, швырнули назад, в дерьмо. Пришлось начинать все сначала.
Его рабочий день длился с пяти утра до десяти вечера. Он устроился монтером-путейцем в метро. Метрополитен и принадлежность к рабочему классу давали солидные преимущества при поступлении в вуз. Днем вкалывал, вечером ходил на подготовительные курсы в Институт стран Азии и Африки. Хотел выучить восточные языки, прочитать в подлиннике все, что его интересовало, добраться до истоков древнего зла.
Он глотал библиотечную пыль, фильтровал информацию, собирал факты, делал выводы. Чем больше узнавал, тем ясней понимал, что они – не люди. Иной вид, иной состав крови. Биологические механизмы, человекообразные паразиты. Они живучи, как крысы, меняют кожу, как змеи, приспосабливаются к внешней среде, как тараканы. Они проникают во все поры общества, влияют на политику, финансы, культуру, развязывают войны, разрушают государства, совращают молодежь.
Иногда, отрываясь от книги или порыжевшей подшивки старых газет, он украдкой оглядывал тихий читальный зал. Среди лиц, подсвеченных настольными лампами, он безошибочно узнавал их личины. Они обложили его со всех сторон, следили за каждым шагом. По утрам сновали мимо под видом торопливых прохожих, днем, за обедом в метростроевской столовке, присаживались к нему за стол под видом простодушных говорливых коллег. Вечерами в институте их было особенно много. Одни готовились к поступлению, другие уже стали студентами, преподавателями, профессорами. Он разговаривал с ними, смеялся их шуткам, рассказывал анекдоты, которые смешили их. Всему свое время, они не должны догадаться, что ему о них все известно.
Ночами являлась она. Лишь он один видел ее, поскольку обладал сверхъестественными способностями, видел незримое, понимал тайное.
В коммуналке не было никаких удобств, кроме струйки ржавой водицы из крана в общей кухне да оглушительно вонючего сортира, одного на двадцать семей, с вечными засорами и газетными обрывками, нанизанными на гвоздь. По воскресеньям приходилось посещать общественную баню.
Он ненавидел смрадный туман, лавки, пропитанные потом и мыльной слизью, влажные казенные простыни в желтых разводах, цинковые шайки с неровными, будто обглоданными краями, брызги в лицо от взмахов чужих мочалок. Особая банная акустика делала каждый звук преувеличенно громким, гулко-тягучим. Какофония голосов, смеха, грохота воды, звона шаек разрывала мозг.
В тумане маячили силуэты голых мужиков. Обвислая кожа, сгорбленные спины, вздутые животы, костлявые ноги в разводах распухших вен, наколки, шрамы, фурункулы. Он подцепил ногтевой грибок. Из гардеробной сперли габардиновое пальто. Мать предупреждала: носи телогрейку! Но и телогрейку сперли, и последние приличные ботинки. Теплую нижнюю фуфайку вместе с кальсонами какая-то мразь вынесла из предбанника, пока он мылся. Он написал заявление в райотдел милиции, разумеется, без толку.
Однажды беззубый дед с культей вместо правой руки обратился к нему «сынок», попросил потереть спину и облить из шайки. Он выполнил просьбу и вдруг осознал, что теряет себя, становится безликой частицей скотской массы. Голый среди голых, равный среди равных.
* * *
Полковник Уфимцев Юрий Глебович четвертый год торчал в Нуберро. За это время в гостях у Бессменного-Бессмертного успели побывать самые высокие советские чиновники, от Косыгина до Громыко. Птипу ревниво следил, все ли важные птицы из СССР и стран соцлагеря почтили его визитами. Гостей он селил на единственной приличной вилле, уцелевшей после крушения колониализма, неподалеку от президентского дворца, и старался поразить их воображение своим могуществом.
Делегации чехов на торжественном обеде был предложен десерт из мозга обезьянок, которым заживо сжимали тисками головы и мгновенным движением мачете сносили полчерепа. Товарищей из Министерства обороны Польши потчевали ритуальным забоем слона. Его совершало раз в году братство Леопарда племени Каква. Всем присутствующим полагалось мазать лица теплой слоновьей кровью и пить ее из чаши, по кругу. Высокопоставленных сотрудников Штази пригласили на берег реки Глер, полюбоваться праздником «Торжество справедливости». Из тюрьмы привезли еще живых после пыток представителей «пятой колонны» и на глазах немецких чекистов бросали в реку, кишащую крокодилами.
Товарищу Косыгину Птипу попытался подарить дюжину двенадцатилетних девственниц. Заметив реакцию Алексея Николаевича, понимающе подмигнул и предложил мальчиков. Категорический отказ от подарка воспринял как личную обиду, загладить которую сумела только очередная крупная поставка «калашниковых».
Товарищ Громыко на торжественном банкете обнаружил в своей тарелке несколько странных предметов, которые при ближайшем рассмотрении оказались детскими пальчиками. Знаменитая выдержка министра иностранных дел на этот раз изменила ему. Андрей Андреевич вскочил и заметался по залу, зажав рот ладонью. Никто, включая посла, не успел понять, в чем дело. Полковник Уфимцев вовремя пришел на помощь, быстро проводил товарища Громыко к ближайшему сортиру. Бессменный-Бессмертный мастерски разыграл искреннее недоумение:
– Я приказал подать вам королевский деликатес! Если с блюдом что-то не так, я прикажу отрубить голову повару!
– Все в порядке, ваше высокопревосходительство, не беспокойтесь, блюдо прекрасное, просто товарищ Громыко неважно себя чувствует после долгого перелета, – поспешил ответить за министра полковник Уфимцев.
Наконец настал черед начальника Первого Главного управления КГБ генерал-полковника Кручины Александра Владимировича.
Кручина был не стар, всего пятьдесят три, фанатично следил за здоровьем, накануне отлета в Нуберро сделал все положенные прививки, взял с собой упаковку одноразовых медицинских перчаток, кучу антисептиков.
Полковник Уфимцев приехал в аэропорт встречать самолет Кручины и скромно ждал в сторонке. В честь дорогого гостя на аэродроме выстроился босоногий почетный караул в коротких штанах с винтовками времен Первой мировой. Как только самолет приземлился, оркестр заиграл гимн СССР.
К трапу подрулил черный «роллс-ройс», из него вылез сам Птипу, великан двухметрового роста, весом килограмм сто пятьдесят. На нем была белая адмиральская форма с золотыми аксельбантами и бриллиантовыми орденами, у пояса висела сабля в золотых ножнах, усыпанных драгоценными камнями. Орден Октябрьской Революции болтался где-то между ног.
За спиной президента маячил Закария Раббани, высокий широкоплечий ливиец в полувоенном френче цвета хаки и красно-белом бедуинском платке на голове. Светлокожий, с европейскими чертами, он выглядел и вел себя как ходячий манекен. Лицо, разрубленное поперек на три части черными бровями и усами, абсолютно ничего не выражало.
После визита в СССР Птипу взял за правило целоваться с гостями при встрече и расставании. Маленького хрупкого Кручину он поймал, как кот воробья, на нижних ступеньках трапа и смачно облобызал в обе щеки своими толстыми мокрыми губами.
Первое, что услышал Уфимцев от шефа, был панический шепот:
– Юра, где тут умыться?
Уфимцев протянул ему влажные антисептические салфетки и поймал подозрительный взгляд ливийца.
Поцелуй запечатлели сразу несколько фотографов и операторов с камерами. Кручина привык, что его визиты за границу всегда строго секретны.
– Пресса? Телевидение? – спросил он тревожно.
– Александр Владимирович, в этой стране нет ни прессы, ни телевидения, только радио.
– Так какого лешего они снимают?
– На память, для истории, – объяснил Уфимцев и подумал: «А ведь я предупреждал. Погодите, то ли еще будет!»
Во дворце на торжественном обеде Кручина обнаружил у себя в тарелке бело-розовое полупрозрачное нечто, размером и формой напоминающее мячик для пинг-понга. Генерал сильно побледнел, хотя был готов к разным сюрпризам, получал от Уфимцева подробные отчеты о нуберрийских приключениях Косыгина и Громыко. Между тем Птипу поднимал тост за крепкую нуберрийско-советскую дружбу, за победу социализма во всем мире, за здоровье дорогого товарища Брежнева.
Спиртного на столе не было, все-таки мусульманская страна. Пили гранатовый сок и чистую воду. Птипу внимательно следил за Кручиной, посмеивался.
– Александр Владимирович, глаз не настоящий, резиновый, – тихо соврал Уфимцев, чтобы успокоить начальника.
Кручина не поверил, но нашел в себе силы встать и произнести ответную речь. Поблагодарил хозяина за гостеприимство, пожелал ему здоровья и процветания свободолюбивому народу Нуберро.
После обеда автомобильный эскорт отправился на экскурсию по столице.
При англичанах центр города был застроен элегантными невысокими зданиями в викторианском стиле. По обеим сторонам улиц росли апельсиновые, лимонные и манговые деревья. Частные виллы, гостиницы, офисы банков, алмазных, кофейных и хлопковых компаний прятались в тени финиковых и кокосовых пальм, древних раскидистых баобабов и сикомор. В парках зеленели подстриженные газоны и цвели фантастические африканские цветы. Не выключалось электричество, работали водопровод и канализация. Университет, Национальный театр, музей антропологии и археологии открылись в начале двадцатых и закрылись в 1972-м. От колониализма остались полуразрушенные грязные фасады, завешенные изображениями Птипу в разных позах и нарядах, да пара асфальтовых трасс – от аэропорта до дворца и от дворца до центральной площади.
Городские улицы были покрыты красной глиной, она раскисала под дождем, трескалась под солнцем, превращалась в розовую пыль, от которой слезились глаза и першило в горле. Обочины заросли диким кустарником, в нем прятались змеи. На стволах деревьев гроздьями висели летучие мыши.
Вдоль асфальтовой трассы выстроились мужчины в пестрых одеждах. Они размахивали флажками, прыгали и громко кричали. Так полагалось приветствовать вовсе не гостя, а Бессменного-Бессмертного, когда он появлялся в городе.
На Центральной площади Кручину ждал очередной сюрприз. После арабо-израильской войны Птипу воздвиг памятник Гитлеру, назло евреям. Потом, чтобы не обижать советских друзей, поставил напротив памятник Сталину. Так они и стояли, оба из черного мрамора, на высоких гранитных постаментах, одинакового размера, в одинаковых позах, с воздетыми друг другу навстречу правыми руками. Кручина вжал голову в плечи и притворился, что не узнал ни того, ни другого.
Поднявшись на балкон уцелевшего здания бывшей мэрии, гость и хозяин смотрели концерт. На площади между Гитлером и Сталиным под звуки тамтамов женщины племени Лан, обмазанные охрой, в набедренных повязках из перьев, исполнили древний ритуальный танец, в бешеном ритме трясли мощными грудями и выдающимися шарообразными ягодицами. Детский хор на языке, которые они считали русским, исполнил «Подмосковные вечера». Затем началось карнавальное шествие. Прошли пляшущей походкой представители разных племен, женщины и мужчины, обнаженные до пояса, увешанные бусами и браслетами. Двухметровые, тонкие, как тростник, шоколадные чва, коренастые угольно-черные каква, крошечные светлокожие пигмеи с плоскими монголоидными лицами. Потом проковыляли беззубые старички в поношенной, с чужого плеча, полувоенной форме, на погонах блестели пуговицы. Ходячие скелеты, редчайшие живые артефакты – средняя продолжительность жизни в Нуберро не превышала сорока лет у мужчин, тридцати восьми у женщин. За старичками прошагало несколько босоногих рот регулярных войск. Следом явились взводы маленьких милиционеров и пожарных в медных касках, мальчики от семи до десяти.
Внезапно стемнело, подул ветер, вздымая волны розовой пыли, и хлынул ливень. Казалось, с неба бьют водяные струи из сотни тысяч брандспойтов. Дети как ни в чем не бывало продолжали маршировать, с явным удовольствием шлепая босыми ногами по размокшей глине.
На следующее утро Кручине устроили экскурсию в тюрьму, показали камеры, карцеры, комнаты пыток, лазарет и морг. Ни одного живого заключенного экскурсанты не увидели. Директор тюрьмы, полный, благообразный каква в белом европейском костюме, рассказывал на невнятной смеси английского и суахили, каких успехов добилась пенитенциарная система Нуберро при благословенном правлении Его Высокопревосходительства. Полный титул состоял из пятидесяти четырех слов, ровно на двадцать слов длиннее титула британской королевы. Каждый чиновник обязан был знать их наизусть и при любом упоминании Бессменного-Бессмертного произносить все до единого. Пропуск слова в титуле мог стоить головы, поэтому речь директора состояла из бесконечных повторений. На деликатный вопрос Кручины, где же заключенные, он ответил, поблескивая стеклами очков в тонкой золотой оправе, что каждое утро их отправляют работать на хлопковые плантации.
В здании воняло нечистотами, жужжали тучи мух, стены были изъедены грибком. В морге на цинковых столах лежало несколько обнаженных истерзанных трупов. Экскурсанты отворачивались и прикрывали носы платками.
Следующим номером программы значилась встреча с начальником тайной полиции. Ливиец Закария Раббани со своей командой занимал здание бывшего Национального театра. Но кортеж проехал мимо, и стало ясно, что встреча состоится в президентском дворце. Уфимцев ничего иного не ожидал, а Кручина уже устал удивляться.
Бессменный-Бессмертный принял их в тронном зале. Он восседал на высоком позолоченном троне, наряженный в белоснежный арабский балахон. У подножия трона на низких стульчиках сидели две из его тридцати семи жен, девочки лет четырнадцати, в черных хиджабах. Каждая держала на коленях по младенцу не старше года. Раббани появился из глубины зала, все в том же френче и платке.
– Империалисты-сионисты хотят завоевать весь мир, установить свои порядки, – начал Птипу на суахили, – мы должны плечом к плечу сплотиться в борьбе против гнусного заговора наших врагов.
Его чистый баритон отдавался гулким эхом в огромном пустом зале. Уфимцев тихо переводил, склонившись к уху Кручины, и заметил, что у того подергивается веко. Раббани неподвижно стоял возле трона. Дети вертелись и хныкали все громче. Юные мамаши пытались их утихомирить, испуганно поглядывая на Птипу. А он говорил без передышки, медленно, громко, нараспев. Когда младенцы заревели в полный голос, он, не прерывая речи, махнул рукой. Жены встали и попятились задом наперед к выходу, едва удерживая на руках извивающихся орущих детей. Кручина встрепенулся, он надеялся, что смена обстановки создаст хоть малюсенькую возможность вклиниться, начать диалог, пообщаться с Закарией. Потом ведь придется отчитываться перед Андроповым, как прошел обмен опытом.
– Я хочу, – продолжал Птипу, – отправить телеграмму моему дорогому другу Леониду Брежневу.
Он вытащил из складок своего балахона лист бумаги и протянул Уфимцеву:
– Брат, проверь, не сделал ли я ошибок.
Уфимцев шагнул к трону, взял листок и встал рядом с Кручиной. Почерк у Бессменного-Бессмертного был корявый, но разборчивый, по-русски он писал крупными печатными буквами.
«Я очин тибья лублу и еслы вы был бы женчина я жинюс на тибя хотя ваша голова уже сидая. Твой на века…» – дальше пятьдесят четыре слова на суахили и размашистая подпись.
Пока они читали, послышался голос муллы с минарета дворцовой мечети. Прибежали слуги, расстелили ковер в центре зала. Уфимцеву и Кручине пришлось посторониться. Птипу слез с трона.
– Юра, что происходит? – прошептал генерал.
– Аср, – объяснил Уфимцев, – намаз, предвечерняя молитва.
– Это я понимаю, – генерал сморщился, – телеграмма! Слушай, он издевается?
Уфимцев нахмурился и приложил палец к губам. Кручина нервничал, говорил слишком громко, и хотя голос муллы, усиленный динамиком, звучал на весь зал, а молящиеся съежились в характерных позах на ковре, лицом к Мекке, пятками к гостям, все равно во время намаза лучше помолчать.
После молитвы вспомнили о гостях и пригласили в кофейный павильон. Это была небольшая комната, устланная и обвешанная коврами, с низкими столиками и подушками вместо стульев. Кофе подали крепчайший, в крошечных чашках. Кручина кофе не пил, только делал вид, что прихлебывает маленькими глоточками. Уфимцев выпил с удовольствием. Раббани незаметно исчез. Птипу болтал на суахили, проклинал американцев, разоблачал мировой сионистский заговор. О телеграмме Брежневу он как будто забыл. Юра переводил, Кручина иногда открывал рот, чтобы вставить словечко, но тщетно. Генерал ерзал на подушке, ковырял золотой двузубой вилкой розовый кубик рахат-лукума и вздрогнул, когда Птипу вдруг перешел на русский и предложил ему сигару:
– Попробуй, товарищ, это подарок нашего друга товарища Фиделя Кастро.
– Спасибо, не курю, – пробормотал Кручина.
Уфимцев тоже отказался от сигары и закурил свою сигарету. Бессменный-Бессмертный отсек сигарный кончик при помощи настольной золотой гильотины.
– Вот так полетят головы наших врагов! – Он заржал.
Кручина изобразил подобие улыбки и выдавил глухой смешок. Птипу, продолжая гоготать, извлек из складок своего балахона золотой пистолет, несколько раз подкинул на огромной розовой ладони, направил дуло Кручине в лоб, перестал ржать и заявил по-русски:
– Хочу атомную бомбу!
Генерал окаменел. Птипу нажал спусковой крючок. Вспыхнул язычок пламени. Вот тут и наступила долгожданная пауза. Она длилась целую минуту, пока Бессменный-Бессмертный раскуривал сигару, но Кручина так ничего и не сказал. Птипу выпустил дым ему в лицо и сурово спросил:
– Чем я хуже других?
Явился Раббани. Уфимцев сначала почувствовал его присутствие, потом увидел силуэт в углу. Ливиец будто соткался из сигарного дыма. Птипу скосил на него глаза, сверкнул красными белками и продолжал:
– Не дадите – договорюсь с китайцами. Ваши деньги, плюс их деньги, плюс доходы от моих алмазов, изумрудов и сапфиров. Почему я не могу стать великой ядерной державой? Я ведь уже победил Америку в отличие от вас.
На этом беседа закончилась. Бессменный-Бессмертный встал, вежливо объяснил на суахили, что его ждут срочные государственные дела, пожал гостям руки и удалился вместе с Раббани.
Перед самым отлетом Птипу прикатил на аэродром, страстно расцеловал Кручину и вручил ему большой красивый ларец черного дерева. Внутри оказались золотой пистолет-зажигалка, коробка кубинских сигар и миниатюрная золотая гильотина.







