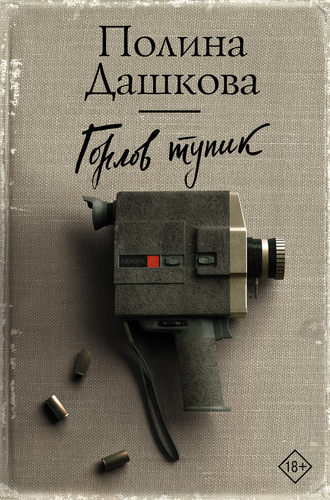
Полина Дашкова
Горлов тупик
Глава восьмая
Большая чистка открывала большие возможности для мгновенных взлетов и падений. Все суетились, расталкивали друг друга, карабкались вверх по головам товарищей, боялись упустить свой шанс, а бояться следовало совсем другого. Шансов может быть много. Падение всегда одно и всегда окончательное. Чем выше взлетел, тем больней грохнешься.
Федьке Уральцу довелось поработать в 7-м управлении, в отделении арестов и обысков. Он любил рассказывать, как проводили обыск и описывали имущество в квартире Абакумова.
Бывший министр занимал целый этаж в доме № 11 по Колпачному переулку. Федька в жизни не видел таких хором, хотя сам вырос отнюдь не в коммуналке. Чего там только не было: мебельные гарнитуры, сервизы, столовое серебро, гигантские отрезы тканей, чемоданы мужских подтяжек.
Уралец выразительно таращил глаза: «Представляешь, чулки женские шелковые, шестьдесят четыре пары, тринадцать радиоприемников и радиол, часов золотых тридцать семь штук, пятьдесят фотоаппаратов, ваз хрустальных и фарфоровых семьдесят восемь штук, ювелирки всякой три сундука. Открыли – чуть не ослепли от сверкания».
Федька не умел да и не пытался скрыть свои эмоции. На его лице читалось сразу все: изумление, уважение и зависть к богатству, мстительная радость, что богатство отняли.
Молодой капитан слушал, усмехался про себя: «Чемодан подтяжек, тряпки-побрякушки… Вот тебе и Глыба Абакумов. Рюмин такая же дрянь, только росточком не вышел и абакумовских аппетитов нагулять не успел».
Стремительный взлет Рюмина напоминал лесной пожар, вспыхнувший от окурка. Пламя до небес, треску много, искры летят, а в итоге – ничего, кроме обугленных головешек, серого пепла и вонючей гари. Рюминская схема заговора выглядела так: врачи-евреи спелись с заокеанскими толстосумами насчет реставрации капитализма в СССР и своим вредительским лечением умертвляли видных деятелей партии и правительства. Их покрывали чекисты-евреи с целью захватить власть, убить товарища Сталина и установить диктатуру Абакумова.
Сразу полезли нестыковки. Больше половины врачей-вредителей оказались русскими. Среди чекистов евреев было больше, но Абакумов русский, и с этим ничего не поделаешь. Молодой капитан придумал пару удачных формулировок: «евреи прямые и косвенные» и «евреи по крови и по духу». На одном из совещаний подкинул их Рюмину, тот ухватился, стал использовать как свои.
К началу 1952-го чекистов-евреев в органах не осталось. Врачей, «прямых и косвенных», брали одного за другим. Руководство Рюмина сводилось к беготне по кабинетам и матерным истерикам. В Управлении шло соревнование: кто выбьет больше признательных показаний. Количество арестованных и признавшихся росло. Распухали, тяжелели папки с протоколами. Врачи признавались, что неправильно лечили, бывшие чекисты – что покрывали вредительство врачей. Но где центр заговора? Кто его возглавляет? Каналы финансирования и связи с американскими хозяевами, конкретные задания от них, способы вербовки? Главные вопросы оставались без ответа.
Молодой капитан устал от тупости коллег. Неужели трудно усвоить, что дело не в количестве, а в качестве, не во вредительстве, а в шпионаже? Надо выводить этих тварей на шпионаж, на конкретику.
У него в голове возникло сразу несколько гениальных идей, как сдвинуть следствие с мертвой точки, но сначала он хотел разобраться со своими личными делами. Мысли о Шуре мешали сосредоточиться.
Он стал чаще навещать мать, иногда сталкивался с Шурой в коридоре. Она вежливо здоровалась и убегала. Он думал о ней днем и ночью, его знобило и бросало в жар, из-за нее он был постоянно будто под хмельком, хотя в отличие от своих сослуживцев не злоупотреблял спиртным. Подкатывать к ней на глазах у всей коммуналки не хотелось, он решил подстеречь ее возле издательства. На оперативном языке это называлось «секретное снятие».
Ждать пришлось долго. Выходили сотрудники, гасли окна. Она появилась в начале одиннадцатого. Заскрипела дверь, он увидел полоску света, услышал Шурин голос:
– Спокойной ночи, дядя Коля!
В ответ стариковское ворчание:
– Нет от вас никакого спокою! Все, что ли, ушли?
– Все, я последняя.
– Да ты кажный вечер последняя. Нехорошо девке в такую поздноту одной шастать.
– Работаю на полторы ставки, вот и получается поздно, а тут еще халтурка подвернулась.
– Ты, давай-ка, хватит болтать! Бежи, девонька, бежи быстрей домой!
Дверь хлопнула, стало темно. Он бесшумно пошел за ней. На перекрестке догнал, схватил за локоть. Она вскрикнула, попыталась вырваться, забормотала: «Отпустите! Что вам нужно?» Она, конечно, не узнала его в шляпе до бровей, в сером плаще. Он сильней стиснул ее локоть, прошипел: «Молчи!» – и потащил по переулкам и подворотням.
Мимо мелькали черные, косые от старости домишки, серые коробки двухэтажных бараков. Редкие прохожие смотрели под ноги, чтобы не оступиться на разбитом тротуаре, не шлепнуться в грязь. Она больше не вырывалась, молча, покорно семенила рядом. Несколько раз споткнулась и стала инстинктивно опираться на его руку. Ее беспомощность сильно возбуждала, хотелось расстегнуть на ней жакетку, задрать подол, вжать в стену в ближайшей подворотне. Но он лишь сглотнул и облизнулся. Зачем спешить? Все равно никуда не денется. Вывел ее на площадь, под фонарем остановился, снял шляпу.
– Владилен Захарович, вы… – произнесла она чуть слышно.
К нему редко обращались по имени-отчеству, в основном товарищ Любый, товарищ капитан, реже Влад. Имя-отчество ему не нравилось. Идеологически чистое, сугубо советское «Владилен» звучало как-то подозрительно буржуазно, с французским оттенком, и плохо сочеталось с простецким «Захарович». Он родился 21 января 1925-го, ровно через год после смерти Ленина, день в день. Мать верила, что знаменательная дата, помноженная на священное сочетание букв, принесет сыну счастье.
– Просто Влад. – Он обнял Шуру за талию. – Ну, здорово я тебя разыграл?
– Да, смешно, – она шмыгнула носом, – напугали до смерти.
Они пошли к метро, уже спокойно, под руку.
– Вот, – сказал он, – решил взять над тобой шефство.
– Зачем?
– Нехорошо девке в такую поздноту одной шастать, – прошамкал он, передразнивая старика сторожа.
– Спасибо, конечно, только я вас совсем не знаю…
– Зато я тебя знаю как облупленную.
* * *
– Надежда, ты чего там бормочешь?
Павлик Романов подошел неслышно. Она вздрогнула, чуть не выронила пипетку Пастера, сердито огрызнулась:
– Отстань!
– Пошли покурим. – Он вытащил из кармана халата и подкинул на ладони пачку длинного «Кента».
– Какие мы богатые, – Надя присвистнула, – «Березку» ограбил?
– Ага, – Павлик самодовольно оскалился, – и всю охрану перебил.
Когда они выходили из лаборатории, зазвонил телефон. Он висел на стене у двери.
– Эй, трубочку возьмите! – крикнул из дальнего угла Олег Васильевич.
Надя и Павлик замерли, растерянно глядя друг на друга.
– Ну! – сказала Надя.
Павлик сделал страшные глаза и помотал головой. Телефон надрывался. Все повернулись в их сторону.
– В чем дело? – сердито спросила Любовь Ивановна. – Вы же рядом стоите, без перчаток, без масок, трудно, что ли, на звонок ответить?
Надя еще раз взглянула на Павлика. Он молитвенно сложил руки. Она вздохнула и взяла трубку.
– Седьмая лаборатория.
В ответ зашуршала тишина.
– Алло, говорите. – Надя сморщилась, заметив, что трубка в ее руке слегка задрожала.
Она уже хотела дать отбой, но услышала высокий женский голос:
– Добрый день. Любовь Ивановна?
– Нет. Надежда Семеновна.
– А, Надя, здравствуйте, это Галя Романова, я вообще-то ваш голос узнала, просто не ожидала услышать. Думала, вы в командировке.
Павлик стоял совсем близко, выразительно гримасничал, мотал головой и прижимал палец к губам.
– Нет, я в Москве, – глухо произнесла Надя и кашлянула.
– А Павлик сказал, вы тоже летите. Ой, знаете, я вот хотела поговорить с Олегом Васильевичем, почему Павлика так часто отправляют в командировки? Я переживаю, прямо ночами не сплю, и сын почти не видит его. Олег Васильевич на месте? Вы не могли бы ему трубочку передать?
– Его нет, извините. – Надя покосилась на Павлика.
– А когда удобно будет позвонить?
– Я не знаю. Еще раз извините, Галя, сочувствую, но, к сожалению, ничем не могу помочь. Всего доброго.
Она едва успела повесить трубку, Павлик поволок ее за руку в коридор.
– Пусти, – прошипела она и попыталась вырваться, – не пойду с тобой курить, подавись своим «Кентом»!
– Надежда, перестань, что за детский сад?
– С какой стати я должна врать, покрывать твое блядство?
– Фу, как грубо! Раньше покрывала.
– А теперь не буду!
– Почему?
– По кочану!
– А почему трубку сразу не взяла, можешь объяснить? Я – понятно. А ты?
Надя хотела рявкнуть в ответ что-нибудь злое и обидное, но вдруг поняла, что Павлик – единственный человек в институте, которому она может рассказать о звонках с молчанием, и прикусила язык.
Летом курить ходили на крышу через чердак. Зимой курилкой служила маленькая подсобка, холодная, вонючая, всегда забитая народом и окурками. Но у Павлика имелась тайная привилегия. Он очаровал парторга, цветущую моложавую даму, привозил ей приятные мелочи из каждой командировки и получил ключ от Ленинской комнаты.
Из всех помещений института Ленинская комната была самой уютной, тихой и необитаемой. Туда заглядывали только уборщица да парторг – полить свои цветочки, покормить рыбок в аквариуме, поболтать по телефону, полистать журналы «Здоровье», «Работница», «Ригас мода», которые хранились в тумбе под большим гипсовым бюстом Ильича.
Павлик открыл дверь, пропустил Надю вперед, тут же запер изнутри, отдал пионерский салют бюсту, преклонил колено и приложил ладонь к сердцу возле переходящего Красного знамени, только потом распечатал пачку.
– Ты, когда один сюда заходишь, тоже цирк устраиваешь? – спросила Надя.
– Обязательно. Это же святилище, нельзя без приветственного ритуала, иначе ду́хи прогневаются. – Павлик плюхнулся в потертое кожаное кресло и выпустил дым. – Ну, рассказывай.
– Что?
– Кто тебе звонит и молчит?
– Понятия не имею. – Надя пожала плечами. – Почти каждый вечер, между девятью и двенадцатью. Если я беру, молчат сразу. Если папа – просят меня, потом молчат.
– Голос какой?
– Разные голоса, в том-то и дело. И просят по-разному, то Надю, то Надежду Семеновну. Не угадаешь.
Павлик нахмурился, стряхнул пепел в банку с водой.
– К соседям пробовали?
– То есть?
– Трубку не кладешь, идешь к соседям и с их телефона звонишь на станцию, просишь определить номер.
– Неудобно, соседи рано ложатся, да и что толку? Ну, назовут номер. Я все равно не буду набирать, выяснять.
Павлик критически оглядел Надю и многозначительно изрек:
– А если это любовь?
– Тогда бы серенады пели. Боюсь, наоборот, ненависть. Ладно, хватит. Лучше скажи, куда ты улетел на этот раз?
– М-м, далеко, Надежда, под самые небеса. Рыжая, глазищи зеленые, ноги от ушей, тридцать лет, не замужем. – Он зажмурился и промурлыкал басом: – Такой чудесный, нежный Рыжик.
– Я тебя про командировку спрашиваю.
– А-а, ты об этом? – разочарованно протянул Павлик. – Вроде в Таджикистан. Погоди, нет, или в Узбекистан? Кошмар! Забыл!
– Ты записывай.
– В следующий раз обязательно. Сейчас уже без разницы. В понедельник-вторник все равно летим в Нуберро.
– Тебе же надо собраться, ты что, даже не заедешь домой?
– Зачем? У меня все, что нужно, тут, в раздевалке, в шкафчике, рюкзак всегда наготове.
Павликову жену Галю, простоватую, рано постаревшую хлопотунью, Надя видела раз в году, на днях рождения Павлика. Двухкомнатная квартира в панельке на Красносельской сверкала чистотой. Чешский хрусталь в серванте, подписные собрания сочинений на книжных полках. Для гостей набор одинаковых гигантских войлочных тапок, как в музее. На столе белоснежная крахмальная скатерть, сельдь «под шубой», утка с яблоками, домашние соленья-варенья, наливки, сложные пироги из дрожжевого теста. Галя не снимала фартука, не закрывала рта, рассказывала, что где достала, что как готовила. Сын Миша, толстенький, хмурый, обычно сидел под столом. Галя уговаривала его вылезти, прочитать стихотворение, жаловалась, что он плохо кушает и часто простужается.
Дома Павлик выглядел примерным семьянином, восхищался кулинарными подвигами жены, помогал ей менять посуду, ровно в десять уводил Мишу спать и потом сидел с ним, читал вслух детскую книжку.
«Вот скоро опять пригласит на день рождения, ни за что не пойду», – подумала Надя, слушая, как Павлик расписывает достоинства своей рыжей пассии.
– Главное – умная. Товаровед! – Он поднял палец и сделал важное лицо. – Не в каком-нибудь банальном гастрономе, а в книжном на улице Горького. Пастернака наизусть шпарит, знает разницу не только между Гоголем и Гегелем, но и между Кингисеппом и Каннегисером.
– А кто такие Кингисепп и Каннегисер? – рассеянно спросила Надя.
Павлик вытаращил глаза.
– Надежда, ты что? Правда не знаешь или придуриваешься?
– Правда не знаю.
– Не ожидал от тебя, – он высокомерно усмехнулся. – Кингиссеп – эстонский революционер. Каннегисер – юный поэт, застрелил чекиста Урицкого в восемнадцатом году.
– Слушай, может, ты просветишь свою Галю? Она поумнеет, и рыжие товароведы тебе больше не понадобятся.
– Издеваешься? Я же тебе много раз объяснял, Галя даже постельное белье в прачечную не сдает, сама кипятит, крахмалит и гладит. Ей не до революционеров и поэтов.
– О разводе никогда не думал? Все-таки честнее.
– Как ты вообще такое можешь говорить? – Павлик возмущенно запыхтел. – Семья для меня святое!
– Если святое, тогда зачем бегаешь по всей Москве со спущенными штанами? Врать приходится не только жене, но и этим твоим товароведам. Не надоело?
– А я никому не вру. Я жену люблю, и Рыжика люблю.
– До Рыжика была блондинка, а еще раньше брюнетка.
– Потому, что всякая любовь от Бога. Вот погоди-ка.
Павлик вылез из кресла, подошел к книжному шкафу, привстал на цыпочки и принялся разглядывать корешки книг, бормоча:
– Ну где же? Где?
– Библию ищешь? – спросила Надя. – Слева, на верхней полке, «Краткий словарь атеиста». Подойдет?
– Отстань. А, вот, нашел!
Он извлек том Энгельса вместе с облаком пыли. Дунул, чихнул, открыл на заложенной странице и стал читать вслух:
– «Если строгая моногамия является вершиной всяческой добродетели, то пальма первенства по праву принадлежит ленточной глисте, которая в каждом из своих пятидесяти-двухсот членов тела имеет полный женский и мужской половой аппарат и всю свою жизнь совокупляется сама с собой».
– Класс! – Надя легонько хлопнула в ладоши. – Только при чем здесь Бог – не понимаю.
– При том. – Павлик запихнул Энгельса на место, вытер ладони о халат, вернулся в кресло. – При том, товарищ Надежда, что Господь Бог создал мужчину полигамным. А Энгельс эту мужскую полигамию научно обосновал и доказал.
– Ну, ты и трепло, Романов! – Надя покачала головой. – Вляпаться не боишься? Я ведь случайно взяла трубку. А если бы Любовь Ивановна? Или Оля? Да в конце концов, Москва – город маленький, кто-то из знакомых увидит тебя на улице, когда ты в командировке.
– Такого быть не может. Я везучий.
– Тьфу-тьфу-тьфу. – Надя постучала по столешнице.
На самом деле существовало два абсолютно разных, диаметрально противоположных Павлика: Павлик в Москве и Павлик «в поле», в очагах эпидемий. Везучими были оба. На этом их сходство заканчивалось. Даже выглядели они по-разному.
Павлик Московский – маленький, рыхлый, с брюшком, на котором расстегивались пуговицы рубашки, бессовестный врун, неуемный бабник, бездельник, хохмач и пройдоха. Круглые птичьи глазки, всегда слегка мутные, широкий вздернутый нос, непропорционально большая плешивая голова. Постоянная плотоядная улыбочка уродовала и без того не слишком привлекательную физиономию. Надя не понимала, почему он так нравится женщинам.
Если в буфете выбрасывали что-нибудь дефицитное, Павлик умудрялся проскользнуть без очереди, при этом всех очаровать и ни с кем не поругаться. Он мог целый день слоняться по лаборатории, дразнить Любовь Ивановну хвостиком свежей завиральной сплетни, вгонять в краску Олю своими шуточками, отвлекать от работы трудягу Гнуса разговорами о рыбалке и самиздате, приставать к Наде с глупой болтовней в самый неподходящий момент. В итоге время пролетало, важная мысль убегала, и потом оставалось противное чувство, которое Надя называла «похмелье пустого дня». Но никто не сердился, даже Любовь Ивановна говорила о нем с нежностью: «Вот ведь обаятельный, подлец!»
В поле Павлик преображался до неузнаваемости. Улыбочка испарялась, лицо разглаживалось, черты становились четкими, жесткими, взгляд прояснялся, брюшко подтягивалось. Собранный, толковый, он легко переносил любые трудности, отлично соображал, брал на себя ответственность и принимал верные решения, когда другие терялись и отчаивались. Он находил общий язык с африканскими дикарями, с вождями племен, с партийным руководством Среднеазиатских республик. Может, это и был настоящий Павлик, просто в Москве впадал в спячку? Может, его бесконечные пассии чуяли в нем эту спящую силу и мужскую надежность?
Отправляясь в очередной очаг, на чуму, сибирскую язву, холеру, Надя знала: если Павлик рядом, все вернутся домой живыми и здоровыми. Она до сих пор не могла забыть первую свою чуму. Туркмения, август, днем +45. Они брели по раскаленной степи, тащили на себе ящики с инструментами, канистры с лизолом и хлорной известью. Противочумные комбинезоны, сверху два халата, клеенчатые фартуки до щиколоток. Лица закрыты респираторами – несколько слоев марли и ваты, очки-консервы. На руках по две пары резиновых перчаток. Пот тек ручьями, хлюпал внутри резиновых сапог. Со стороны они напоминали космонавтов, высадившихся на Луне.
В тот раз Надя единственная из команды была новичком. Павлик уже имел кое-какой опыт. Он смягчил ее первый чумной шок, не дал зайти в юрту, где лежали на кошмах вповалку трупы мужчин, женщин и детей с почерневшими лицами. Она осталась стоять метрах в десяти, но даже на таком расстоянии, сквозь респиратор, ударила в нос адская вонь.
Нет, не на Луну они высадились, а спустились на дно ада. Надя думала, что ее Вергилием станет Олег Васильевич. Он выезжал на очаги еще при Сталине, опыт имел богатый и разнообразный. В Москве он храбро, жадно глотал самиздат, обсуждал прочитанное только шепотом, конечно, и со своими. В очагах нервничал, срывался, боялся КГБ и партийного начальства больше, чем чумы и холеры, трясся от ужаса и отвращения, когда местные органы искали иностранных шпионов-диверсантов, устроивших эпидемию, вместо того, чтобы помогать врачам бороться с ней. Точно так же вели себя африканские вожди, только их «шпионами-диверсантами» были колдуны и злые ду́хи.
Надя понимала страхи Олега Васильевича, он принадлежал к запуганному поколению. Но ей хватало собственных страхов, поэтому на очагах она старалась держаться от Гнуса подальше.
Летом семидесятого, когда началась пандемия холеры, они вылетели в Батуми. Пандемия обещала стать грандиозной. Местное партийное начальство думало лишь о том, как прикрыть свои задницы, и с перепугу сочинило террористическую версию.
Врач санэпидемстанции брала пробы воды, ее «поймали с поличным», обвинили в заражении водоема холерным вибрионом. Местный КГБ тут же откопал каких-то американских родственников врача, о которых она сама не знала. Врача арестовали и стали лепить из нее американскую шпионку-диверсантку. Павлик тогда активно вмешался, пробился к Бургасову, замминистра, главному санитарному врачу СССР, накатал письма в ЦК, в Прокуратуру, в КГБ. В итоге врача освободили.
– Я вовсе не такой благородный и сострадательный, – объяснял потом Павлик, – просто им нельзя давать волю, иначе любой из нас может оказаться на месте этой бедолаги.
В феврале прошлого года в Эфиопии именно Павлик помог Наде добыть образцы тканей дикой ослицы, в которых потом обнаружились те самые бактериофаги.
Команда уже произвела десятки вскрытий, определила очаг и вид эпидемии. Все устали, никто не понимал, зачем Наде понадобилась еще одна ослица, да она и сама в тот момент толком не понимала, просто чуяла: там что-то есть. Павлик отправился с ней без вопросов. Труп был раздут, при вскрытии их обдало зловонной жижей, защитные комбинезоны промокли насквозь.
В советском госпитале в Аддис-Абебе имелась отличная лаборатория с электронным микроскопом. Взглянув на образцы тканей, Надя увидела жалкие останки сибироязвенных палочек и живые бактериофаги. Они оказались довольно крупными для вирусов и потрясающе красивыми. Она не могла налюбоваться ими и наконец поняла, чем привлекла ее дикая ослица. Животное было заражено, однако погибло вовсе не от сибирской язвы, а от ран и потери крови. То есть эта конкретная ослица имела реальные шансы выжить благодаря фагам, если бы на нее не напал хищник. Ох, найти бы еще этого хищника!
Олег Васильевич заглянул в микроскоп, равнодушно пожал плечами: «Ну что ж, любопытно, поковыряйся, может, что и нароешь».
Павлик вообще ни малейшего интереса к фагам не проявил, он кокетничал с госпитальными медсестрами и прикидывал, что купить во фри-шопе при пересадке в Анталии.
– Эй, Надежда, ты где? – голос Павлика донесся будто издалека.
– Да так, – Надя улыбнулась, – вспомнила дохлую эфиопскую ослицу. Если бы не ты, я бы фиг нашла свои фаги.
– Фаги-фиги, – вяло передразнил Павлик, помолчал задумчиво и вдруг поднял палец: – О! Точно! Я на этот раз улетел в Киргизию! Значит, сначала я был в Киргизии, а потом прямо оттуда полетел в Нуберро. Ты когда на день рождения придешь, смотри, ничего не перепутай.
* * *
Гости разместились за столом свободно, табуретки не понадобились. Генеральская чета Дерябиных уселась на свои постоянные места, на мягкие гамбсовские стулья, справа от хозяев. Их дочери Вере тоже полагался стул. Глеба Оксана Васильевна отправила на лавку. Галанов обратил внимание, что мальчик обрит наголо и выглядит каким-то несчастным, беззащитным. Шея тонкая, голова круглая, уши торчат.
Федя Уралец предпочел жесткую лавку из-за геморроя, его супруга села рядом. Новому гостю Оксана Васильевна предложила стул, вероятно, из благодарности за палаческую работу. Украдкой разглядывая скуластое лицо, Галанов думал: «Уралец его привез, но так и не объяснил, кто он, откуда взялся. Обычная Федькина манера – темнить, намекать, недоговаривать. На веранде мы вроде познакомились, но я не могу вспомнить его имя. У меня склероз? Или он забыл представиться? Ладно, “Глазурованный” вполне подходит, это я здорово придумал, вон как лоснится весь, будто бархоткой отполирован».
Вика порхала вокруг стола, поболтала с Верой, похихикала с близняшками Сошниковыми, исчезла, появилась, подлетела к Глазурованному, опершись на спинку его стула, что-то зашептала ему на ухо. Он кивнул, улыбнулся. Вячеслав Олегович удивился: «Они знакомы? Да, точно! А я ведь тоже его знаю, видел где-то. Но где? Когда? Склероз…»
Вика с ним открыто кокетничала, смеялась, запрокидывая голову, глядела на него своими зелеными распахнутыми глазами, помахивала аккуратно подкрашенными ресницами и накручивала на палец длинную светлую прядь. Подозрение, что взрослый, немолодой мужчина может иметь какие-то виды на его дочь, было как внезапный удар кулаком под дых, и тут же, совсем некстати, забрезжил образ первокурсницы Кати с семинара поэзии. Дыхание сбилось, сердце тревожно зачастило: «Нет-нет! Я – совсем другое дело! Никогда не решусь, у меня это лишь мечты, для вдохновения, для жизненного тонуса. А у него?»
– Хватит скакать, сядь, наконец! – прикрикнул он на дочь.
– У-у, папулище грозный! – Она скорчила рожицу и опустилась на лавку рядом с Глебом.
«Ну что за пошлые глупости лезут в голову? – одернул себя Галанов. – Вика со всеми кокетничает, у нее стиль такой, избавилась от подростковых комплексов, дивно похорошела, теперь купается в собственном обаянии, вот и Глебу глазки строит, а он вообще птенец желторотый».
Пока закусывали домашними соленьями, бужениной и севрюгой, выпивали, произносили тосты, Галанов пытался вспомнить, где же все-таки видел Глазурованного?
«Допустим, это было давно, он тогда еще не полысел, не залоснился. Волосы сильно меняют внешность. Мог носить усы, а теперь сбрил».
Вячеслав Олегович механически участвовал в застольном трепе, чокался после тостов. Присутствие Глазурованного напрягало, особенно неприятно было смотреть на его руки и встречаться с ним взглядом. Дело, конечно, не в Викином кокетстве и не в поросятах, которым он вот этими руками резал глотки. Тревожило что-то другое, что-то из далекого прошлого.
Темное воспоминание тяжело копошилось очень глубоко, в мозгу, в душе, и все не удавалось нащупать его, поймать, вытащить наружу.
«Склероз – слабое утешение. На самом деле просто не хочется ловить и вытаскивать. Мало ли в моей жизни случалось встреч и событий, которые лучше забыть?» – подумал Вячеслав Олегович и вздрогнул от взрыва дружного хохота.
Генерал Ваня ржал громко, нагло, по-казарменному. Генеральша посмеивалась тихо, интеллигентно. Оксана Васильевна всхлипывала, качала белокурой головой и промокала глаза салфеткой. Генерал Федя трясся и гыкал по-ослиному. Его жена жеманно прикрывала рот ладошкой. Вика мелодично заливалась, скалила ровные белые зубы. Глазурованный издавал высокие гортанные звуки, похожие на голубиное воркование. В глубине пасти посверкивало золото.
Кто-то рассказал анекдот, Галанов пропустил, спохватился, будто его поймали с поличным, и хотя никто в тот момент на него не смотрел, улыбнулся и выдавил несколько тихих смешков.
Наконец Клавдия и прапорщик торжественно внесли блюда с поросятами, гости зааплодировали, перестали смеяться и замерли в ожидании.
Знаменитых галановских поросят, жаренных на вертеле, обычно разделывала хозяйка. Это был апогей застолья. Гости внимательно следили за действом и сглатывали слюну. Оксана Васильевна превращалась в жрицу, красиво и точно отсекала куски мяса. Но сегодня почему-то ничего не получалось, она пилила поджаристый поросячий бок неловко, неуверенно, словно делала это впервые.
– Нож тупой, – пробормотала она и обвела присутствующих растерянным взглядом.
– Позвольте, хозяюшка. – Глазурованный встал, закатал рукава, взял у нее нож, и за несколько минут тушки превратились в аккуратные порции.
– Ну, профессор, ну, молодец, горжусь! – Уралец громко хлопнул в ладоши. – Все умеет, ножом орудует, как заправский повар!
«Профессор, – повторил про себя Галанов, – не похож он на профессора. Это что же, звание, должность или кличка?»
Глазурованный слегка поклонился и сел на место. Оксана Васильевна стала раскладывать куски по тарелкам.
– Нет-нет, мне не надо! – Галанов прикрыл тарелку ладонью.
– Как это – не надо? – изумилась жена. – Ты же ничего не ел с самого утра!
– Первый раз вижу, чтобы Славка от свинины отказывался. – Генерал Ваня хмыкнул.
– Просто не хочу, и все!
– Слав, ты там в своем литературном интернационале, часом, иудаизм не принял? – спросил с ироническим прищуром Потапов-старший.
– Оставьте папу в покое! – вступилась Вика. – Я вот тоже не буду свинину.
– Да ты вообще ничего не ешь, – тихо заметил Глазурованный, отправил в рот большой кусок и задвигал челюстями.
– Ох, и не говорите, – вздохнула Оксана Васильевна, – морит себя голодом, кожа да кости, смотреть больно.
– И не смотри! – огрызнулась Вика.
– Девочка фигуру бережет, – генеральша Дерябина снисходительно улыбнулась, – не переживай, Ксанчик, они сейчас все такие.
– Наш Верун тоже с фокусами, – генерал Ваня потрепал по щеке красавицу дочь, – ни пельмешек, ни котлеток с картошкой, ни булочек сладких мы не кушаем. Набралась там в своем Лондоне глупостей этих.
– Папа! – Вера шлепнула его по руке.
– Дед, не напоминай маме про Лондон, – подал голос Глеб.
Голос ломался, перескакивал с фальцета на баритон. В конце фразы Глеб дал «петуха», покраснел и уставился в свою тарелку. Близнецы Сошниковы дружно захихикали. Им было по четырнадцать. Худенькие, курносые, с карими глазищами под белокурыми челками, они носили одинаковые прически, одинаковую одежду. Когда Галанов смотрел на них, ему казалось, что двоится в глазах.
– Да, Ваня, при чем тут Лондон? – проворчала генеральша и смахнула салфеткой листик петрушки с генеральского подбородка.
Вячеслав Олегович знал, что мужа Веры, полковника КГБ Уфимцева Юрия Глебовича, несколько лет назад после крупного шпионского скандала турнули из Лондона. Вражеские голоса тогда сообщили, что правительство Великобритании разоблачило и объявило персонами нон-грата чуть ли не сотню сотрудников советской внешней разведки. Теперь Уфимцев торчал в какой-то черной африканской дыре (кошмарный климат, грязь, нищета, эпидемии, дикость). Вера и Глеб остались в Москве. Генерал и генеральша считали Верин брак удачным, но после Лондона разочаровались в зяте. Вроде не виноват, погорели тогда многие, но ведь это не мешает служебному росту, а он застрял в непрестижной Черножопии, ни тпру, ни ну.
Много лет назад, в начале дачной жизни, Вера очень нравилась Галанову. Юное эфемерное создание сказочной красоты, студентка филфака. У них всегда находились темы для разговоров, но дальше пустой болтовни, игры в бадминтон и походов за грибами так ни разу и не зашло. В тесном дачном мирке роман скрыть невозможно. Дерябин Иван Поликарпович, тогда полковник, ныне генерал-майор, за шашни со своей красавицей дочкой любого женатика в порошок бы стер, да и Оксана Васильевна сжила бы свету.
К сорока с хвостиком Вера осталась красавицей, только красота ее будто застыла, затвердела. За столом сидела фарфоровая кукла с идеально подстриженными волосами цвета белого золота, искусно подведенными глазами цвета мертвой бирюзы. На тарелке перед ней лежала горстка квашеной капусты и надкусанный кусок черного хлеба.
«Интересно, есть у нее кто-нибудь? Четвертый год без мужа», – подумал Вячеслав Олегович.







