
Полина Санаева
Черная водолазка
Фантомные боли
Чтобы добраться до Чоха из Махачкалы, в XIX веке нужно было двое суток идти пешком. Еще и останавливаться по дороге, чтобы переночевать в горах. На чохском кладбище есть могила мальчика из семьи, где кроме него было пять дочерей, на ней камень с надписью «единственному сыну». Он учился в Темир-хан-Шуре, шел домой на каникулы, переночевал в пути, застудил почки и умер. А антибиотиков тогда не было…
Сейчас до Чоха три часа – если на джипе. Все вверх и вверх. Все дальше от города и все ближе к облакам. В этом доме есть комната, которую расписал неизвестный художник. Твердая рука, удивительные цвета, обратная перспектива. Явно большой талант. Кто он был? Куда делся? Никто не знает.
В доме много комнат, сохранились деревянные двери и ставни с резьбой. Этот дом построил Гарун Хаджи. «Он был прекрасным человеком, сирота, который из нищеты выбился в самого богатого человека села. Трудяга», – сказала историк Патимат Тахнаева. Здесь когда-то кипела жизнь, готовилась еда, на веранде сушились подушки, в комнатах лежали ковры, бегали женщины, качались колыбельки, сидели мужчины. А внизу мычали коровы и блеяли овцы. Теперь давно тишина. Но воздух и стены будто состоят из вещества того времени – «конец XIX – начало XX века», будто его законсервировали, и его еще можно потрогать, его еще можно вдохнуть.

Последние десятилетия дом подолгу стоял пустой, в некоторых окнах не было стекол, и роспись на стенах – в голубином помете. Толстым слоем он покрывал и пол на веранде, но Клара его оттерла и покрасила рыжей краской. Клара Власова – 90-летняя художница, нынешняя хозяйка дома. Она называет автора настенной росписи «чохским Пиросмани». В большой комнате стоят две кровати, две табуретки, венский стул (он же стол) и Кларин мольберт. Все. В маленькой комнатке с очагом есть старый шкаф темного дерева с большим мутным зеркалом в пятнах. Дверка не скрипит и не открывается. Еще три больших комнаты в глубине дома совсем пустые – в них земляной пол, и нет сил убраться. К нижнему этажу сосед пристроил покрытый шифером сарай, чем перекрыл окна.
Но с верхнего этажа видна вся эта красота, этот классический дагестанский горный пейзаж – картина с зарубками вечности и приметами прежнего уклада жизни. Они становятся все более прозрачными, эпоха отступает, как море – прямо на глазах, покрывается пометом нового времени, теряется вдали. Гаснет. Террасы, которыми изрезаны склоны – эти памятники упорству горцев, террасы, которые люди возделывали столетиями – они будто оплывают, обмыливаются, утрачивают четкие контуры. Деревья в садах засыхают, умирают стоя, некоторые ветки обильно плодоносят, но тоже сдаются. Маленькие серпики, которыми жали пшеницу, – ржавеют, валяются во дворах, иногда ими украшают городские интерьеры – это модно, аутентично, стильно.
Разрушенные и покинутые дома в селениях (и целые села!) – привлекают туристов, смотрятся живописно, но грустно. Горько. Иногда от дома остается только одна стена – с очагом, с уютно закопченными камнями над ним, с выемками – полочками. Как будто остальные три стенки отвалились только что, и люди вокруг этого очага сидели день назад, а на полочке стояла лампа. Чираг. Заросшие травой ступени, в домах помладше еще даже болтаются занавески… Эта цивилизация погибла.
Мы тут ходим в кроссовках, снимаем айфонами, на руке тикают свотчи, мы смотрим на последние приметы настоящей жизни в горах, жизни, когда людям ничего не давалось легко, ходим и умиляемся. Тому, как обработан каждый камень в кладке (вручную), как продуманы и срезаны углы строений (чтоб могла пройти арба), резьбе по дереву, огромным гвоздям ручной работы – из кузницы, аркам и сводам, опорным столбам и треугольным табуреткам. Мы ощущаем ужасные фантомные боли – когда болит то, чего уже нет.
Нет уклада, порядка, закона, чего-то незыблемого, хотя бы похожего на традиции и, простите, устои. Нет тщательности ни в чем. А тут даже порожек в доме так крепко сбит, как будто выстоит и при всемирном потопе. От нашего времени не останется ничего – дома, которые строят сейчас, разрушаются при жизни хозяев.
Мы отвыкли от усилий. Мы уставшие прямо с рождения. Мы будто хотим купить себе готовую жизнь и обмыть это дело в ресторанчике неподалеку. Будто прогресс отменил необходимость трудиться и быть честными. Мы мечтаем в старости уехать в свой домик в горах, и чтоб там был закон и порядок, порожек и вид. Но деваться нам некуда. Максимум – купить поставец, повесить в городской квартире и сетовать на дороговизну антиквариата.
Пережить ноябрь
У нас ноябрь. В нем надо спать.
Под звук закипающего чайника.
На топчанчике в кухне, когда слышно, как шипит газ, как вода собирается с силами, чтоб забурлить, как гудит металл и как пузырьки цепочками устремляются вверх. И кто-то дожидается кипятка и заваривает чай, и кидает веточку чабреца прямо в чашку. Запах дикого поля разливается в воздухе. И ты засыпаешь окончательно.
Под шум прибоя.

Если спишь рядом с морем, слышно, как волны колышут гальку и как деликатно позвякивают в воде ракушки, трутся друг о друга. Будто попискивают.
Под разговор посторонних женщин о бытовом и житейском, вполголоса, рядом, в дороге, в поезде. «В этом году огурцов мало засолила – приболела в сезон, да и внучку привезли – не до банок было…» «А мои не приезжали, я пока ждала, наварила варенья – из абрикосов, из белой черешни, скоро айвой займусь… Ох, косынка сползла». И вздохи.

Под тихий спор двух незнакомых мужчин за стенкой – об умном, например, о книге, которую точно никогда не прочтешь. «Не понимаю, что тебе там понравилось? Анализ слабый, поверхностный, сплошное выпячивание собственного мнения. Я, я, я! А фактов – минимум». «Согласен, много субъективного, но как блестяще изложено! Рискованно, на грани скандала, а спорить не хочется…» И выходят курить.
Спать, спать.
Под стук дождя о подоконник, когда некоторые капли крупнее и грохаются с высоты, а другие сыплются иголочками, часто-часто. А мимо изредка ездят машины, попадают колесами в лужи, и вода разливается длинным звуком.
Под треск поленьев, сгорающих в камине, и прочую тишину, а за стенами вокруг чтоб деревья во множество заградительных рядов, качаются, переплетаются ветвями, мокнут.
Под свист и шелест крыльев ночной птицы, пролетающей мимо форточки. Чтоб как в английских романах: «Было слышно, что сова вылетела из леса и задела когтями живую изгородь».
Под мерные завывания ветра, который гуляет по свету, выносит душное, сносит лишнее, заставляет беречься, дует и запрещает выходить из дома, запирает крест-накрест двери – надолго, надолго.
Под звук колыбельной, которую поют ребенку, или читают сказку, а ребенок возится, что-то спрашивает, смеется, роняет игрушки и одеяло.
Под шелест переворачиваемых страниц, когда кто-то читает рядом бумажную книгу, хихикает, старается не шуметь, хмыкает, шуршит карандашом – делает заметки.
Как хорошо засыпать, когда в ногах или у живота крутится юлой кошка или собака, устраивается поудобнее, а потом начинает так облизываться, что аж качает кровать.
Когда в соседней комнате кто-то молится без надрыва, или утюжит пододеяльник и напевает, или целуется в сумерках.
Найти – понадобится карта:
в себе запрячусь и запрусь.
Смотри – зима начнется завтра,
а я, пожалуй, не начнусь[3].
Экзотика и нежность
Налейте в кастрюльку стакан бульона, порежьте две луковицы, добавьте три ложки томатной пасты, ложку муки, ложку масла, половину чайной ложки виноградного уксуса, перец, петрушку, базилик. Поварите минут десять и залейте бараньи шарики. Можно потушить кололаки в соусе еще минут 15. Это только читать долго, а делать очень быстро.
Теперь мы добились от баранины, чего хотели: экзотики и нежности. От жены бы так[4].
Ездила в тот город, который моя Родина. Другой нет.
Раньше он пах морем, был почти ласковым, особенно иногда. А теперь раскаленный, об него можно поцарапаться, порезаться стеклом, ранки засыплет пылью. Здесь птицы не поют, деревья не растут…
Это город без экстерьера – ему плевать, как он выглядит снаружи, вся красота внутри офисов, квартир, магазинов – обои, диваны, плитка. Ламинат. Паркет. «Идеальная стяжка», «потолок, как яичко». А у людей в этих интерьерах наоборот: слишком много сил на то, чтобы выглядеть, и не остается на то, чтобы быть. На горах мусора щиты с рекламой бутиков Max Mara.
Город без силуэта, без пейзажа, без линии. Если где-то встретится натюрморт – хочется заключить его в рамку, сфотографировать как минимум. Город ударных строек, в тени которых еле заметны дома, которые помню я.
Дом, в котором выросла и жила тыщу лет, теперь оказался кривой пятиэтажкой, на нашем балконе болтается грязная тряпка и больше не вьется виноград.
Такое страшное ощущение машины времени: пока рядом с тобой те, кого не знал молодым, ты кажешься себе вечно-зеленой. А потом приезжаешь в город-призрак, встречаешь седых друзей, и хочется погладить их по седине из своей продолжающейся молодости. А мы ведь ровесники.
У нас во дворе жила дурочка, так, ничего, веселая – могла поддержать беседу о погоде и ценах на хлеб, дружила с котами, ухаживала за цветами. На пару лет старше меня. Ее я тоже встретила – она поливала палисадник из шланга. Увидела меня, улыбнулась, и оказалось, у нее почти нет зубов. У ног трутся больные котята, косынку срывает ветром, полный сюр. Где она зубы-то растеряла?
Встреченные одноклассники стали похожи на своих родителей, у кого-то умер отец, у кого-то мать. Уже началось. Встретила свою первую любовь, и вторую, оказалось, я не научилась отпускать людей и разговаривать с теми, кого не разлюбила, тоже не умею. Волнуюсь, плету глупости. Значит, живая и, видите, не взрослею. «А ты не подумал, когда увидел меня, не подумал так: «Ндааа, а она постарела…»? Что ему было ответить?
На кладбище, где ничего не растет, прощалась с двумя аскетичными памятниками – мои бабушка и дедушка. На фарфоровых фотографиях они неожиданно веселые, улыбаются и как бы говорят: не парься, и это пройдет. Придать могиле ухоженный вид оказалось невозможно.
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места[5].
Уже в поезде, сквозь сон не могла понять, откуда и куда еду, казалось, откуда-то из чужих стран – наконец-то домой, в тот город, увитый виноградом, пропахший морем, и это там, а не в Москве, на кухне мама моет черешню и персики.
И была там чашечка белая
Опять совершенно целая.
И лампа была
Не разбитая,
И мама была
Не сердитая…[6]
И где теперь моя родина?
21 октября
Ну что сказать 21 октября, когда до Нового года далеко, а летние впечатления почти стерлись? Впереди холода, темень и реагенты, которые скрипят на зубах.
Приготовилась было встречать золотую осень, а клен перед балконом облетел за вчерашнюю морозную ночь, первую в этом году (хорошо, что успели занести картошку), и когда просыпаешься – перед глазами не багрец, а грустные пятиэтажки. Теперь вся красота – под ногами, но за ней охотятся злые подметальщики, механические и живые. Не во что упереться глазом, и нет числа, которое, как маяк, светит во мраке накатывающей зимы.
Я в тоннеле личного существования, я в него так стремилась. «Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет». Владимир Высоцкий. Это и время года, и, видимо, возраст сказывается – стала скучать по бабушкам и их безусловной любви. Смотрю на окна, выбираю занавески, которые могли бы понравиться моей бабушке – чтоб льняные в клеточку, тяжелые, старой закалки. Представляю, как вхожу в этот подъезд, сажусь под абажур. И как из окна видно голую ветку на фоне фиолетового сумеречного неба. И как руки еще холодные с улицы, а бабушка уже что-то греет на плите и открывает какую-нибудь банку с соленьем-вареньем, и подсовывает маленькие тапочки, и всплескивает руками: «40-й? У тебя? Ну тогда надень дедушкины».
Я была единственной внучкой у всех четверых бабушек-дедушек, никого из них нет в живых, но сравнительно недавно я стала ощущать их любовь и одобрение. А может, просто стала больше в них нуждаться – и все придумала.
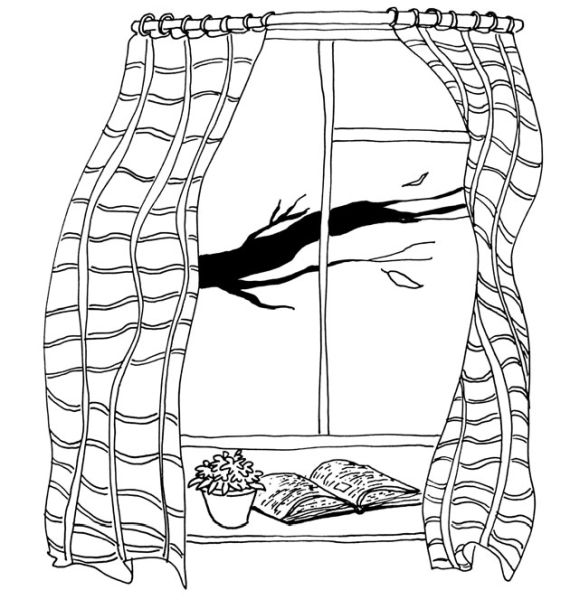
А еще я все больше понимаю папу, на которого сердилась с подросткового возраста – и раз больше не сержусь, значит, этот возраст наконец-то закончился. Теперь, когда отпустило, вижу, как завишу от фамильных черт, и успокоилась: раз папа не сделал чего-то, значит, не мог. Однажды, например, он не пришел на свой день рождения. Гости сидели за накрытым столом, ждали, потом съели приготовленное мамой, потом разошлись. А он не пришел. Теперь и я могу не дойти до стола. Борюсь с собой, но не всегда побеждаю. И все чаще, когда веду себя странно и приходится оправдываться, и никто не понимает, в голове мелькает: «Папа бы понял!» Но папа далеко. Иногда он звонит. Обычно по пятницам. А недавно позвонил в среду.
Я говорю:
– А в пятницу почему не позвонил?
– В пятницу еще не соскучился.
Мы с ним интроверты. Осенью мы обостряемся. И пазлы листьев под ногами имеют значение. Сложатся или нет. И с холода хочется куда-то, где ни о чем не спросят, а если спросят только: из какой черешни будешь компот? Из белой или из черной? Но последнее время нет даже подходящей занавески, чтоб представить.
Когда-то папа делал домашнее вино и вишневку. Густую, вкусную, как начинка швейцарской шоколадной конфеты и как любимый торт «Пьяная вишня в шоколаде» (по Лемкулю), который всегда пекся в августе на мой день рождения. А про вишневку папа говорил «женский напиток» и не позволял ее пить мужчинам. Это был первый алкоголь, который я попробовала в жизни. Училась смаковать и становилась румяной – снаружи и внутри. В вишневый сезон он ходил к вечеру на рынок, закупался ягодами и что-то там долго колдовал. Потом я уехала в Москву. И он сосредоточился на кислом мужском вине.
Приезжая, я спрашивала: «Вишневка осталась?» Папа куда-то шел, приносил бутылку с осадком на дне. Что означало, бутылка стоит с прошлого года. А может, с позапрошлого. И хранится только для меня. Потом кончилась и последняя бутылка. Я долго везде пробовала какие-то ликеры – всегда оказывалось не то.
«Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то», – сказал Довлатов. «Лучше будь один, чем вместе с кем попало», – советует Омар Хайям. Все очень запутанно.
В таком настроении заходишь в бар с целью, например, согреться. Смотришь карту и понимаешь – водку не хочу, коньяк не хочу, текилу сколько ж можно. Не хочу кислого, не хочу соленого.
– А настойку не хотите?
– Горькую?
– Почему горькую? Вишневая есть.
Радуешься, говоришь: принесите. Пьешь и о, да! – начинает подступать уверенность, что, пожалуй, эта зима не будет такой уж суровой. Что, пожалуй, ты с ней как-нибудь справишься. Что впереди кайфы, и ништяки, и пятницы. И праздники, и дни рождения козерогов.
– Па, а че ты вишневку не делаешь больше?
– А что, надо? Ну, теперь на следующее лето.
Кстати, да.
И лето.
Чистый восторг
Махачкалинский СПА – это оксюморон. Этого быть не может, это подлог. Весь мой опыт, вся теория и практика житья в Махачкале восстали против возможности существования СПА в этом городе, где все расслабляются подпольно. А на людях – профессионально демонстрируют благополучие и понты, не жалея ни людей, ни денег, ни, собственно, себя. Хасият такой.
Однако люстра, ЛЮСТРА – максимально гламурная и розовая, показавшая fuck всей окружающей махачкалинской серости, – люстра в холле сразу обнадежила. А потом в раздевалку, в халат, в хамам, в царство лазурных мозаичных потолков, журчания, плеска, приглушенного света, горячей воды, одноразовых трусов и искусственного снега.
А эта глина на теле! Глина, благоухающая травами, не знавшими пестицидов. А нездешняя музыка! Музыка, звуки которой словно капли горячего экзотического масла – прямо в основание шеи, туда, где давно все свело и болело. Релакс по-о-ойман, затвердевшие мышцы отта-а-а-аивают, из мозга испаряются черные мы-ы-ы-ысли, мы расслабля-я-я…
– Вахь! Дай Аллах здоровья моей невестке! Как хорошо, надо же! – голос с соседнего лежака разрезал целебный пар хамама, как хлебный нож. Будто в сон про парение в облаках ворвался брутальный сосед на «девятке»; как в меню тайского ресторана мог бы ворваться хинкал.
– Дочки покупают мамам программы, – улыбнулась девушка, которая смывала с меня глину. – Взрослые женщины никогда не видели СПА, удивляются. Всегда что-нибудь смешное говорят.
Да разве ж это смешно?
– Никогда я так не наслаждалась водой, клянусь! – сказал другой голос с прекрасным, первозданным негородским акцентом. Точно такой был у моей учительницы русского языка и литературы, которая потом завела себе точку на Восточном рынке, где долго и счастливо торговала халатами, чем и прокормила всю семью, с мужем включительно.
Дальше мы все время пересекались на просторах СПА с этими женщинами, совсем не гламурными дагестанскими женщинами, которые лучше всех умеют трудиться и совсем не умеют отдыхать. Которые сами и заработают на хлеб насущный, и сами же его испекут. Они целые дни проводят на ногах, вкусно готовят, не делают проблемы из «накормить толпу гостей» в час ночи, а утром в свой выходной выбить пять ковров, помыть окна и сходить к больному родственнику. На них все и держится.
Они умудряются содержать семьи, откладывать дочкам на бриллиантовые серьги, покупать сыновьям машины и не покупать ничего себе. Но раз уж дочки подарили им модную штучку – «СПА-программу» и затолкали их сюда, – женщины добросовестно релаксировали: пили чай с мятой и лаймом, рассказывали про массаж и щекотку «от ванны», радовались бассейну и вдруг говорили «балдеж».
– В туалете даже музыка, смотри! Как в консерватории сидишь. Выходить забыла, слушала…
– Шкафчики в раздевалке видела? Как в нашем садике, только побольше.
– Мам, ты на чохский язык идешь со мной сегодня?
– Давай, да, не пойдем, Разийка.
– Ты этот снег видела? Там машинка стоит – тахь, тахь, падает с потолка. Говорят, лицо надо протирать.
И смеются.
Еще они переговаривались из разных комнат.
– Аминат, в клеенку завернули тебя уже? Мне делали, жарко стало!
– Кумушка, ты че там застряла? Домой пора! Пахать кто будет?!
– Кожа такая гладкая, сегодня одна спать даже не хочу, чтоб не пропадала.
– У меня теперь массаж вышел на первое место по удовольствию!
И смеются.
Самое несмешное было в конце, когда все одевались и понимали, что действительно пора вставать и уходить, а они уже мгновенно привыкли к хорошему.
– С ночевкой бывают тут у вас варианты? Чтоб остаться, программа есть?
– Если вы домой не придете, ваши мужья наш салон в окружение возьмут, – ответила сотрудница.
– Да прям! Нам же дочки подарок сделали, не мужья! – сказала одна женщина.
– Прошли те времена, когда они возбухали, – сказала другая. – 15 лет – они нас, всю жизнь – мы их.
– Че, правда? – сказала я.
– Конечно! – ответили женщины хором. – Ты не знала? Это же закон природы.
И смеются.
СПА в Махачкале, безусловно, существует. Он старается, создает эффект уединения, атмосферу любви к себе, держит оборону от суеты и пыли, демонстрирует люстру и чудодейственные эффекты электронных технологий и человеческих прикосновений. СПА существует и диссонирует с городом, не знающим ни покоя, ни отдыха. Диссонирует снаружи и изнутри.
Бабья осень
Стоим вчера на остановке, все туда набились, потому что дождь идет, с углов крыши текут четыре симметричных ручья, красиво, но холодно и мокро.
Девочка подошла в ботиночках с опушкой, я загрустила – нам их теперь до мая носить. И тут дед с рюкзаком – не модным кожаным, а с брезентовым рюкзаком, как у рыбаков, подходит к девушке и кричит таким образом, как кричат, когда живут со слабослышащим:
– Погодка, да? Бабье лето, видать, отменили!
Девушка достает один наушник, говорит: «Я вас не слышу». Затыкает обратно и отходит в сторону. Дедушка суется с тем же сообщением к заранее безнадежному парню, потому что тот стоит в больших наушниках шенхайзер и немножко танцует в такт своей музыке. Парень бессмысленно поулыбался. Дед был рад. Сделал еще одну попытку «Погодка, да?», но тетка этого даже не заметила – слушала, что ей в телефоне рассказывают. А дед не заметил, что она не заметила. У него истекала последняя возможность пообщаться с внешним миром.
Я ему улыбнулась как можно осмысленней.
Потом подъехал автобус, мы все в него загрузились, дед стоит у окна, и по нему видно, что там, куда он едет, поговорить будет уже не с кем.
Захотелось закинуть его в те видосы, где старики танцуют на дискотеках. Но они все импортные – и те старики и видосы. В России нет мест, где они могли бы общаться между собой.
Психолог говорит, что раз я пишу про тех, кого мне жалко, – это ярко демонстрирует мою основную эмоцию – жалость к себе. Что я проецирую все эти жалостливые ситуации на себя. И он прав, конечно. Видимо, боюсь, что не танцевать мне на дискотеках в 85 лет.




