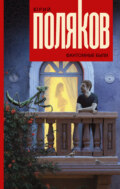Юрий Поляков
Грибной царь
5
…Добравшись до дома, Свирельников отпустил Лешу домой – умыться и позавтракать. У подъезда консьержка Елизавета Федоровна – заслуженный работник культуры и бывшая актриса – кормила на ступеньках бездомных кошек. Истомившись за ночь без человеческого общения, она бросилась к Михаилу Дмитриевичу, объявив хорошо поставленным трагическим голосом, что нынешние режиссеры умеют только уродовать классику, а выпускники «Щуки» не способны даже держать второй план. Директор «Сантехуюта» спорить не стал. В этот момент его гораздо больше интересовали серые «жигули», которые медленно проехали вдоль соседнего дома и скрылись за поворотом.
«Нет, это, кажется, не похмельные глюки!» – сообразил он.
Похоже, с самого утра, а точнее даже, со вчерашнего вечера за ним следили! Но кто и зачем?
Торопливо согласившись с Елизаветой Федоровной, что вечный худрук некогда знаменитой «Таганки» впал в очевидный творческий маразм, Свирельников метнулся к лифту. Через мгновенье, как по заказу, створки разъехались – из кабинки стремглав выскочила бодрая извилистая такса и, напрягая поводок, потащила на прогулку еще не проснувшуюся толстушку с восьмого этажа. Поднимаясь к себе, Михаил Дмитриевич некоторое время слышал гулкий голос бывшей актрисы, громившей телепередачу «Дог-шоу» за низкопоклонство перед западным собачьим питанием.
Войдя в квартиру и вдохнув родной воздух, Михаил Дмитриевич ощутил долгожданное домашнее расслабление. Наверное, нечто подобное испытывал древний человек, когда, удрав от саблезубого тигра или голодных каннибалов, забивался в свою родную пещерку и чувствовал себя в первобытной безопасности. Свирельников отдернул оконную штору: беговое поле было пустынно. Он сбросил пиджак, осторожно, через голову, чтобы не повредить узел, снял галстук и включил автоответчик. Сообщения были еще вчерашние: загуляв с Веселкиным, он поставил «золотой» мобильник на режим переадресации.
Первой звонила секретарша Нонна. Подчеркнуто официально, но с неуловимой иронической интонацией, какую позволяют себе помощницы, состоящие с шефом в интимной близости, она сообщала, что обтрезвонились из газеты «Столичный колокол» и просили срочно с ними связаться. Дергались они, сообразил Михаил Дмитриевич, скорее всего, из-за неоплаченной рекламы. Это уже случалось, и гендиректор «Сантехуюта» злобно наметил: сегодня же накостылять бухгалтерии.
Вторым оказался отец Вениамин. Он душевно поздравлял с Анной Пророчицей, передавал именинные приветы дочери, забыв, очевидно, что зовут ее не Анна, а Алена, и напоминал – уже в который раз – про болтики. «Черт! – выругался про себя Михаил Дмитриевич. – Сегодня же надо забрать и отвезти!» – мысленно постановил он. «Пусть Господь посетит тебя Своей милостью! – словно услышав его, обрадовался пастырь. – Ну, храни тебя Бог!»
Третьей была мать. Она достаточно связно прорыдала, что Федька опять запил, и попросила незамедлительно приехать на помощь брату. «Вот мерзавец!» – заскрипел зубами Свирельников, но, почуяв в собственном теле подлую похмельную невнятность, смягчился: надо будет к ним сегодня заскочить.
Четвертым шел Алипанов. «Все в порядке! – спокойно сообщил он. – Передаю трубку…» И тут же в автоответчике забился плачущий голос Фетюгина, который обещал завтра (значит, уже сегодня) в девять часов доставить долг, прямо домой. «Очень кстати!» – обрадовался Свирельников: ему предстояло (если все наконец сложится) занести большую взятку руководителю Департамента, Потом снова заговорил Алипанов: «Позвони, когда все будет в порядке! Жду».
Пятой объявилась Светка: «Ты – врун и обманщик! Я изменю тебе с сантехником! Прямо сейчас!.. Заходите, заходите, молодой человек! Ну конечно же я дома одна. Совсем одна…» От этих слов Михаила Дмитриевича бросило в жар. Нет, не потому, что он поверил в ее смешную угрозу, а оттого, что Тоня почти с такой же интонацией, когда ссорились, полушутливо-полусерьезно обещала наставить ему рога с каким-нибудь исключительным ничтожеством. Впрочем, и в этом случае он тоже сам виноват: обещал приехать к Светке вечером, еще не зная, что закаруселит с Веселкиным, и обманул. А мог ведь позвонить и соврать что-нибудь про срочные переговоры. Почему не позвонил? Почему? Да, был пьян и вовлечен в непотребство. Ну и что? Все равно надо было набрать и наврать! Это жены бесятся, когда пьяный муж звонит за полночь и с пятого раза выговаривает слово «задерживаюсь». А любовницам, наоборот, нравится: «Ах, он даже в таком виде про меня не забывает!» Конечно, надо было звонить и врать! Ложь украшает любовь, как хороший багет линялую акварельку. Если мужчина перестает женщине врать, значит, он ею больше не дорожит и скоро разлюбит, если уже не разлюбил.
«Срочно ехать и – мириться!»
Последний «месседж» оказался очень странным: кто-то прерывисто дышал в трубку, и доносился отчетливый автомобильный гул. Звонили с улицы. Потом раздались гудки. Михаил Дмитриевич взглянул на зеленый дисплейчик и обнаружил, что звонок был сделан уже сегодня, минут десять назад, когда он поднимался в лифте. Озадаченный Свирельников еще раз прослушал последнюю запись, но дополнительно ничего, кроме скрипучей милицейской сирены, звучавшей в отдаленном машинном шуме, не уловил. Поначалу он хотел сразу же набрать Алипанова и рассказать обо всех этих нехорошестях, но решил дождаться Фитюгина, а потом уже звонить.
Чтобы успокоиться и отогнать мысли о подозрительном «жигуленке», Михаил Дмитриевич несколько раз прошелся по комнате, задержался возле тележки-бара, повертел в руках черного «Джонни Уокера» и даже заранее ощутил во рту теплую освобождающую алкогольную горечь. Но сегодня с утра пить было нельзя. Он нехотя вернул бутылку на тележку и включил телевизор.
Шла шутейная утренняя передача «Вставай, страна огромная!», которую вела развязная дама с фиолетовыми волосами, похожая на Карлсона без пропеллера. Звали ее Ирма. Она сообщила, что сегодня, 11 сентября, по православному календарю день Иоанна Предтечи, и принялась бойко рассказывать про то, как Саломея в обмен на сексапильный танец выпросила у Ирода голову Крестителя…
«А теперь у меня вопрос к директору Института библейской истории, действительному члену АГУ, Академии гуманитарного универсализма, господину Коллибину. – Ведущая на вращающемся кресле резко повернулась к гостю. – Кирилл Семенович, так можно ли утверждать, что именно Саломея заказала Иоанна Предтечу?»
Изнуренное знанием морщинистое лицо академика потемнело в мыслительном усилии, и он медленно, как бы размышляя вслух, заговорил:
«Видите ли, Ирмочка, формально – да, так как именно Саломея, падчерица и одновременно племянница Ирода Антипы, потребовала от него: „Хочу, чтобы ты мне дал теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя!“ И царю, прилюдно поклявшемуся выполнить любую ее просьбу, ничего не оставалось, как послать палачей в темницу. Однако мы должны помнить, что, услышав обещание царя, Саломея выбежала из залы, чтобы, так сказать, проконсультироваться со своей матерью Иродиадой, которая и приказала дочери: проси голову Крестителя!..»
«Ага! – радостно воскликнула фиолетовая ведущая, начавшая уже тосковать и ерзать ото всех этих подробностей. – Значит, Предтечу заказала Иродиада?!»
«Понимаете, Ирмочка, формально мы можем это предположить, – кивнул универсальный академик. – Действительно, Иоанн Креститель решительно осуждал брак царя с Иродиадой, потому что ее первый муж был еще жив. Да и собственная жена царя тоже была жива, но убежала от него к своему отцу. Поэтому царица питала к Иоанну далеко не дружественные чувства…»
«Как же у них там все запущено! – кокетливо хохотнула Ирма. – Что ж, давайте перейдем…»
«Разрешите закончить мысль?» – попросил Коллибин.
«Покороче!»
«…Иосиф Флавий сообщает, что царь заключил Иоанна в тюрьму, боясь, как бы страстные проповеди не спровоцировали народные волнения. Поэтому мы не можем исключить, что коварный Ирод Антипа, зная ненависть своей жены к Крестителю, сознательно пообещал падчерице выполнить любую ее просьбу, предвидя, какова будет эта просьба. Таким образом, ему удалось откровенное политическое убийство замаскировать под месть оскорбленной женщины. Это был тонкий расчет…»
«Совершенно с вами согласна! – перебила ведущая. – Брак по расчету может оказаться счастливым только в том случае, если расчет был верным. Итак, академик Коллибин считает, что Крестителя заказал царь Ирод! А теперь…»
«Ирмочка! Мы еще не рассмотрели с вами возможный след Синедриона в этом деле. Ведь поначалу Ирод весьма сочувственно прислушивался к советам Иоанна. Однако Креститель, как сказано в Евангелии, „все положил к ногам Иисуса Мессии, которому должно было расти, а ему, Иоанну, умаляться“. А это не могло не вызвать озабоченности влиятельного священничества, которое…»
«Кирилл Семенович, – ненавидяще улыбаясь, оборвала его фиолетовая ведущая, – надеюсь, вы еще не раз придете к нам в студию, и мы, конечно, расскажем телезрителям и про кровавый след Синедриона, и про кровосмесительные нравы того времени, а сейчас пора узнать, как отмечали день усекновения главы Иоанна Предтечи на Руси! И расскажет нам об этом, как всегда, Старичок Боровичок!»
В углу экрана вдруг возникло некое как бы избяное помещение. На фоне авангардно нарисованной печи сидел странный человечек в широкополой соломенной шляпе, похожий на Карла Маркса, из озорства вырядившегося то ли гусляром, то ли бандуристом. Задумчиво облокотившись о настоящую самопрялку и поигрывая резным вальком для белья, он всем своим видом выражал ожидание.
«Боровичо-ок!» – игриво позвала ведущая, глядя почему-то в другой угол экрана.
«Ирма?!» – с готовностью отозвался тот.
«Боровичок, вы в эфире!»
«Иван постный – осени отец крестный! – балагуристо затараторил гусляр. – Иван постный пришел – лето красное увел. Иван Предтеча гонит птицу за море далече! С Ивана постного убирали репу. Однако с этим днем связан запрет кушать все круглое…»
«А это еще почему?»
«А вот почему. Нельзя есть яблоки, картошку, капусту, арбузы, лук, – в общем, все то, что напоминает человеческую голову. Считалось грехом брать в руки нож и резать что бы то ни было…»
«Ой, а я хлеб резала!» – расстроилась Ирма.
«Бог простит! – пообещал Боровичок. – Но я надеюсь, вы сегодня не пели?»
«Нет!»
«И правильно! Ведь запрет на песни и пляски связан с тем, что Саломея именно таким образом выпросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирма?!»
«Спасибо, Старичок Боровичок, за подробную информацию! – поблагодарила ведущая и, оставшись в кадре одна, вздохнула огорченно. – Ну что ж, если нельзя петь и плясать, остается послушать последние известия. Казимир?!»
Камера дала общий план, и на том месте, где прежде сидел академик, теперь обнаружился безукоризненно одетый молодой человек с лицом, искаженным какой-то давней, очевидно родовой, травмой. Героический доктор, тащивший его щипцами, и помыслить не мог, что помогает появиться на белый свет будущему телевизионному диктору.
«Ирма?!» – отозвался Казимир, отрываясь от ноутбука.
«Что нового в мире?»
«Сегодня в США пройдут траурные мероприятия, посвященные второй годовщине террористического акта на Манхэттене. В Россию с частным визитом прибывает экс-президент Джордж Буш-старший с супругой Барбарой. Свое турне он начнет с Санкт-Петербурга, планирует также посетить Москву и Сочи и, конечно же, встретиться со своим другом экс-президентом Горбачевым…»
Поняв, что ничего заслуживающего внимания в мире не произошло, Михаил Дмитриевич стал переодеваться, прикидывая, как складывается день. Директор «Сантехуюта» никогда не записывал свои планы в ежедневник, но помнил все по минутам – привычка, оставшаяся с армейских времен. В 9.30 для ежемесячного осмотра его ждал доктор Сергей Иванович. Как ни странно, после такой пьянки Свирельников чувствовал себя вполне прилично, если исключить естественную оторопь в организме. Поначалу он хотел позвонить и перенести осмотр, боясь опоздать к следователю или, что еще хуже, не успеть на вручение даров, назначенное на 12.00, Но потом, прикинув и рассчитав расстояния, решил не ломать график.
Михаил Дмитриевич отодвинул зеркальную панель шкафа-«стенли» и, немного поколебавшись, выбрал костюм попроще, так как глава Департамента был чрезвычайно скромен, строг и придирчив. Ведь чиновник, известное дело, чем больше берет, тем болезненнее относится к наглядной роскоши входящего в кабинет бизнесмена. У него, чиновника, может быть, тоже дома гардероб набит «гуччами» да «версачами», а лишний раз не наденешь – враги только и ждут повода!
Некоторое время Свирельников стоял перед зеркалом, соображая сорочку и галстук. В этом он ничего не понимал, а малолетняя Светка, носившая исключительно джинсы да майки, – тем более. В прежние, семейные времена галстуки ему выбирала и повязывала, разумеется, Тоня – большая специалистка. Сам он так и не научился: полжизни проходил «по форме» с уставной «селедкой», имевшей вечный узел да еще застежку на резиночке – для удобства. Захолостяковав, Михаил Дмитриевич стал наряжаться по наитию, однако сегодня, очевидно с похмелья, интуиция тупо отказывалась участвовать в процессе одевания. И тут ему пришла в голову спасительная мысль – директор «Сантехуюта» снова обернулся к телевизору.
«…В Министерстве образования, – докладывал Казимир, – заканчивается прием отзывов на новый стандарт образования, и вскоре он поступит на утверждение в Думу. Программы школьных предметов разработчики постарались максимально насытить знаниями, необходимыми для повседневной жизни. В курс биологии, к примеру, добавили тему „Съедобные и несъедобные грибы“, на уроках географии дети смогут познакомиться с денежными знаками основных стран мира, а в курс математики введена теория вероятности, которая поможет каждому школьнику оценить свои шансы при игре в лотерею…»
На дикторе были сине-полосатая рубашка и стального цвета однотонный атласный галстук. Михаил Дмитриевич выключил ящик и стал рыться в шкафу, проклиная свое невежество и страдая оттого, что вынужден подражать этому деформированному телевизионному щеголю. А куда деваться? Не приучили… Отец сроду галстуков не носил – среди шоферни этого вообще не понимали. При галстуке Михаил Дмитриевич видел его только один раз, когда хоронил. Дмитрий Матвеевич отрулил тридцать семь лет без единого серьезного ДТП, и его, как самого опытного в хозяйстве водителя, отправили в Чернобыль. Чуть ли не в виде поощрения, суки! Что уж он там возил на своем самосвале, кто теперь расскажет? Стал прихварывать. Потом обнаружили рак, прооперировали на Каширке, объяснились с родственниками и отпустили умирать домой, а ему сообщили, будто опухоль доброкачественная и бояться нечего. Почти до последнего дня он радовался за себя и переживал за соседей по палате (у них-то, в отличие от него, везунчика, рак самый настоящий!) и очень удивлялся, что домашние хоть и разделяют его радость, но как-то неуверенно. К концу он так высох, что мать, которая всегда была против кремации, махнула рукой и сказала: «Жгите! Все равно ничего не осталось…»
6
Свирельников умел завязывать только пионерский галстук. Были такие – из алого шелка, частицы, можно сказать, революционного знамени, обагренного кровью борцов за лучшее будущее. «Красиво умели детишек морочить!» – подумал он, внутренне напевая:
Вот на груди алый галстук расцвел.
Юность бушует, как вешние во-оды.
Скоро мы будем вступать в комсомол,
Так продолжаются школьные го-оды!
А почему, собственно, морочить? Что тут плохого? Ну, партию разогнали, может, и за дело. Ведь никто же не заступился. Никто! И хрен с ней! А пионеров-то за что? Они-то со своими горнами и барабанами кому мешали? Ну и маршировали бы себе дальше, собирали металлолом, бабушек через дорогу переводили, советовались бы там в своих отрядах! Кому это вредило? Значит, вредило! Значит, правильно Федька говорит, что где-то там, в закулисье… Стоп! «Закулисье» – «закут лисий». Тонька бы оценила!.. Так вот, значит, в этом самом «закуту лисьем» решили: не хрена с детства к коллективу приучать, не хрена товарищей-выручальщиков плодить! Человек – волк-одиночка! Нет, сначала волчонок, а потом уже волк! Брат правильно говорит. Вообще, Федька в первый день запоя много правильных вещей говорит. Это потом он уже начинает нести совершенную чепуху, вроде того, что евреи на самом деле никакие не евреи, а засланные из другой галактики биороботы с единым центром управления и задачей подчинить себе человеческую цивилизацию. Лечить надо брата. Опять надо лечить!
Самого Свирельникова, кстати, долго не принимали в пионеры. Во время сбора металлолома он проявил, как выразилась на собрании учительница Галина Остаповна, «хищнические наклонности». А дело было так: в Татарском дворе, возле Казанки, стояла раскуроченная «инвалидка» – трехколесная машинка, из тех, что предназначались увечным фронтовикам. Ветеран, видимо, одиноко помер, а его средство передвижения долго ржавело у забора, летом зарастая огромными московскими лопухами, а зимой превращаясь в сугроб. И вдруг в Краснопролетарском районе объявили соревнования под девизом «Металлолому – вторую жизнь!». По классам метался старший пионервожатый Илья, похожий на очкастого Шурика из «Кавказской пленницы», и вдохновенно рассказывал, как старый бабушкин утюг или ржавая труба могут превратиться в броню боевого танка и даже сопла ракеты, летящей к Марсу. Но что еще важней, было обещано: класс, собравший больше всего лома, поедет на Бородинское поле, где до сих пор находят медные солдатские пуговицы и даже побелевшие от времени пули величиной с лесной орех.
Маленький Миша страшно воодушевился и сразу вспомнил про «инвалидку», за которой иногда прятался, играя с друзьями в войну. Однако про нее еще раньше вспомнили мальчишки из 3-го «А», но не смогли даже сдвинуть с места, поэтому поставили часового и побежали за подмогой. Конечно, можно было позвать своих ребят, дать часовому по шее и утащить машину. Но пацаны из 3-го «А» поступили очень хитро: они поручили стеречь добычу Равильке. Грамотное решение, потому что двор назывался Татарским совсем не случайно: в полуразвалившемся флигеле обитала многочисленная и горластая семья дворника дяди Шамиля, большеголового татарина с недобрым взглядом, гонявшегося за мальчишками с метлой, если кто-нибудь обижал задиристого Равиля.
И тогда в голове малолетнего Свирельникова созрел изысканный план. Дело в том, что отец обычно обедал дома – подъезжал на своем самосвале и питался. Миша отыскал ближайший автомат и набрал номер, обойдясь, разумеется, без двух копеек. Этим нехитрым искусством владели почти все мальчишки: когда на том конце провода отвечали, надо было просто придавить рычаг, на который вешается трубка, до первого, еле слышного щелчка. Весь секрет заключался в чувствительности пальцев: чуть передавишь – и отбой. Телефон в их большой коммунальной квартире висел в коридоре, и никто обычно не торопился к дребезжащему черному аппарату, предпочитая, чтобы это сделали соседи. Но Мише повезло – трубку снял Григорий Валентинович, пожилой холостяк, работавший бухгалтером на «Физприборе», в двух кварталах от дома. Иногда в обеденный перерыв он со своей сослуживицей забегал попить чаю, и наивный Свирельников никак не мог понять возмущение матери, которая была яростно убеждена в том, что молодая замужняя женщина не имеет никакого личного права пить чай наедине с товарищем по работе, тем более таким старым.
Итак, Григорий Валентинович снял трубку и сообщил, что Дмитрий Матвеевич только-только закончил обед и спустился к машине. Миша взмолился:
– Дядя Гриша, верните папу!
Сосед с явным неудовольствием согласился.
– Что сотряслось? – минут через пять раздался в трубке отцов голос.
Он всегда говорил именно «сотряслось», а не «стряслось». И уж конечно, не от бескультурья, потому что вырастила его бабушка, до революции служившая гувернанткой в хороших семьях. Однажды Миша даже спросил отца, почему тот не стал учиться дальше, а пошел шоферить. Дмитрий Матвеевич, улыбаясь, ответил, что на трассе есть знаки и указатели, на крайний случай – регулировщики, а вот в других профессиях, особенно умственных, полный бардак и безответственность. Но откуда взялось это самое «сотряслось», он у отца так ни разу и не поинтересовался. Жаль, ведь за любимыми, смешно переиначенными словечками скрываются обычно какие-нибудь незабываемые жизненные обстоятельства. И кто знает, может, там, в посмертных эфирных скитаниях, души узнают друг друга именно по этим, переиначенным словечкам.
«Что сотряслось, сынок?» – спросит, быть может, бесплотного Свирельникова сгусток света, похожий на промельк противотуманных фар, выскочивший из-за поворота раньше самого автомобиля.
«Это ты, папа?»
«А кто же еще!»
И они сблизятся и сольются, как два солнечных зайчика, пущенные разными зеркалами…
Михаил Дмитриевич поежился от холодного похмельного морока, пробежавшего по телу, и успокоился, вспомнив, что видел нечто подобное недавно по телевизору в «Засекреченных материалах».
В общем, отец спросил, что «сотряслось», а Миша горячо и радостно рассказал про бесхозную «инвалидку», которую надо подцепить к грузовику и подтащить к школе, – тогда весь их класс поедет на Бородинское поле. Отец, поколебавшись, согласился. Теперь оставалось избавиться от Равильки. И малолетнего хитреца снова осенило. Им овладело чувство веселого могущества, когда все придумывается и ладится так легко, словно этот мир – часть тебя, твой молодой, бодрый, послушный орган. Подобное состояние за жизнь нисходило на него всего несколько раз. А в тот день – впервые, наверное, потому и запомнилось так крепко.
Миша набрал «02» и вполне испуганным голосом доложил «дяденьке милиционеру», что в Татарском дворе возле шестого дома дерутся пьяные. Дежурный, даже не переспрашивая, бодро ответил: «Высылаем наряд». Он свое дело знал: Татарский двор был общеизвестным местом мордобоя и других антиобщественных поступков. В длинной желтой пятиэтажке, тянувшейся вдоль Балакиревского переулка, жили еще с довоенных времен серьезные люди из Наркомата путей сообщения. А в бараках, отделявших двор от автохозяйства, обитали грузчики и ремонтники с Казанки. По праздникам работяги пьянствовали и дрались между собой. Насельники желтого дома смотрели на это отчужденно-печально, в особо кровавых случаях вызывая милицию.
Получив от дежурного обнадеживающий ответ, Миша покинул будку и, торопливо проходя мимо Равильки, бросил так, между прочим: мол, соседи узнали, что пионеры собираются спереть «инвалидку», и вызвали милицию. Татарчонок лишь презрительно ухмыльнулся: мол, с помощью такой дешевой дезинформации «бэшникам» не удастся заполучить вожделенную поездку на Бородинское поле. Свирельников буркнул «как знаешь» и скрылся в кустах сирени, оставшихся тут еще с давних, палисадных времен. «Органы» в те годы работали споро, да и отделение располагалось недалеко: через несколько минут во двор лихо въехал наряд на тарахтящем мотоцикле с коляской. Равиль бросился наутек. Милиционеры оглядели двор, пожали плечами и, решив, наверное, что драка умордобоилась сама собой, утарахтели.
Едва они скрылись, во двор, рыча и наполняя округу серыми, вонючими выхлопами, вполз самосвал. Отец выпрыгнул из кабины, дал сыну ласковый подзатыльник и обошел «инвалидку», оглядывая это транспортное ничтожество с превосходством человека, который водит огромный, могучий грузовик.
– Ругаться не будут? – спросил он.
– Нет! Она ничейная! – искренне соврал сын.
Дмитрий Матвеевич достал трос, подцепил «инвалидку» и кивнул: садись. Миша очень любил ездить с отцом, и тот, зная это, иногда баловал. В кабине пахло бензином и маслом, а все остальные машины сверху казались маленькими суетливыми подданными высокородного ЗИЛа. Оставляя на асфальте скрежещущий след, они потащили добычу к школьному двору. И надо же было случиться, чтобы навстречу им попался тот самый мотоциклетный наряд, решивший, наверное, на всякий случай, раз уж вызвали, пропатрулировать округу. Старшина махнул рукой, и самосвал покорно прижался к поребрику, а «инвалидка» осталась посреди неширокого Балакиревского переулка. Дмитрий Матвеевич спрыгнул на землю и посеменил с той показательной виноватостью, какая бывает только у нашкодивших собак, укоряемых хозяевами, и у проштрафившихся шоферов, остановленных стражами закона.
– Куда тащим? – спросил старшина.
– Вот, пионерам помогаю…
– А! – улыбнулись милиционеры, видимо, осведомленные о металлоломном мероприятии в районе.
Сзади засигналили машины, которым «инвалидка» перегородила путь. Старшина успокаивающе поднял руку.
– Давай за нами! – приказал он.
Они медленно подползли к перекрестку, свернули с Балакиревского в Переведеновский и вот так, предводительствуемые мотоциклетным нарядом, въехали в школьные ворота. А там, на спортплощадке, уже высилось несколько холмиков железного лома, из которых торчали шесты с табличками: 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б»… И так до самых десятых классов.
Навстречу грузовику, волокущему «инвалидку», с криками побежали ребята.
– Принимайте! – козырнул старшина, по-ковбойски привстав на сиденье.
Отец отсоединил трос, убрал его и, подмигнув сыну, полез в кабину: не хотел, очевидно, мешать триумфу. Самосвал взревел, осторожно сдал назад, объезжая «инвалидку», и выполз в Переведеновский, перегородив узенький переулок.
Дмитрий Матвеевич выправил машину и уехал в сторону Спартаковской площади.
Под ликующие крики друзей Миша сдал победный лом. «Инвалидку» подхватили множество рук, потащили, взгромоздили – и куча 3-го «Б» сразу стала выше остальных. Старший вожатый Илья торжественно поднял вверх Мишину руку, словно победителю-боксеру. Все поздравляли, а девчонки широко раскрытыми глазами смотрели на героического ломодобытчика, чей отец к тому же работает на огромном грузовике…
По традиции на следующий день к стенду у раздевалки должны были прикрепить красочное объявление о том, какой класс собрал больше всех и, следовательно, поедет на Бородинское поле. Однако утром Миша объявления не обнаружил, и у него появилось нехорошее предчувствие, а потом его прямо с урока вызвали к директору.
«Это за махаловку!» – успокаивал он сам себя, спускаясь с четвертого этажа на первый.
В те годы в школу ходили исключительно со сменной обувью, которую носили в сатиновом мешке на длинной стягивающей горловину веревке. Мешки оставляли внизу на вешалках. Поздней весной и ранней осенью, пока не подоспели пальто и курточки, раздевалка напоминала фантастический лес, где на никелированных ветвях висели сотни сатиновых мешков, похожих на сморщенные почерневшие груши.
Часто, усидевшись на уроках, мальчишки устраивали «махаловку», отдаленно напоминавшую рыцарский поединок из кинофильма «Крестоносцы»: портфель служил щитом, а мешок с тапочками – молотильным оружием, обрушивавшимся на соперника. Обычно махались, уже выйдя из школы, во дворе. Но накануне Миша схватился с Петькой Синякиным прямо в вестибюле, едва переобувшись. Именно в этот момент появился директор – суровый седой железнозубый Константин Федорович, всегда ходивший в одном и том же коричневом двубортном костюме с орденскими планками.
– Свирельников и Синякин! – Он знал по фамилиям всех учеников. – Отставить! Я с вами еще поговорю! Тоже мне – лыцари!
– А почему «лыцари»? – спросил любопытный Петька.
– Потом объясню! – сурово пообещал директор.
Но, едва войдя в кабинет, Миша понял, что «махаловка» тут ни при чем. Константин Федорович нервно шагал из угла в угол, курил папиросу, а в гостевом кресле, солидно развалившись, сидел тщедушный лысый гражданин в очках.
На его лацкане испуганный Свирельников сразу заметил красно-голубой флажочек и, даже не зная, что это за значок, детской интуицией понял: в нем-то, флажочке, вся и беда.
– Ну, Свирельников, рассказывай! – сурово потребовал директор.
– Что?
– Не догадываешься?
– Не-ет…
– Наглец! Рассказывай, как ты товарищей обманул и обокрал!
– Я не обманывал, – покраснел Миша.
– Па-азвольте, молодой человек! – вступил в разговор значкастый. – Вы сказали представителю 3-го «А» класса, что соседи запрещают вывозить инвалидную мотоколяску на металлолом. Не так ли?
– Я не говорил… – растерялся победитель соревнования, почувствовав в этом странном обращении на «вы» страшную опасность.
– Может быть, вам устроить очную ставку с Равилем?
– Не врать! – грозно проговорил директор, тяжело дыша. – Говорил или нет?
– Говорил… – кивнул Миша, знавший, что такое «очная ставка», по фильмам об угрозыске.
– Зачем?
Маленький и жалкий, Свирельников молчал и, глядя в пол, от безысходности просверливал пальцем дырку в кармане.
– А я скажу зачем! – с каким-то глумливым сочувствием покачал головой значкастый. – Чтобы присвоить себе то, что принадлежит другим. Разве ты нашел эту «инвалидку»?
Миша промолчал и лишь чуть заметно помотал головой: в этом внезапном переходе на «ты» сквозила еще большая угроза.
– Правильно! Первым нашел ее мой сын… Точнее сказать, первым догадался сдать в металлолом. Мы живем напротив. – Он объяснительно повернулся к директору, продолжавшему шагать из угла в угол. – Я специально опросил соседей – и никто не возражал. А ты, мальчик, сподличал! Ведь сподличал?
– Отвечай, когда тебя спрашивает депутат районного совета! – гаркнул директор. – Ты нашел первым?
– Нет, не я… – еле слышно промолвил Миша.
– Громче!
– Не я… – повторил он срывающимся голосом.
– А ты знаешь, мальчик, как это называется? – ласково спросил значкастый.
– Не знаю…
– Я тебе скажу: это называется подлый антиобщественный поступок! – торжественно объявил депутат. – А еще ты втянул в это преступление своего отца. Отца тоже надо бы вызвать! – Он повернулся к директору.
– Вызовем! – решительно пообещал Константин Федорович.
– Я для класса… – начал оправдываться Свирельников и заплакал. – Не надо отца… Он думал, она ничейная…
– Ну вот, и папу ты обманул! – всплеснул руками депутат. – А ведь ты лгун!
– Позор! – багровея лицом, зарокотал директор. – Стыд, Свирельников, и позор! Класс ты опозорил и подвел. А ты знаешь, что и без твоей «инвалидки» из младших классов вы больше всех собрали? Знаешь?
– Не-ет…
– Так вот знай! Но из-за твоего поступка на Бородинское поле поедет теперь 3-й «А». Иди! Постой! Телефон дома есть?
– Есть… – не посмел соврать Миша.
– Диктуй!
– Б-6-84-69…
Константин Федорович, скрипя самопиской, быстро чиркнул номер на листочке, а значкастый удовлетворенно кивнул.
На следующий день Свирельникова прорабатывали в классе. То, что его клеймили за антиобщественный поступок девчонки, еще недавно им восхищавшиеся, полбеды: эти всегда готовы шумно разочароваться во вчерашнем герое. Но потом к доске стали выходить друзья и, медленно подбирая какие-то чужие, газетные слова, обвинять его «в индивидуализме». А когда обличать вызвался лучший друг Петька Синякин, Свирельников не выдержал и заплакал. Учительница Галина Остаповна (по прозвищу «Гестаповна») наблюдала за всем этим со строгим умилением дирижера, который после долгих репетиций добился слаженности оркестрантов. Выслушав последнего проработчика, Гестаповна поднялась из-за стола во весь свой недамский рост, одернула плотно облегавший ее костюм «джерси» и громко объявила, что позор смывают не слезами, а делами, и предложила проголосовать за то, чтобы не принимать злоумышленника в пионеры. Руки взметнули все, кроме Нади Изгубиной, в которую Миша был тогда секретно влюблен.