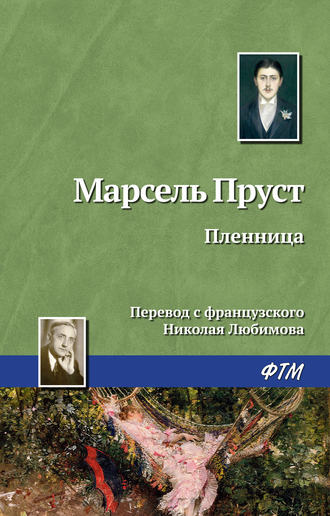
Марсель Пруст
Пленница
Я давал Альбертине обещание, что если не поеду с ней, то примусь за работу. Но на другой день, точно воспользовавшись нашим сном, наш дом каким-то чудом совершал путешествие, и я просыпался в другую погоду, в другом климате. В тот момент, когда вы причаливаете к новой стране и начинаете приспосабливаться к ее условиям, вам не до работы. И так каждый день становился для меня еще одной страной. Как мне было распознать мою лень под разными формами, в которые она облекалась? В дни, когда, как мне говорили, дождь зарядил, только сидение дома, вокруг которого ровно и однообразно стучали капли, имело свою необъяснимую прелесть, сулило успокоительную тишину, увлекательность морского путешествия; в другой раз, ясным утром, остаться лежать на кровати значило позволить теням кружиться вокруг меня, как вокруг дерева. А иной раз, когда при первом ударе колоколов соседнего монастыря, редких, как утренние богомолки, когда темное небо едва-едва белело от изменчивых снеговых облаков, таявших и разгонявшихся теплым ветром, я предвидел, что день будет бурный, безалаберный, но приятный, когда с крыш, мокрых от перемежающихся ливней, которые сушит ветер или солнечные лучи, стекают, воркуя, потоки воды, когда в промежутках между дождями крыши лоснятся под неверным солнцем, расцвечивающим всеми цветами радуги их переливчатый шифер; день, полный бесчисленных перемен погоды, вихрей, гроз, так что ленивец не считает, что это для него потерянный день, ибо его внимание было привлечено деятельностью, но только проявлявшейся для него не на свежем воздухе, а – в известном смысле – у него в доме; день, похожий на день восстания или войны, который не кажется пустым школьнику, не пошедшему в класс, потому что, когда он находится около Дворца Правосудия или читает газеты, у него создается иллюзия, что, хотя он и не выполнил своих обязанностей, зато в происходящих событиях нашел пищу для ума и оправдание своему шалопайству; день, наконец, подобный тому, в который в нашей жизни происходит какое-нибудь событие чрезвычайной важности и тот, кто никогда ничего не делал, надеется, если только все кончится благополучно, извлечь из него привычку к труду; например, утром он идет на дуэль, которая должна состояться на необыкновенно опасных условиях, и вдруг перед ним явственно обозначается в тот момент, когда он, может быть, лишится жизни, ее цена: он мог бы воспользоваться жизнью, чтобы стать писателем, наконец, просто чтобы получать от нее удовольствие, а он не сумел ничего от нее взять. «Если меня не убьют, – говорит он себе, – я в ту же минуту примусь за дело, и как же я буду развлекаться!» Жизнь, в самом деле, внезапно приобрела для него громадную ценность, ибо он представил себе, что жизнь может дать много, а не ту малость, какую он ежедневно из нее выколачивал. Теперь он видит ее такой, о какой он мечтает, а не такой, с какой опыт научил его кое-как расквитываться, то есть весьма жалкой. Жизнь сразу полнится трудом, путешествиями, поездками в горы, всякими превосходными вещами, о которых он думает, что роковой исход дуэли сделает их невозможными, забывая о том, что они были для него невозможны и до дуэли в силу дурных привычек, которые не прекратили бы в нем существования без всякой дуэли. Он возвращается с поединка, не будучи даже ранен. И наталкивается на те же препятствия удовольствиям, поездкам, путешествиям, всему, чего навсегда лишила бы его смерть, а он только что так этого боялся! Ведь для всего этого нужно жить полной жизнью! Что же касается труда, – исключительные обстоятельства усиливают то, что жило в человеке до них: в трудолюбивом – трудолюбие, в бездельнике – лень, – то он избавляет себя от него.
Я поступал так же, как он, и как поступал всегда, давным-давно приняв решение стать писателем, но только мне все казалось, что это решение я принял вчера, и смотрел на каждый новый день как на еще не наступивший. Я проводил таким же образом, ничего не делая, день проливней и просветов и давал себе слово начать работу завтра. В безоблачный день я чувствовал себя по-другому; золотой звон колоколов не содержал в себе, словно мед, только свет – он содержал в себе ощущение света и приторный вкус варенья, потому что в Комбре звон, как оса, часто подолгу не унимался над нашим столом, с которого уже убрали. В такой ослепительно яркий солнечный день лежать все время с закрытыми глазами – это было позволено, это было обычно, полезно для здоровья, забавно, по сезону: все равно что от жары закрывать шторы. В один из таких дней, в начале моего второго приезда в Бальбек, я слушал скрипичный концерт, звуки которого до меня долетали сквозь голубоватые всплески прибоя. Насколько же в этот день Альбертина была мне ближе! В такие дни на поверхности колокольного звона, отбивавшего часы, возникала пластинка, такая новенькая, так плотно лежавшая в мокроте или в свету, точно это был перевод для слепых или, если хотите, перевод на язык музыки очарования дождя, очарования солнца. В такие минуты, лежа с закрытыми глазами в кровати, я говорил себе, что транспонировать можно все и что только слышимая вселенная может видоизменяться, как и всякая другая. Изо дня в день лениво покачиваясь в лодке и все время видя перед собой новые волшебные воспоминания, которых я не выбирал, которые только что были от меня скрыты и которые моя память развертывала передо мной одно за другим без моей подсказки, я лениво продолжал прогулку по ровному пространству в солнечном свете.
Утренние концерты в Бальбеке не были далеким прошлым. И тем не менее в ту относительно недавнюю пору я еще не очень интересовался Альбертиной. Даже в первые дни после приезда я не знал, что она в Бальбеке. Кто же это мне сказал? Ах да, Эме! Был такой же солнечный день, как сегодня. Славный Эме! Он был рад меня видеть. Но Альбертину он не любит. Не могут же ее любить все. Да, это он сообщил мне, что она в Бальбеке. Как же это он узнал? Ах да, он ее встретил и нашел, что она – дурного пошиба. В этот момент к рассказу Эме причалило другое лицо, не то, которое он описывал, и моя мысль, до сих пор с улыбкой плававшая в водах счастья, вдруг взорвалась, как бы наскочив на опасную невидимую мину, коварно установленную в этом месте моей памяти. Он сказал, что он ее встретил, что она дурного пошиба. Что он хотел этим сказать? Я понял, что вульгарна, так как, чтобы успеть до него высказать противоположное суждение, я заявил, что в ней есть тонкость обхождения. Да нет, может быть, он хотел сказать, что она – гоморритянка. Она была с подругой; может быть, они шли в обнимку, смотрели на других женщин, которые действительно были того «пошиба», какого я никогда не замечал у Альбертины. Кто была ее подруга? Где Эме повстречался с этой отталкивающей Альбертиной? Я старался припомнить, что мне дословно говорил Эме, – я хотел убедиться, имеет ли это отношение к тому, что я себе представлял, или он имел в виду просто манеры. Но я зря его расспрашивал: особа, о которой шла речь, и особа, о которой было что вспомнить, – увы! – это было одно и то же лицо, это был я, мгновенно раздваивавшийся, но ничего нового не сообщавший. Я мог без конца задавать вопросы – я же на них и отвечал, я ничего больше не узнавал. Я уже не думал о мадмуазель Вентейль. Вызванный новым подозрением, приступ ревности был тоже новым, или, вернее, он был продолжением, развитием подозрения; у него была все та же сцена, но только не Монжувен, а дорога, на которой Эме встретил Альбертину; в качестве предметов – подруги, та или другая из которых могла быть в этот день с Альбертиной. Какая-нибудь Элизабет или, пожалуй, те две девушки, на которых Альбертина смотрела в зеркало в казино и делала при этом вид, что она их не замечает. Она безусловно была в каких-то отношениях с ними, а еще с Эстер, двоюродной сестрой Блока. Этих отношений, если бы мне кто-то о них рассказал, было бы достаточно, чтобы почти совсем раздавить меня, но так как я их выдумал, то мне пришлось, чтобы смягчить боль, прибавить к моим подозрениям основательное количество неуверенности. Бывает, что под предлогом подозрений человек ежедневно поглощает в громадных дозах обманувшее его предположение, крохотная частица которого может оказаться смертельной, если ввести в организм действительно ядовитое слово. И, без сомнения, с этой целью, повинуясь инстинкту самосохранения, тот же ревнивец не задумываясь нагромождает чудовищные подозрения вокруг невинных фактов, с тем чтобы при первом же доказательстве, которое ему представят, отвязаться от них перед подавляющей очевидностью. Любовь – болезнь неизлечимая, как диатез или ревматизм, которые дают передышку с тем, чтобы уступить место головным болям, какие бывают у эпилептиков. Когда чувство ревности затихало, я упрекал Альбертину в том, что она недостаточно со мной нежна, что, быть может, она с Андре смеется надо мной. Я с ужасом представлял себе, что она подумает, если Андре перескажет ей наши разговоры; будущее рисовалось мне в самом мрачном свете. Мне было грустно, пока новое подозрение не устремляло меня на другие поиски или если, напротив, нежность Альбертины не обесценивала мое счастье. Кто же эта девушка? Надо написать Эме, постараться увидеть ее, и тогда, разговаривая с Альбертиной, исповедуя ее, я бы выяснил все. А пока, уверенный в том, что это двоюродная сестра Блока, я попросил у него – причем ему было совершенно непонятно, с какой целью, – показать мне ее фотографию или, еще лучше, познакомить меня с ней.
Сколько людей, городов, дорог мы жаждем изучить, движимые ревностью! Ревность – это жажда знания, благодаря которой мы в самых разных местах получаем всевозможные сведения, но только не то, которого добиваемся. Подозрение возникает неожиданно: вдруг вспоминаешь неясную по смыслу фразу, алиби, данное не без умысла. Между тем у вас не было новой встречи, но есть ревность, возникающая потом, зарождающаяся после того, как вы расстались, ревность задним числом. Быть может, привычка хранить в себе иные желания: желание полюбить девушку из высшего света, вроде тех, каких я видел из окна, когда они шли с гувернантками, в частности – ту, о которой мне говорил Сен-Лу и которая посещала дом свиданий, желание любить смазливых горничных, в частности – горничную г-жи Пютбю, желание поехать в деревню в начале весны полюбоваться боярышником, яблонями в цвету, желание любоваться грозами, желание поехать в Венецию, желание приняться за работу, желание жить как все, быть может, привычка хранить в себе, не утоляя, все эти желания, довольствуясь обещанием, данным самому себе, – не забыть как-нибудь их исполнить, – быть может, многолетняя привычка к постоянной отсрочке, к тому, что де Шарлю, со свойственной ему язвительностью, называл «отлагательством», – приобрела во мне столь всеобъемлющий характер, что под ее власть подпали и мои ревнивые подозрения, и, велев мне запомнить, что как-нибудь я непременно объяснюсь с Альбертиной по поводу девушки (а может быть, девушек; эта часть моего рассказа – часть неясная, стершаяся, иначе говоря, не поддающаяся прочтению на страницах моей памяти), с которой (или с которыми) Эме встретил ее, именно эта привычка заставила меня растянуть объяснение. Вечером я не говорил об этом с моей подружкой из боязни показаться ей ревнивым и рассердить ее.
Тем не менее, когда, на другой день, Блок прислал мне фотографию своей двоюродной сестры Эстер, я поспешил передать ее Эме. И в ту же минуту вспомнил, что утром Альбертина отказала мне в удовольствии, которое, в самом деле, могло бы быть для нее утомительным. Так что же, может быть, она приберегала его для кого-то другого? Для кого? Ревности нет конца, ибо если даже любимое существо, допустим – умершее, уже не может вызывать его своими поступками, воспоминания о любом событии вдруг начинают производить в нашей памяти работу – производить так, как будто это не воспоминания, а сами события, – воспоминания, которые мы до сих пор не просвечивали, которые представлялись нам незначительными и для которых достаточно наших размышлений, без какого-либо толчка извне, чтобы придать им новый, зловещий смысл. Чтобы думать, не обязательно быть вдвоем – достаточно быть одному в комнате, перед вами все равно всплывут новые измены вашей возлюбленной, хотя бы ее уже не было в живых. И не следует опасаться в любви, как и в обыденной жизни, что будущее – и даже прошлое – часто осуществляется только после будущего и мы не говорим только о прошлом, о котором мы узнаем задним числом, – мы говорим о том прошлом, которое мы издавна хранили в себе и которое мы вдруг научились читать.
Как бы то ни было, к вечеру я чувствовал себя счастливым при мысли, что недалек тот час, когда я обрету успокоение в присутствии Альбертины. К несчастью, наступивший вечер был одним из тех вечеров, который не принес мне умиротворения, вечер, когда поцелуй Альбертины при расставании, совсем не похожий на обычные ее поцелуи, не успокоил меня, как прежде поцелуй мамы в те дни, когда она сердилась на меня и я не смел ее позвать, а вместе с тем чувствовал, что не засну. Этот вечер был одним из тех, когда Альбертина обдумывала на завтра какой-то план втайне от меня. Если б она мне его поверила, я вложил бы в его осуществление столько пыла, сколько никто, кроме Альбертины, не мог бы во мне возбудить. Но Альбертина ничего мне о своем замысле не говорила, да ей и не надо было ничего говорить; когда же она, вернувшись, остановилась на пороге моей комнаты, еще не сняв шляпы и шарфа, я уже видел неведомое мне, упорное, страстное, неукротимое желание. Часто это бывало в такие вечера, когда я ждал ее возвращения, думая о ней особенно нежно, когда мне казалось, что повисну у нее на шее от радости. Увы! Что по сравнению с этими разочарованиями те, что вызывали у меня в душе родители, которые были со мной холодны или сердиты на меня, как раз когда я мчался к ним, преисполненный самых нежных чувств! Страдания, испытываемые влюбленными, находятся не на поверхности, они гораздо мучительнее, они залегают в более глубоком тайнике души.
В тот вечер, когда у Альбертины созрел план, ей все же пришлось сказать мне о нем несколько слов; я сразу понял, что завтра она собирается к г-же Вердюрен. Сама по себе г-жа Вердюрен не вызывала во мне неприязни, но, конечно, там была назначена встреча, там Альбертину ожидало удовольствие. Иначе этот визит не был бы для нее так важен. Она бы не повторила, что ей туда не хочется. Я в своей жизни проделал путь, обратный тому, какой проделывают народы, которые начинают пользоваться фонетической письменностью, лишь изучив буквы как ряд символов; я же в течение ряда лет искал реальную жизнь и мысль людей в их прямых добровольных высказываниях и по их вине придавал значение свидетельствам, которые не являлись рациональным и аналитическим выражением истины; слова осведомляли меня, только если на лице у смущенного человека проступал румянец или же если внезапно воцарялось молчание. Какое-нибудь наречие (например, употребленное маркизом де Говожо, когда он думал, что я – «писатель», и когда, еще не перекинувшись со мной двумя словами, рассказывая о своем визите к Вердюренам, он повернулся ко мне и сказал: «У него это было совершенно как у Борелли»), выбившееся от удара при нечаянном, иногда опасном сближении двух идей, которые собеседник не выразил, но которые при помощи усвоенных мною методов анализа и электролиза я мог добыть, говорило мне больше, чем целая речь. Рассказы Альбертины порой представляли собой драгоценные амальгамы, которые я старался «подвергать изучению», чтобы превратить их в ясные мысли.
Кстати, для влюбленного страшнее многого другого, если отдельные факты – которые из всех многочисленных средств могли бы раскрыть только опыт и шпионаж – установить трудно, истину же в целом, напротив, легко прощупать или хотя бы предугадать. Я часто замечал в Бальбеке ее взгляд, внезапно приковавшийся к шедшим навстречу девушкам, взгляд, похожий на прикосновение; потом она мне говорила: «Не пригласить ли их? У меня язык чешется их изругать». А потом, после того, как она, конечно, прочла мои мысли, – ни одной просьбы о приглашении кого-либо, ни единого слова, даже поворота головы, взгляд – невидящий и молчаливый, рассеянный и бездумный, в такой же мере изобличающий, как прежде изобличала его намагниченность. Таким образом, мне не в чем было ее упрекать, не для чего расспрашивать о подробностях, о которых она сама же рассказала, таких мелких, таких незначительных, что я держал их в памяти только ради удовольствия «копаться в мелочах». Теперь мне скорей надо было спрашивать не «Почему вы посмотрели на прохожую?», а «Почему вы на нее не посмотрели?». И, однако, я отлично знал, или, во всяком случае, мог бы знать при желании, если б не верил словам Альбертины, все, что они означают, все, что они доказывают, подобно тому как я нередко замечал противоречие в ее рассказе лишь много спустя после того, как она уходила, противоречие, из-за которого я не спал всю ночь, о котором я не осмеливался больше с ней заговаривать, но которое время от времени удостаивало мою память своими посещениями. Даже при ее беглом взгляде или повороте головы на пляже в Бальбеке или на парижских улицах я иной раз спрашивал себя, кто эта особа: только ли объект желаний в тот момент, когда она проходила, или старинная знакомая, или, наконец, девушка, с которой она только что перемолвилась, и, когда я дознавался, это вызывало крайнее мое изумление – так, если знать Альбертину, была она далека от круга ее знакомых. Но современная Гоморра – это головоломка, части которой появляются, откуда их меньше всего ждешь. Например, однажды в Ривбеле, на большом обеде я случайно знал из приглашенных женщин – по крайней мере, по именам – десять совершенно друг на друга не похожих и тем не менее прекрасно спевшихся; такого однородного общества я еще не видывал, хотя оно было до крайности разношерстное.
Но вернемся к проходившим мимо нас девушкам: Альбертина никогда не смотрела на пожилую женщину или на старика так пристально, как на них, или, вернее, с такой сдержанностью: она как будто их не замечала. Обманутые мужья, которые ничего не знают, тем не менее знают все. Но, чтобы устроить сцену ревности, надо иметь в руках «дело», снабженное «документами» с возможно более ощутимыми доказательствами. Далее: если ревность помогает нам обнаружить в любимой женщине склонность ко лжи, то она стократ усиливает эту склонность, как только для женщины открывается, что мы ревнивы. Она лжет (в таком количестве, в каком она никогда прежде не лгала) то ли из жалости к нам, то ли от страха, то ли потому, что она инстинктивно прячется тем глубже, чем яростнее мы ее преследуем. Конечно, у нее есть романы, которые на первых порах, по мнению женщины легкого поведения, в глазах любящего человека должны повышать ее цену; но сколько таких, у которых отношения с мужчиной делятся на два резко отличающихся один от другого периода! В течение первого периода женщина почти свободно, с небольшими смягчениями, говорит о том, как она любит удовольствия, о своих прежних любовных похождениях, обо всем, что она будет с пеной у рта отрицать в разговоре с тем же самым мужчиной, в котором она почувствовала ревнивца, следящего за ней. Иной жалеет, что время первых признаний миновало, хотя воспоминание о них его все-таки жалит. Сделай она ему еще несколько признаний, она сама открыла бы тайну почти всех своих грехов, которые он каждый день тщетно пытался обнаружить. А какую это доказывает с ее стороны откровенность, какое доверие, какую дружественность! Если она не может жить, не обманывая его, зато, по крайней мере, она обманывает его как друга, рассказывая ему о своих удовольствиях, приобщая его к ним. И он жалеет, что начальный период их жизни уже чуть виден, что продолжение оборвало этот период, превратив их отношения во что-то невыносимо тяжелое, в нечто такое, за чем должен бы следовать разрыв, и в иных случаях разрыв действительно неизбежен, а в иных – на него все-таки не решаются.
Иногда же идеографическое письмо Альбертины, в котором я расшифровывал ложь, надо было просто-напросто понимать наоборот. В тот вечер она с небрежным видом обронила сообщение – так, чтобы оно прошло почти незамеченным: «Возможно, завтра я съезжу к Вердюренам, но только наверное сказать не могу: особого желания у меня нет». Детская анаграмма признания: «Завтра я поеду к Вердюренам, непременно поеду, для меня это очень важно». Внешнее колебание означало твердую волю и имело целью, сообщая мне о поездке, уменьшить ее важность. Когда речь шла о неотменяемых решениях, в тоне Альбертины неизменно слышалось сомнение. Мое решение было не менее твердым: устроить так, чтобы поездка к г-же Вердюрен не состоялась. Зачастую ревность есть не что иное, как потребность быть деспотом в сердечных делах. Я уверен, что унаследовал от отца внезапное, ничем не оправданное желание угрожать самым дорогим мне женщинам, убаюканным моей любовью к ним, – угрожать с полной гарантией, что сейчас я выведу их на чистую воду. Когда я убедился, что Альбертина без моего ведома, втайне от меня, обдумала план поездки, я, готовый, если только она осведомила бы меня обо всем, сделать все на свете, чтобы облегчить для нее эту поездку, чтобы поездка была ей особенно приятна, небрежным тоном сказал – нарочно, чтобы огорчить ее, – что я как раз завтра собирался выехать на прогулку. Пытаясь скрыть волнение под притворным равнодушием, я стал предлагать Альбертине другие цели для прогулки, исключавшие возможность поездки к Вердюренам. Но она опрокидывала все мои замыслы. В ней жила электрическая сила воли к сопротивлению, и эта сила их отбрасывала; я видел в глазах Альбертины искры. Да и к чему мне было разгадывать, что в данный момент говорят ее глаза? Как же я столько времени не замечал, что глаза Альбертины принадлежат к числу тех (даже у людей заурядных), которые, кажется, сделаны из нескольких кусочков, потому что эти женщины сегодня желают побывать – и скрывают это желание – во многих местах? Глаза, всегда лживо неподвижные и бесстрастные, а на самом деле динамичные, способные пробежать несколько метров и даже километров, чтобы оказаться на месте свидания ожидаемого, неизбежного; глаза, которые не так ярко светятся, улыбаясь при мысли о прельщающем их удовольствии, как от грусти и уныния при мысли, что свидание может не состояться… Вот-вот эти женщины у вас в руках – глядь: убежали. Чтобы понять, какие чувства они вызывают и каких не вызывают даже те, что красивее их, надо иметь в виду, что они вовсе не неподвижны, что они вечно в движении, и еще надо прибавить к их характеру одну черту в физике, соответствующую понятию быстроты.
Если вы путаете распорядок их дня, они вам откроют удовольствие, которое до того времени они от вас скрывали: «Мне так хотелось в пять часов выпить чашку чаю с такой-то женщиной, которую я люблю!» И вот если, полгода спустя, вы наконец познакомитесь с этой женщиной, то узнаете, что девушка, которой вы спутали карты и которая попалась в ловушку, нарассказала вам – чтобы от вас отвязаться – о чашке чаю, который она будто бы пила с любимой женщиной каждый день там, где вы ее ни разу не видели, – вы узнаете, что она никогда не принимала ее у себя, что они ни разу не пили вместе чай, что девушка говорила, будто ее держат в тисках, и держите ее именно вы. Итак, женщина, с которой она, по ее признанию, собиралась пить чай, к которой она умоляла вас отпустить ее пить чай, которая в трудную минуту играла для нее роль ширмы, – это была не она, это была другая, это было совсем другое дело! Другое дело, но какое? Другая, но кто?
Увы! Глаза, составленные из кусочков, грустные и дальнозоркие, быть может, помогли бы измерить расстояние, но направления они не указывают. Полю возможностей нет конца-края, и если случайно перед нами предстанет реальность, то она будет так далека от возможностей, что, ошеломленные, стремясь пробить внезапно выросшую стену, мы упадем навзничь. Движение и бегство не обязательны – важно, что мы до них дошли индуктивным методом. Она обещала нам написать письмо – мы спокойны, мы уже разлюбили. Письмо не пришло, ни один почтальон нам его не доставил – «что случилось?», вновь рождаются тревога и любовь. Такие-то вот существа главным образом, к нашему несчастью, и влюбляют нас в себя. После каждой новой тревоги, которую мы из-за них испытываем, их личность что-то утрачивает в наших глазах. Полагая, что мы любим наперекор нашей воле, мы покорно страдаем; мы замечаем, что наша любовь – это функция нашей грусти, что наша любовь – это, быть может, и есть наша грусть и что маловероятный объект – черноволосая девушка. Но в конце-то концов именно такие девушки имеют успех у мужчин.
Чаще всего объектом любви является тело, если в основании чувства, страха утратить его, неуверенности в том, что удастся его обрести, находится оно. Такого рода тревога сращена с телом. Она наделяет его качеством более высоким, чем даже красота, и это является одной из причин, почему некоторые мужчины равнодушны к красавицам и полны страстной любви к тем, что нам кажутся уродливыми. Этих женщин, этих беглянок снабжают крыльями их натура и наше беспокойство. Даже когда они с нами, их взгляд, кажется, говорит, что они вот сейчас улетят. Доказательством того, что они красивы красотою сверхмерной, которую придают им крылья, служит нам то, что перед нами очень часто одна и та же женщина предстает то без крыльев, то крылатой. Мы так боимся ее утратить, что забываем о других. Уверенные в том, что она у нас под охраной, мы сравниваем ее с другими и отдаем предпочтение им. Волнения и чувство уверенности могут меняться каждую неделю, вот почему на протяжении одной недели женщина удостоверяется в том, что мы жертвуем ради нее всем, что пленяло нас прежде, а на протяжении следующей – в том, что мы жертвуем ею, и так может длиться очень долго. Было бы странно, если б мы не знали (если б нам не подсказывал опыт), что каждый мужчина по крайней мере раз в жизни переставал любить женщину, забывал о ней из-за сущей безделицы, что в нас продолжает жить женщина, когда ее уже нет или когда ее еще нет, – женщина, доступная внутреннему нашему зрению. И, разумеется, когда мы говорим: беглянки, это в равной мере относится к узницам, к пленницам, которые представляются нам потерянными навсегда. Мужчина ненавидит посредниц, потому что они способствуют бегству, придают особую заманчивость соблазну, но если мужчина любит женщину в заточении, то он упорно ищет посредниц, чтобы те помогли женщине бежать из тюрьмы и привести ее к нам. Так как союз с похищенными женщинами менее продолжителен, чем с другими, то страх при мысли, что мы ее не добьемся, или беспокойство при мысли, что они от нас убегут, и есть вся наша любовь, и, как только их доставят к мужу и вынудят действовать на их обычной сцене, излечившиеся от искушения покинуть нас, одним словом, отрезанные от нашей любви, какова бы она ни была, они становятся всего лишь такими, каковы они есть, иначе говоря – почти ничем, и о них, столь долгожданных, скоро забывает тот, кто так боялся, что они забудут его.
Я сказал: «Как же я не догадался?» Но разве я не догадывался с первого же дня в Бальбеке? Разве я не угадал в Альбертине одну из девушек, под телесной оболочкой которых прячется больше существ, чем карт в колоде, чем в соборе или в театре, куда еще не впускают… какое там! Больше, чем в огромной толпе, где одни поминутно сменяют других? И не только многочисленных существ, но и желаний этих существ, их сладострастных воспоминаний, их беспокойных поисков. В Бальбеке я не был встревожен: тогда я еще не предполагал, что направляюсь по ложному следу. Но все же я ощущал в Альбертине существо, полное до краев, – полное желаний, полное сладострастных воспоминаний. И теперь, когда она мне сказала: «Мадмуазель Вентейль», мне захотелось сбросить с нее платье, не для того, чтобы посмотреть на ее тело, а для того, чтобы сквозь ее тело увидеть все записи ее воспоминаний и будущих пылких встреч.
Как внезапно происшествия, по всей вероятности крайне незначительные, приобретают огромную ценность, когда любимое существо (или такое, которому недостает только этой двойственности, чтобы мы его полюбили) скрывает их от нас! Само по себе страдание не всегда вызывает у нас чувство любви или ненависти к тому, кто его причиняет: до хирурга, делающего больно, нам дела нет. Но мы бываем поражены, если вдруг почувствуем, что женщина, которая еще так недавно сказала нам, что мы для нее все, хотя она для нас всем не была, женщина, которую нам было приятно видеть, целовать, держать на коленях, – если мы вдруг почувствуем по ее резкому сопротивлению, что она уже нам не принадлежит. Тогда разочарование в иных случаях пробуждает в нас забытое воспоминание о былой тоске, о которой мы знаем, что вызвала ее не эта женщина, но целый строй измен других – измен, проходящих в нашем былом. Ну так где же взять мужества, чтобы желать жить, как сделать такое движение, чтобы предохранить себя от смерти в мире, где любовь зарождается от лжи и сводится к потребности убедиться в том, что наши страдания утолены существом, заставившим нас страдать? Чтобы выйти из угнетенного состояния, в каком мы находимся, когда ложь вылезает наружу или при сопротивлении, мы можем прибегнуть к печальному средству – начать действовать помимо нее, к помощи существ, теснее связанных с ее жизнью, чем мы, начать действовать против той, что нам сопротивляется и лжет, перехитрить самих себя, возбудить в себе ненависть. Страдание, причиняемое любовью, неумолимо к больному, и он ищет в изменении позиции обманчивого благополучия. Увы! В способах действия у нас недостатка нет. Любовь, которую вызвало к жизни только беспокойство, потому ужасна, что мы без конца пережевываем в нашей клетке пустые слова; я не считаю тех редких случаев, когда существа, которые мы в них любим, с точки зрения физической нравятся нам в совокупности, ибо это не наш свободный выбор – это случайная минута тоски (минута, продолжающаяся бесконечно из-за нашей слабохарактерности, которая ежевечерне проделывает опыты и утихает благодаря успокоительным средствам) выбрала их для нас.
Разумеется, моя любовь к Альбертине была не бессознательной любовью, до которой можно докатиться из-за слабоволия; правда, моя любовь была не только платонической: она утоляла позывы моей плоти, но она же отвечала и духовным моим запросам. Впрочем, с этой стороны я ее переоценивал. Альбертина не могла бы мне сообщить ничего из области, занимавшей мой ум, – она могла лишь произнести слова, которые возбуждали во мне сомнение по поводу ее действий; я старался припомнить, что именно она сказала, с каким видом, в какой момент, в ответ на чьи слова, возобновить в памяти всю сцену, весь диалог со мной, когда именно ей захотелось поехать к Вердюренам, после какого моего слова ее лицо приняло сердитое выражение. Речь шла об одном из важнейших для меня событий, а я не мог найти в себе силы, чтобы восстановить истину, воссоздать атмосферу и колорит. Разумеется, тревога, дойдя до той степени, когда она становится невыносимой, иной раз утихает в один вечер. Любимая девушка, чья истинная природа надолго погружала меня в раздумье, должна ехать на вечеринку, мы приглашены оба, моя подружка смотрит только на меня, говорит только со мной, я ее увожу, тревога моя рассеивается, и меня охватывает чувство такого полного, восстанавливающего силы покоя, который обволакивает иногда спящего крепким сном после долгого перехода. И, понятно, такой отдых стоит того, чтобы за него заплатить недешево. Но не проще ли не покупать тревогу, да еще по такой дорогой цене? Но ведь мы же отлично знаем, что, как бы ни были глубоки передышки, тревога пересилит их. Часто тревога вновь овладевает нами из-за одной фразы, цель которой была – успокоить нас. Любящая женщина не может себе представить, как велики требования нашей ревности и ослепленность нашего доверия. Если она, без всякой задней мысли, клянется, что такой-то мужчина – ее друг, и только, она переворачивает нам всю душу, сообщая, – чего мы не подозревали, – что он ее друг. Когда она, чтобы доказать, насколько она с нами откровенна, рассказывает, как они сегодня вдвоем пили чай, при каждом ее слове невидимая, нежданная тревога принимает для нас все более плотные очертания. Женщина сознается, что он хотел, чтобы она была его любовницей, и мы испытываем страшные муки при мысли о том, как она могла спокойно выслушивать его предложения. Она их отклонила, – уверяет она. Но мы тотчас же, думая об ее рассказе, спрашиваем себя: правда ли она ему отказала? Говорила она о многом, но в ее речах отсутствовала необходимая логическая связь, которая в большей мере, чем факты, служит признаком истины. И потом, она с такой ужасной презрительной интонацией произносила эти слова: «Я ему сказала: „Нет! Категорически“, какая появляется у женщин из всех слоев общества, когда они лгут. А между тем нужно ведь благодарить за отказ, своей ласковостью подвигнуть ее и в будущем на столь жестокие признания. Самое большее, если мы позволим себе вопрос: „Но если он уже сделал вам предложение быть его любовницей, то почему же вы согласились пить с ним чай?“ – „А чтобы он не сердился и не говорил, что я с ним недостаточно мила“. И мы даже не смеем сказать ей, что своим отказом она, быть может, доставила бы больше удовольствия нам, чем ему – совместным чаепитием.







