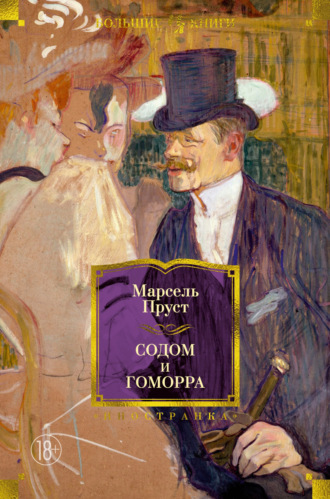
Марсель Пруст
Содом и Гоморра
Marcel Proust
SODOME ET GOMORRHE
© Е. В. Баевская, перевод, 2024
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®
От переводчика
Санчо Пансы и Дон-Кихоты
И увы, содомские Лоты
Смертоносный пробуют сок,
Афродиты возникли из пены,
Шевельнулись в стекле Елены,
И безумья близится срок.
Анна Ахматова. Поэма без героя
Книга «Содом и Гоморра» расположена в самом центре романа «В поисках потерянного времени». До нее – три первые книги «Поисков», после нее – три последние. Мы еще помним, с чего все начиналось: с двух дорог, ведущих в разные стороны. Мы еще не догадываемся, чем все закончится, а закончится тем, что сторона Сванна и сторона Германтов сольются воедино. В «Содоме», кроме отсылок к предыдущим книгам романа, есть уже предвестья перемен, которые принесет с собой обретенное время, когда сойдутся обе эти дороги.
Условно говоря, первый том – это детство рассказчика, второй – это его отрочество, третий – юность. Дальше начинается прекрасная и мучительная взрослая жизнь, и вот в четвертом томе рассказчику открывается пугающее однообразие такого, казалось бы, пестрого и разнообразного мира. В середине этой центральной книги рассказчик объясняет Альбертине: «…если рассматривать мир как театр, то в этом театре декораций меньше, чем актеров, а актеров меньше, чем „положений“». Одни и те же актеры в одних и тех же условных декорациях разыгрывают самые разные ситуации перед Творцом, он же демиург, он же драматург, он же автор романа. «Мир как театр», theatrum mundi, как известно, – старинное понятие, популярное еще в искусстве барокко и дожившее до наших дней. Так, Шекспир устами своего персонажа говорит:
Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль[1].
А в двадцатом веке, совсем незадолго до Пруста, Николай Гумилев говорит примерно о том же:
Все мы – смешные актеры
В театре Господа Бога[2].
И главный герой романа Марсель (он же рассказчик) очень кстати растолковывает Альбертине это понятие: ведь в дальнейших событиях «Содома» один и тот же г-н де Шарлюс играет то деспота и злодея, то изнывающего от горя влюбленного, то изысканного и тонко чувствующего артиста и эстета, то смехотворного и истеричного старикашку. Разные роли играют и Морель (всецело преданный искусству музыкант и циничный прохиндей), и Альбертина (добрая, милая, искренняя лгунья), и безымянная подруга мадмуазель Вентейль (бесстыжая развратница и терпеливая труженица, год за годом упорно восстанавливающая по неразборчивым черновикам музыкальное наследие Вентейля).
У самого рассказчика ролей вроде бы нет, он – создатель, зритель, истолкователь, а не актер. Но есть образ, в котором он себя узнаёт и с которым сам себя сравнивает. Это образ мифологического певца Орфея. И по этому образу в Содоме и Гоморре можно узнать мрачное царство Аида, куда спускается Орфей за своей возлюбленной Эвридикой и выводит ее на свет – но лишь затем, чтобы в дальнейшем навсегда потерять и оплакать.
Так сложилось, что два последних года в жизни Пруста были почти полностью отданы «Содому и Гоморре». Он провел 1921-й и начало 1922 года в основном над правкой корректур второй части «Содома». Больше всего он боялся, что не доживет до публикации этого тома, а о том, чтобы подержать в руках остальные три, уже и не мечтал. Откуда, кстати, взялись еще два тома, возникшие между «Содомом» и «Обретенным временем»? Дело в том, что, выделившись в отдельный том, «Содом» в свою очередь стал разрастаться. В нем оказались целых четыре части. И тогда автор решил, что 3-я и 4-я части могут стать отдельными томами; мы их знаем сегодня под заглавиями «Пленница» и «Исчезновение Альбертины». Последние три тома романа останутся после смерти автора хоть написанными и перепечатанными, но не выверенными и не подготовленными к типографскому набору. Опубликованы они будут позже, трудами брата писателя и его друзей.
Работа над «Содомом» была в основном завершена еще в 1916 году, тогда же Пруст нашел заглавие. Первая, коротенькая, часть была опубликована в издательстве NRF в апреле 1921 года под одной обложкой с последней частью «Стороны Германтов», но работа над второй частью продолжалась: до весны 1922-го автор непрерывно правил корректуры и вписывал в них добавления.
В мае 1922 года вышла наконец вторая часть. Изначально содержание «Содома и Гоморры» предполагалось гораздо короче: Пруст собирался вставить его в «Обретенное время» – последний том романа. Тогда он планировал уложить весь роман в три тома: «В сторону Сванна», «Сторона Германтов» и «Обретенное время». Но с 1914 по 1918 год из-за Первой мировой войны публикация «Поисков» прервалась, да и вообще книгоиздательское дело замерло. И все это время Пруст дописывал разные части своего романа, так что к концу войны вместо трех томов в «Поисках» оказалось целых семь.
Пруст в этот последний период своей жизни истерзан болезнью. Стоит почитать жалобы, рассыпанные по его письмам. В разговорах он часто цитирует строчку из стихотворения Мюссе «Письмо г-ну де Ламартину» (по ошибке приписывая ее самому Ламартину): «Прав Ламартин, говоря, что скучно все время умирать». Его преследуют мелкие, но зловещие неприятности: обжегся кипящим молоком, отравился неправильной дозой лекарства, упал у себя в комнате и сильно ушибся… Из-за обилия лекарств он делается рассеянным: то отправляет недописанное письмо, то дважды, причем по-разному, повествует в романе о смерти одного и того же персонажа. При этом работает он как одержимый – вычитывает бесконечные гранки, вносит исправления, добавляет все новые вставки в разные части романа. Он нервничает из-за того, что гранки опаздывают, пишет издателю (и своему другу) Гастону Галлимару: «Пока я еще могу работать, крайне желательно как можно скорее получить гранки второй части „Содома“ (остальное можно печатать как есть, даже если я умру)».
У Пруста было удивительное свойство: он умел описать только то, что сам видел или о чем ему подробно рассказали. И он продолжает по горячим следам добавлять в «Содом» свежие впечатления. Так, в феврале 1921 года знаменитый философ Анри Бергсон попросил «дорогого кузена», то есть Пруста (они в самом деле состояли в родстве), принять Альгота Руэ, своего шведского биографа и переводчика. Руэ, который был также писателем и поэтом, поведал о встречах с Прустом в двух статьях и в романе, а сам попал в «Содом» под видом «норвежского философа», который рассуждает о природе сна, очень медленно говорит по-французски, потому что сверяет каждое произнесенное им слово со своим внутренним словарем, и с молниеносной скоростью убегает из гостей.
А непрерывные приступы болезни подсказывают Прусту новые черточки в описании врачей во второй части «Содома»: это и профессор Э., отказавшийся в свое время принять бабушку рассказчика, потому что торопился в гости, и доктор Котар, ревнующий к популярности доктора Дю Бульбона. Котар, между прочим, становится в «Содоме» специалистом по интоксикациям, которые мерещатся ему всюду. Кроме того, возникает безымянный «специалист по нервным болезням», краснолицый весельчак, которому общение с больными-невротиками не мешает быть здоровым и жизнерадостным.
Начало 1922 года мучительно, Пруст чувствует себя ужасно, но все же в минуты облегчения, приняв сильнодействующее лекарство, выбирается на светские вечера к друзьям. Тем временем он вносит последние исправления в «Содом» и нанимает машинистку, которая перепечатает ему «Пленницу», а также «Исчезновение Альбертины». Машинистка – племянница Одилона Альбаре, состоявшего при писателе шофером, в то время как жена Одилона Селеста исполняла работу домоправительницы, сиделки и секретаря. Недаром Пруст говорит, что семья Альбаре «роится» вокруг него и это его успокаивает.
Наконец «Содом» выходит из печати. Пруст опасался, что критика набросится на книгу, сочтет ее содержание скандальным, но ничего подобного не произошло. Возможно, титулы лауреата Гонкуровской премии и кавалера ордена Почетного легиона придавали автору солидности и охраняли от чересчур резких выпадов. А возможно и то, о чем писал Пруст применительно к поздним квартетам Бетховена: «Гениальное произведение оттого трудно полюбить сразу, что его автор – не такой, как все, мало людей на него похожи. Таких людей будет выращивать и множить само это произведение, оплодотворяя те редкие умы, что способны его понять. Таковы квартеты Бетховена (двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый): пятьдесят лет они создавали и преумножали для себя слушателей и, как все шедевры, обеспечивали прогресс если не в искусстве музыкантов, то по меньшей мере в духовном росте общества… Так называемое потомство, для которого творит композитор, – это потомство, порожденное его же произведением». Видимо, что-то подобное произошло и с «Поисками»: к 1922 году Пруст вырастил и воспитал своего читателя.
Позволим себе лишний раз напомнить структуру романа «В поисках потерянного времени» в ее окончательном виде:
Книга 1: В сторону Сванна (опубликована в 1913 году у Грассе).
Книга 2: Под сенью дев, увенчанных цветами (опубликована в 1918 году в «Галлимаре», так же как и все последующие).
Книга 3: Сторона Германта (1-я часть опубликована в 1920 году, 2-я – в 1921 году).
Книга 4: Содом и Гоморра (1-я часть – в 1921 году, 2-я – в мае 1922 года, еще при жизни автора; Пруст умер 18 ноября этого года).
Книга 5: Пленница (1923).
Книга 6: Исчезновение Альбертины (1925).
Книга 7: Обретенное время (1927).
И в заключение спешу выразить признательность тем, без чьей помощи и ободрения этот перевод едва ли дошел бы до конца. Благодарю за консультации и поддержку Отдел Пруста в Институте текстов и манускриптов (Эколь Нормаль Сюперьер, Париж) и его документалиста Пиру Вайз; моих дорогих редакторов Елену Березину и Алину Попову за тщательную правку; моего дорогого учителя и коллегу профессора Жозефа Брами за постоянную помощь в работе над французским текстом; друга и проницательного читателя Семена Шлосмана за то, что взял на себя нелегкий труд первым прочитать мой перевод и выловить в нем много того, что надо было исправить; любимую коллегу и подругу Наталью Мавлевич, помогавшую мне разбирать самые трудные места в романе и выбираться из непереводимых дебрей, и многих, многих других.
Елена Баевская
Часть первая
И жены, позорно замкнувшись в Гоморре,
Безумью мужей предоставят Содом.
Альфред де Виньи[3]
Первое появление мужчин-женщин, потомков обитателей Содома, которых пощадил небесный огонь.
Как мы помним, в день приема у принцессы Германтской, перед визитом к герцогу и герцогине, о котором я не так давно рассказывал, я долго подкарауливал их приход и, пока дожидался, сделал одно открытие, касавшееся, собственно, г-на де Шарлюса, но и само по себе такое важное, что до сих пор я не спешил о нем сообщать, откладывая это до момента, когда сумею уделить ему надлежащее место. Раньше я упоминал, что покинул свой замечательно удобный наблюдательный пункт на самом верху дома, откуда открывался великолепный вид на неровные склоны, тянувшиеся до самого особняка Брекиньи, которые совершенно по-итальянски весело осеняла розовая башенка над каретным сараем маркиза де Фрекура. Полагая, что герцог и герцогиня вот-вот вернутся, я решил, что разумнее будет устроиться на лестнице. Немного жаль было покидать мое возвышение. Но теперь, сразу после обеда, уходить оттуда было не так досадно, как раньше, ведь я бы все равно уже не увидел утренних крошечных фигурок, вписанных в картины, – фигурок, в которые превращались, если смотреть издали, слуги из особняка Брекиньи и Тремов, медленно возносившиеся по крутизне с метелками из перьев в руках между двумя широкими листами прозрачной слюды, так славно выделявшимися на фоне красных выступов в стене. Но меня интересовала не столько геология, сколько ботаника; я засмотрелся на видневшиеся между ставнями окна́, выходившего на двор, кустик герцогини и драгоценное растение, которые были выставлены на видном месте, как невесты на выданье, и гадал, не слетит ли к ним по счастливой случайности нечаянное насекомое и не опустится ли на заждавшийся и готовый принять гостя пестик. Понемногу под влиянием любопытства расхрабрившись, я спустился до окна первого этажа; оно тоже было открыто, и ставни были притворены только до половины. Я слышал явственно, как собирается на работу Жюпьен; меня он заметить не мог, потому что я притаился за шторой, но потом мне пришлось резко отпрянуть, чтобы меня не заметил г-н де Шарлюс, который медленно пересекал двор, направляясь к г-же де Вильпаризи; при свете дня он показался мне одутловатым, постаревшим и седым. Только нездоровье маркизы (настигшее ее из-за болезни маркиза де Фьербуа, с которым сам г-н де Шарлюс состоял в смертельной ссоре) и было способно подвигнуть его на визит в это время дня, быть может, впервые в жизни. Ведь одной из особенностей Германтов было то, что они не подчинялись светским правилам, а меняли их сообразно собственным привычкам, полагая, что у них-то привычки нисколько не светские, а значит, в угоду им позволительно попирать светскость как нечто, не имеющее ценности: г-жа де Марсант, например, принимала приятельниц не в какой-то определенный день, а каждое утро с десяти до полудня; барон же приберегал утренние часы для чтения, для походов по антикварным лавкам, а визиты наносил исключительно с четырех пополудни до шести. В шесть он ехал в Жокей-клуб или на прогулку в Булонский лес. Тут я еще больше попятился, чтобы меня не заметил Жюпьен; скоро ему пора было идти на службу, откуда возвращался он только к ужину, а теперь иной раз и позже, потому что неделю назад его племянница уехала со своими мастерицами за город дошивать платье заказчице. Потом я сообразил, что никто не может меня заметить, и решил больше себя не утруждать, чтобы как-нибудь не упустить – если уж этому чуду суждено свершиться – прибытия насекомого, которое, вопреки всем препятствиям, расстоянию, зловредным угрозам и опасностям, явится издалека, ниспосланное девственнице, что давно уже его поджидает. Я знал, что ее снедает то же нетерпение, что и мужчину-цветок, чьи пестики непроизвольно разворачиваются, чтобы насекомому было сподручнее на них опуститься; а женщина-цветок здесь, на окне, если прилетит насекомое, кокетливо выгнет свои «столбики» и, помогая ему поглубже в себя проникнуть, незаметно сама проделает половину работы, подобно лицемерной, но пылкой юной барышне. Есть над законами растительного царства иные, высшие законы, которые ими правят. Обычно для оплодотворения цветка необходимо появление насекомого, приносящего пыльцу, потому что самооплодотворение, оплодотворение цветка самим собой, подобно браку внутри одной и той же семьи, приводит к вырождению и бесплодию, а перекрестное опыление с помощью насекомых заряжает следующие поколения этого вида бодростью, неведомой его предкам. Но приток энергии может оказаться излишним, а развитие вида – чрезмерным; и тогда, подобно тому как антитоксин защищает от заболевания, как щитовидная железа регулирует нашу полноту, как поражение карает гордыню, а усталость – наслаждение, и подобно тому как сон в свой черед исцеляет усталость, точно так же акт самооплодотворения в исключительных случаях исправляет положение, срабатывает как тормоз и возвращает в границы нормы тот цветок, что заметно вырвался за ее пределы[4]. Мои раздумья развивались все дальше в направлении, о котором я еще расскажу позже, и из кажущейся хитрости цветов я уже сделал некоторые выводы о доле бессознательного в литературном произведении, как вдруг увидел г-на де Шарлюса, выходившего от маркизы. Он пробыл у нее всего несколько минут. Вероятно, он узнал от своей старой родственницы или просто от кого-нибудь из слуг, что ей уже гораздо лучше или, вернее, что она уже вполне исцелилась от своего незначительного, в сущности, недомогания. Полагая, что никто на него не смотрит, он слегка прикрыл глаза, пряча их от солнца, и с лица его сошло напряжение, стерлась та искусственная живость, которую поддерживали возбуждение, вызванное разговором, и сила воли. Его крупный нос и тонкие черты белого, как мрамор, лица не озарялись волевым взглядом, который мог бы как-то переосмыслить их, исказить их прекрасную лепку; он был сейчас просто Германтом, словно уже превратился в статую Паламеда XV в комбрейской часовне. Но на лице г-на де Шарлюса эти общие для всей семьи черты были отмечены бо́льшим изяществом, большей одухотворенностью, а главное, большей нежностью. Мне было обидно за него, – обидно, что он вечно выставляет напоказ несвойственные ему жестокость, неприятные странности, злоязычие, черствость, обидчивость, высокомерие и прячет под наигранной грубостью ту доброту, то дружелюбие, которые так простодушно проступили у него на лице в тот миг, когда он выходил от г-жи де Вильпаризи. Щурясь на солнце, он чуть не улыбался, его лицо приобрело какое-то спокойное, естественное выражение и показалось мне таким добродушным, беззащитным, что я невольно представил, как бы рассвирепел г-н де Шарлюс, если бы знал, что на него смотрят, потому что внезапно чертами лица, мимолетным выражением, улыбкой этот человек, безмерно влюбленный в мужественность, беспредельно гордившийся тем, какой сам он мужественный, человек, которому все подряд казались отвратительно женоподобными, напомнил мне женщину.
Я как раз собрался еще раз переменить положение, чтобы он меня не заметил, мне это было ни к чему, да и некогда. И что же я увидел! Барон внезапно широко открыл глаза и с невероятным вниманием смотрел на Жюпьена – они раньше никогда не встречались и теперь впервые столкнулись лицом к лицу, ведь г-н де Шарлюс приходил в особняк Германтов только в послеобеденные часы, когда бывший жилетник был в конторе – а тот замер на пороге своей мастерской, не в силах двинуться с места, словно пустил корни, подобно растению, и с восхищением загляделся на брюшко стареющего барона. То, что произошло дальше, было еще поразительней: г-н де Шарлюс шевельнулся – и Жюпьен, словно повинуясь законам некоего тайного искусства, тоже шевельнулся и принял позу, гармонировавшую с новой позой барона. Теперь г-н де Шарлюс пытался скрыть впечатление, которое произвела на него встреча, и притворялся равнодушным, но по его походке, движениям, взгляду, устремленному вдаль, по тому, как старательно он придавал своим прекрасным глазам чарующее выражение, напускал на себя самодовольный, небрежный, нелепый вид, заметно было, что уходить ему не хочется. А Жюпьен, всегда, сколько я его знал, такой смиренный и добродушный, теперь немедленно и совершенно симметрично барону вскинул голову, приосанился, подбоченился с гротескно нахальным видом, выпятил зад, и все это с кокетством орхидеи, чающей приближения шмеля. Я и не знал, что он может выглядеть так неприятно. Однако я не знал за ним и способности без всякой подготовки так сыграть свою роль в этой немой сцене: она казалась прекрасно отрепетированной, даром что он впервые столкнулся с г-ном де Шарлюсом; такое инстинктивное совершенство дается человеку, повстречавшему в чужой стране земляка, с которым при первом знакомстве понимаешь друг друга с полуслова и выражаешь свои мысли одинаково.
Причем в этой сцене не было ничего особенно смешного, скорее в ней проглядывало, если угодно, нечто странное и все явственней проступала какая-то изначальная красота. Г-н де Шарлюс рассеянно, с притворным равнодушием опускал веки, но тут же глаза его широко раскрывались и метали на Жюпьена внимательный взгляд. Вероятно, он чувствовал, что именно в этом месте подобную сцену нельзя затягивать – не то по причинам, о которых будет сказано позже, не то из ощущения быстротечности всего на свете, из-за которого мы заботимся о том, чтобы каждый удар попадал в цель, и умиляемся при виде чужой любви; так или иначе, казалось, что, взглядывая на Жюпьена, г-н де Шарлюс всякий раз что-то говорит, поэтому его взгляды отличались от того, как мы обычно смотрим на знакомых или незнакомых; он вглядывался в Жюпьена пристально, будто вот-вот произнесет: «Простите ради бога, но у вас к спине пристала длинная белая нитка», или «По-моему, я не ошибся, вы ведь тоже из Цюриха, мне сдается, я часто встречал вас у одного антиквара». Глаза г-на де Шарлюса поминутно допытывались о чем-то у Жюпьена, и это напоминало бесконечно повторяющиеся через равный промежуток времени вопросительные фразы у Бетховена, всякий раз превосходно подготовленные и предвещающие новую тему, или переход в другую тональность, или вступление другого инструмента. Но источником красоты, сквозившей во взглядах г-на де Шарлюса и Жюпьена, было, напротив, то, что эти взгляды, казалось, ни к чему не вели, во всяком случае теперь. Я впервые заметил в бароне и Жюпьене эту красоту. Глаза у обоих озарились светом небес – но не тех небес, что над Цюрихом, а тех, что раскинулись над каким-то восточным городом, и я еще не догадывался, что это за город. Каков бы ни был общий интерес, привлекавший и г-на де Шарлюса, и жилетника, они уже, казалось, заключили соглашение, а взгляды, которыми они теперь обменивались, – это были ритуальные прелюдии, сами по себе не нужные, что-то вроде торжественных приемов, предшествующих свадьбе, когда она уже назначена. Если же мы прибегнем к сравнениям, которые еще ближе к природе (ведь разнообразие этих сравнений вполне оправдано уже тем, что один и тот же человек, если смотреть на него несколько минут подряд, представляется наблюдателю то человеком, то человеком-птицей, то человеком-насекомым), то с этой точки зрения они были похожи на двух птиц, самца и самочку, причем самец стремился вперед, а самочка – Жюпьен – никак не откликалась на его уловки и смотрела на нового друга без удивления, с пристальным вниманием, которое, наверно, представлялось ей более волнующим и единственно полезным, пока самец делает первые шаги, и лишь приглаживала себе перья клювом. Наконец Жюпьену стало мало казаться равнодушным; теперь всего один шаг отделял его от уверенности, что барон загорелся и готов устремиться за ним вдогонку; он решился идти в свою контору и вышел из ворот. Но прежде чем выскользнуть на улицу, он два или три раза оглянулся, и барон, трепеща от страха потерять его из виду (но все же беспечно насвистывая и не забыв бросить «до свидания» полупьяному швейцару, который принимал гостей у себя в комнатушке за кухней и даже его не услышал), проворно бросился вслед за ним. В тот момент, когда г-н де Шарлюс выходил из ворот, бурча себе под нос наподобие шмеля, во двор влетел другой шмель, настоящий. Кто знает, быть может, именно его, этого нового пришельца, заждалась орхидея на окне, быть может, именно он принес ей драгоценную пыльцу, без которой она будет прозябать нетронутой? Но я отвлекся от наблюдений за кружением насекомого, потому что переключил внимание на Жюпьена, которого, по-видимому, так взволновало появление г-на де Шарлюса, что он оставил дома пакет, который хотел взять с собой (хотя, возможно, пакет был забыт по более простой причине), и теперь вернулся его забрать, а вслед за Жюпьеном вернулся барон. Г-н де Шарлюс, решившись форсировать события, попросил у жилетника огонька, но тут же добавил: «Я попросил у вас огонька, но оказывается, я забыл дома сигары». Законы гостеприимства одержали верх над правилами кокетства: «Входите, я дам вам все необходимое», – произнес жилетник, и презрение на его лице сменилось радостью. Дверь мастерской затворилась за ними, и больше я ничего не услышал. Шмеля я потерял из виду и не знал, то́ ли это насекомое, которое нужно орхидее, но я больше не сомневался, что редчайшее насекомое и прикованный к месту цветок чудесным образом получили возможность соединиться; тем временем (заметим просто для сравнения двух счастливых, каждая в своем роде, случайностей, позволяющих без притязаний на какую бы то ни было научность сопоставить законы ботаники с тем, что иногда весьма неудачно называют гомосексуальностью) г-н де Шарлюс, годами приходивший в этот дом в часы, когда Жюпьена здесь не было, благодаря случайному недомоганию г-жи де Вильпаризи встретился с жилетником, а вместе с ним повстречал и удачу, уготованную для таких, как он, человеком, подобным Жюпьену, который мог бы оказаться и моложе, и красивее Жюпьена и чье предназначение на земле – дарить наслаждение таким, как барон, потому что этому человеку нравятся только пожилые мужчины.
Впрочем, все сказанное я понял только спустя несколько минут, потому что реальность накрепко связана с невидимостью, от которой ее могут очистить лишь какие-нибудь особые обстоятельства. Как бы то ни было, в тот момент мне было очень досадно, что я больше не слышал разговора жилетника с бароном. Тут на глаза мне попалась мастерская, которая отдавалась внаем; от лавки Жюпьена ее отделяла лишь тонкая перегородка. Чтобы туда проникнуть, мне достаточно было вернуться в нашу квартиру, зайти в кухню, оттуда спуститься по черной лестнице в подвал и пройти по нему вдоль всего двора, а добравшись до подвального помещения, где еще несколько месяцев назад столяр собирал свои изделия, а теперь Жюпьен рассчитывал хранить уголь, подняться по нескольким ступенькам, которые вели в лавочку. Таким образом я мог пробраться туда украдкой, и никто бы меня не увидел. Это было самое разумное решение. Но я выбрал другой способ и прошел прямо по двору, стараясь остаться незамеченным. Мне это удалось – полагаю, скорее случайно, чем из благоразумия. И в сущности, то, что я предпринял такую рискованную попытку, хотя пройти подвалом было совершенно безопасно, можно объяснить одной из трех причин, если вообще на то была причина. Прежде всего, моим нетерпением. Потом, возможно, смутной памятью о сцене в Монжувене, когда я прятался перед окном мадмуазель Вентейль. На самом деле, когда мне случалось присутствовать при такого рода вещах, я всегда умудрялся поставить себя в самое опрометчивое и неправдоподобное положение, как будто такие открытия даются только в награду за тайный и в высшей степени рискованный демарш. И наконец, в третьей причине, которою я бессознательно руководствовался больше всего, мне совестно признаваться: уж больно она смахивает на ребячество. С тех пор как я со всей дотошностью следил за событиями Англо-бурской войны[5], ища доказательств тому, что военные принципы Сен-Лу не оправдываются на деле, я принялся перечитывать старые книги о путешествиях и научных экспедициях. Эти книги увлекали меня и придавали храбрости в повседневной жизни. Когда из-за приступов я по нескольку дней и ночей кряду не мог спать и, мало того, не в силах был ни прилечь, ни поесть, ни попить, в те минуты, когда я доходил до истощения и мне делалось до того худо, что казалось, этому не будет конца, я думал о каком-нибудь путешественнике, выброшенном на прибрежный песок, одурманенном ядовитыми травами, дрожащем от лихорадки в своей промокшей от морской воды одежде, – но вот уже спустя два дня он чувствует себя лучше и наугад пускается в путь, на поиски туземцев, хоть они ведь могут оказаться и людоедами. Такие примеры меня бодрили, возвращали мне надежду, и мне стыдно было, что я на мгновение пал духом. Теперь я думал о бурах, которые, столкнувшись лицом к лицу с английскими войсками, смело шли вперед по открытой местности, чтобы достичь зарослей, где можно будет укрыться; «не хватало еще мне, – думал я, – малодушничать, когда театр военных действий – это всего-навсего наш двор, ведь я несколько раз без малейшего страха дрался на дуэли во времена дела Дрейфуса[6], а теперь-то бояться нечего, разве что меня увидят соседи, у которых есть дела поважнее, чем выглядывать во двор».
Но когда я очутился в мастерской, изо всех сил стараясь ни в коем случае не скрипнуть половицей и понимая, что здесь у меня слышен малейший шорох из лавки Жюпьена, мне стало ясно, как неосторожно вели себя Жюпьен и г-н де Шарлюс и как им повезло.
Я не смел шевельнуться. Конюх Германтов, пользуясь, вероятно, тем, что хозяева в отъезде, перенес в мастерскую столяра лестницу-стремянку, до того стоявшую в каретном сарае. И если бы я на нее взобрался, я бы мог открыть оконце, прорезанное в перегородке, и слышать все так, будто находился в мастерской Жюпьена. Но я боялся шуметь. Да это было и не нужно. Мне даже не пришлось жалеть, что я потратил несколько минут, чтобы добраться до моей комнатушки. Судя по тому, что первое время из мастерской Жюпьена доносились только нечленораздельные звуки, можно было предположить, что слов прозвучало очень немного. Правда, в этих звуках было столько свирепости, что, если бы параллельно им всякий раз не раздавались октавой выше жалобные стоны, можно было бы подумать, что рядом со мной один человек перерезает горло другому, а затем убийца вместе с воскресшей жертвой принимают ванну, чтобы скрыть следы преступления. Позже я пришел к выводу, что от наслаждения бывает шуму не меньше, чем от страданий, особенно когда за ним немедленно следует страх зачать ребенка (о чем в данном случае и речи быть не могло, если пренебречь малоубедительным примером из «Золотой легенды»)[7] или забота о чистоте. Наконец примерно через полчаса (за это время я крадучись забрался на стремянку, чтобы подсматривать в окошко, но так и не открыл его) завязался разговор. Жюпьен энергично отказывался от денег, которые хотел ему дать г-н де Шарлюс.
Затем г-н де Шарлюс вышел из мастерской. «Зачем вы так выбриваете подбородок? – ласково сказал жилетник барону. – Хорошая борода – это так красиво!» – «Фи, терпеть не могу», – возразил барон. Однако в дверях он задержался, расспрашивая Жюпьена о нашем квартале. «Вы знаете что-нибудь о продавце каштанов там, на углу, не о том, что слева, это ужас, а о том, что по четной стороне, – такой здоровенный чернявый парень? А в аптеке напротив лекарства развозит очень славный велосипедист». Эти расспросы, очевидно, обидели Жюпьена. С видом оскорбленной в своих чувствах кокетки он приосанился и заметил: «А вы повеса, как я посмотрю». Его печальный, холодный, манерный упрек, видимо, задел г-на де Шарлюса за живое, и, стремясь загладить дурное впечатление от своего любопытства, он стал о чем-то просить Жюпьена, слишком тихо, чтобы я мог расслышать слова, но понятно было, что для исполнения его просьбы им придется вернуться в мастерскую и что эта просьба тронула и утешила жилетника, потому что он впился в пухлое и налитое кровью лицо барона, обрамленное сединой, долгим, счастливым взглядом человека, услыхавшего что-то чрезвычайно лестное для его самолюбия, согласился исполнить то, о чем просил барон, и, отпустив несколько непочтительных замечаний, вроде: «Да уж, филейная часть у вас что надо!», просиял и сказал с волнением, благодарностью и превосходством в голосе: «Да иди уже, иди, баловник!»







