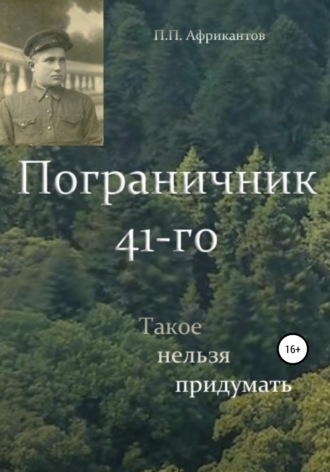
Пётр Петрович Африкантов
Пограничник 41-го
До обрыва осталось два шага. Делаю эти два шага и… Тело всё напряглось. Руки у меня за спиной, но развязаны. Сыч никого не водит со связанными руками. Очень сильный и цепкий по природе он не боится нападения одного человека. И вот этот последний шаг. Я его делаю и тут же проваливаюсь во мрак.
Везение пятнадцатое
Очнулся. Лежу на дне оврага. Ярко светит луна, голова гудит. Начинаю ощупывать тело руками, пытаюсь определить, куда ранен? Немного двигаю ногами. Руки и ноги работают, сильно гудит и болит одна голова. Ощупываю голову. На затылке нащупываю рукой рану, она кровоточит. Нет, это не рана от пули. Значит, Сыч ударил меня рукояткой пистолета по голове, и я улетел в овраг. Получается – я живой и даже почти невредимый. Надо попытаться встать. Я встаю, и, пошатываясь, бреду по дну оврага. Затем выбираюсь наверх и иду в школу. На крыльце вижу Володьку. Он обнимает меня и ведёт в комнату. Здесь и рассказал мне друг, что в школу недавно приходил Сыч, устроил здесь застолье и поручил нескольким постояльцам поутру прикопать меня в овраге, чтоб не смердило. «Я, – говорит, – ему мозг вынес».
Друг обрадовался, что я живой, перевязал мне голову, но, в тоже время, он был сильно обеспокоен моим положением, потому, как Сыч не смирится с таким позором и обязательно добьёт жертву.
– Тебе надо на дня два-три скрыться от Сычёвых глаз у какой-нибудь из хозяек, а я к тому времени всё устрою, – говорит Володька. – Что ты такой невезучий? То в тюрьму угодил, то к Сычу чуть на мушку не попал.
– Что ты, Володька, можешь устроить? – спрашиваю, – ты такой же бедолага как и я.
– Это не твоя забота. Твоя забота – исчезнуть ненадолго из поля зрения Сыча и всё.
Я соглашаюсь и вечером, чтобы никто не видел, пробираюсь в баньку своей спасительницы тёти Мотри. Женщина продержала меня в баньке четыре дня, а потом заявился Володька. Он дал мне какую-то бумажку. Я развернул и ещё больше удивился, это был пропуск на торфяной завод, где я и Володька уже числимся рабочими. Рабочий с завода и с документом – это что-то.
Теперь для Сыча мы недосягаемы.
Везение шестнадцатое
Утром с рабочими мы входим в ворота завода и нас отправляют копать канавы, для отвода воды. На копке канав я опять услышал рассказы о действиях партизан. Зимой в селе я тоже о них слышал, люди говорили. Я тогда пытался осторожно выяснить места их дислокации у хозяина-столяра. Тот понял, к чему я клоню и говорит.
– Ты вот что, Петро. О партизанах пока не думай. Твоя задача ноги вылечить, чтоб нагрузку терпели. Ну, какой из тебя партизан? Они по лесам стокилометровые переходы делают при оружии, боеприпасах и прочем. Ты столько пройти сможешь? Нет, не сможешь. Так что сиди до весны и не рыпайся. Хотя мне твой настрой нравится. Другие вон беженцы, из молодых, прижились у вдовушек и ни о чём не думают.
А я думал. И чем явственнее приближалась весна, тем сильнее мной овладевало желание уйти к партизанам и воевать. Воевать за тех, кто погиб на ржаном поле, за тех, кого эсесовцы пристрелили в госпитале, за тех, кто не добежал до леса и остался лежать, настигнутый пулемётной очередью.
Однажды я сказал об этом Володьке и предложил идти к партизанам вместе, а не добывать здесь торф для немчуры. Тот отставил лопату и очень просто сказал:
– Знаешь, дружище, быть партизаном это не только по лесам с винтовкой бегать и немчуру где-то выслеживать. Вот ты сейчас с винтовкой по лесам не бегаешь, а с немцами воюешь, – и он хитро улыбнулся.
– Как это так? Ты, Володька, говори, да не заговаривайся. С кем это я здесь воюю?
– А ты знаешь, что я сам и есть партизан, только партизан-подпольщик, понял. Ты думаешь, я просто так в школе жил? Я там к людям присматривался и стоящих в партизанский отряд отправлял. Знаешь, сколько их из этой школы к партизаном ушло!? Вот так- то. А то в лес он захотел…
– А мне почему ничего не сказал и к партизанам не направил? Сомневался во мне, значит?! – сержусь я.
– В тебе я не сомневался ни минуты. Давно бы был в партизанах, если б не твои ноги. При себе держал, как самого надёжного, на всякий случай. А болтать до времени не приучен. Тебе, кстати, пришлось жить у тётки Мотри в бане после сычёвского расстрела потому, что мне надо было согласовать твою переброску в отряд. Согласовать-то я согласовал, только команда поступила другая, командование отряда приказало тебе перейти на нелегальную работу и определило нас на этот завод. Так что гляди в оба, ничем себя не выдавай. Скоро нас переведут работать на склад, будешь вплотную работать с писарем. Через него будешь получать липовые накладные и так далее. Он тебе всё скажет.
Такого резкого поворота в жизни я не ожидал.
Я и Володька работаем на вещевом складе.
Директор завода у партизан свой человек, нам же надлежит через заводской склад снабжать партизан одеждой, обувью и всем необходимым. Володька работает на приёмке продукции, а я на выдаче.
Писарь, угрюмый, пожилой человек, встретил меня не очень ласково, даже накричал. А когда мы остались одни, то попросил не обижаться и что это надо для порядка, чтоб все видели. Затем, понизив голос, говорит:
– Инструкции простые – обычные немецкие машины грузите, как и положено, согласно документации. Партизанские машины тоже грузите согласно документации, только липовой. Партизанская машина будет приходить всегда одна и та же, с одним и тем же водителем. Я её тебе покажу. Главное, чтоб офицер, отвечающий за склады, ничего не заподозрил. Следи за порядком, немцам это нравится.
Даже странно как-то. Я теперь партизан-подпольщик. Я чётко выполняю поручения немецкого офицера, порядок на складе у меня отменный и лейтенанту это очень нравится. Грузы со склада, уходят своими дорогами. Я, как и Володька щеголяем в хороших сапогах и всё на нас чистое и приличное. Этого требует офицер. Он говорит, что мы лицо склада. Такая жизнь ни мне, ни Володьке даже не снилась.
И всё бы было хорошо, если б не офицерская собачонка по имени Пита. Маленькая, злая, фунт веса, она, почему-то сразу стала относиться ко мне настороженно. Что ей не нравилось во мне неизвестно, то ли своим фашистским нутром чуяла псина, что этот рабочий не тот, за кого себя выдаёт, то ли чего ещё. А может быть она недовольна тем, что и меня, и собачку офицер называл одним именем – Пита. И когда он зовёт «Пита», к нему бежим я, и собачка одновременно. Это офицеру нравится, это его веселит. Таким образом, проявляется в нём его фашистская натура. Собачку наоборот, это злит и она на меня злобно рычит, когда мы вместе подбегаем к унтеру. Видимо, она считает меня своим соперником в отношении к хозяину и ревнует.
Инцидент произошёл в один из дней, когда офицер уехал в округ, а собачка осталась полностью на моём попечении. При загрузке машины, она могла попасть под её колесо и офицер приказал в его отсутствие Питу на это время привязывать. Но Пита мне не подчинилась и юркнула под машину. Без применения палки выгнать её оттуда было нельзя. Вот я и шуганул Питу из под машины метлой. И это было главной моей ошибкой. Пита такого неделикатного обращения мне не простила и озлобилась. В отсутствие хозяина, она на меня лаяла и близко не подпускала, а когда приехал офицер, она просто стала преследовать меня и хватать зубами за каблуки.
Я рассказал про инцидент своему другу Володьке. Тот настоятельно потребовал, чтоб я подружился с собачкой, это в интересах партизан.
– Надо разрулить эту ссору. Нас из-за этой собачки могут вытурить со склада, офицер найдёт новых кладовщиков и необязательно из партизан. Сам понимаешь, – говорит он.
Подружиться с Питой никак не выходило. Мало того, собачка, заметив дружеские отношения меня и Володьки, перенесла свою ревность и на него. Офицер заподозрил неладное в отношении рабочих склада и Питы и разрешил конфликт очень просто. Он позвал меня и говорит: «Мне, очень нравится, как ты ведёшь дела на складе. У тебя чисто, настоящий немецкий порядок, но мне не нравится ваш отношения с моей собачка. Это плёхо. И если немецкому офицеру приходится выбирать между русский рабочий и арийской собачка, то я как патриот Рейха выбираю последнюю, а ты иди снова копать канавы и своего дружка прихвати, чтоб не скучно было, его Пита тоже почему-то невзлюбила.
На этом наша работа с Володькой на складе закончилась.
Везение семнадцатое
Если досадную оплошность на складе, можно назвать просто оплошностью, или невезением, то случай на копке траншей так уже не назовёшь. Да и кто мог подумать, что среди рабочих-канавщиков заведётся настоящая гнида.
Все рабочие на копке канав наёмные и получают деньги в зависимости от объёма выполненных работ. С нами же находятся и немецкие солдаты, вооружённые трёхлинейками. Солдаты все пожилые и живут они в сторожке на краю леса. Чего они здесь охраняют совсем непонятно. Не понимаем этого ни мы, ни сами немцы. Рабочие никуда не убегут, на этих канавах они трудятся по собственной воле, зарабатывают хлеб насущный, зачем им бежать? Охранять сточные канавы – смысла нет, они никому не нужны и тоже никуда не денутся. А немцев это радует – никто не нападёт и никто не убежит, рай, а не служба. Они большей частью пьют самогон, распевают песни и рассматривают довоенные фотографии своих жён, детей, внуков да режутся в карты. А что ещё делать пожилым людям, хоть они и немцы.
– Зачем нас здесь держат! – возмущаюсь я в разговоре с Володькой. – Отозвали бы в отряд, и мы бы с немцами воевали, а ни эти дурацкие канавы рыли.
– Не отзывают, значит так надо, – отвечает Володька. – Мы с тобой всех моментов не знаем. Завтра этого Курта с собачкой переведут в другое место или на другой завод и нас снова на склад отправят. Такое ведь тоже может быть. На заводе, я думаю, не так-то много подпольщиков, каждый на счету, вот нас и держат в запасе. Поживём – увидим.
Только пожить на заводе на копке траншей долго нам не удалось. И произошло это не по воле немцев, а по досадному случаю. Однажды немцы устроили на поляне тир. Поставили лопату в конце поляны, выдали каждому рабочему по три патрона, показали, как заряжать и стрелять и пальба началась. Подошла очередь стрелять и мне. Я без всякой осторожности, легко и просто взял до боли родную трёхлинейную винтовку, положил ствол на пенёк и передёрнул затвор. Как говорится, молодо-зелено.
В это время я не видел, как одни цепкие глаза наблюдают за каждым моим движением. А когда я, быстро перезаряжая и не менее быстро целясь, всадил чуть ли не в десятку все три пули в лопату, после этого наша история с Володькой чуть не закончилась плачевно.
– Очень корош… Очень корош, – говорит немец, руководивший стрельбами. – Я знай – ты охота. Я тоже охота. – И он тычет себя пальцем в грудь.
Для понятливости он хлопает руками, как хлопает крыльями утка, и изображает стреляющего по птице охотника.
– Да, да. Я охотник, – и тычу себя в грудь.– Вся фамилия охотники,– подтверждаю я.
Ни Володька, ни я не видели, как к немецким солдатам подошёл этот рабочий с цепким взглядом и что-то сказал. А через минуту ко мне подходит тот самый немец из охотников и говорит:
– Рабочий из ваших, пошёл в полицию докладывать о том, что вы и ваш товарищ – партизанен. Я ему сказал, что ты охотник, а он не верит. Он сказал, что ты хорошо обращаешься с боевым оружием и метко стреляешь. Он приведёт гестапо. Вам надо немедленно уходить, гестапо это плохо.
И вот, мы с Володькой бежим в направлении леса по канавам залитыми водой. Другого пути нет. Сзади раздаются выстрелы русской трёхлинейки. Это немецкий солдат-старичок имитирует патриотизм Гитлеру. Затем доносится лай овчарок и автоматные очереди. Началась настоящая погоня.
Мы бежим, вслушиваясь в злобный лай. Я думаю о том, что в этих канавах у нас с собаками примерный паритет в скорости передвижения.
Овчарки плюхаются в канавы, рычат, захлёбываются, и, не доставая ногами дна, перебираются вплавь, выбираются из одной канавы и тут же плюхаются в другую. Я знаю, что ближе к опушке леса, канавы кончатся и вот тогда эти натасканные на людей псы нас настигнут очень быстро, а у нас в руках для самообороны ничего нет.
– Нам бы, Петро, только до опушки добежать, только до опушки и мы спасены! – повторяет Володька.
– Разве там, какую-никакую палку найдём, – отвечаю я. Володька молчит. И вот она опушка, дорога, а за дорогой стоит раскидистый большой дуб. Володька бросается к дубу, я за ним. В голове мелькнуло: «Неужели он решил спастись от собак на дереве. От собак спасёшься, а от жандармов нет».
Но, Володька и не думает лезть на дерево. Он ныряет под крону и быстро начинает руками разгребать почву. В это время с поля вылетает пятёрка разъярённых овчарок. Они уже совсем рядом, а Володька разгребает и разгребает землю. Наконец он выдёргивает из земли ручной пулемёт, сбрасывает с него покрывало, передёргивает затвор и даёт длинную очередь. Два пса падают от нас буквально за три метра, другие заскулили и завертелись на месте.
После этой очереди, мы встали. Володька закинул за спину пулемёт и мы, не торопясь, пошли вдоль лесной опушки. Сзади было слышно, как скулят раненые псы, а вот автоматных очередей не слышно.
– Кажется, преследование прекратилось, – говорю я.
– Они не дураки на пулемёт лезть, – Володька смеётся.
– А чё ж ты мне про пулемёт не сказал?
– Болтун – находка для шпиона. А теперь в отряд. Доложим обо всём и будем ждать решения, – ответил он.
В отряде
Прибыв в отряд, первым кого я увидел, это Лёньку-сорвиголову. Он сидит на поваленном стволе дерева и рассказывает, окружившим его партизанам, что-то весёлое. То и дело раздаётся смех. Увидев меня, он встаёт и идёт навстречу.
– А! Пётр Андрияныч! – рокочет он басом, – добро пожаловать, добро.
– А ты здесь откуда? – спрашиваю его я недоумённо, зная что он служит в полиции у немцев.
– А всё оттуда, – сказал Лёнька и подмигивает товарищам. – Ты со мной тогда не пошёл, а зря. Пришёл я к бургомистру, так и так, хочу служить великой Германии. Небольшую сценку разыграл, мне поверили, выдали обмундирование, сапоги, дали карабин, поставили на довольствие. А довольствие у немцев, это не довольствие в школе. В общем, отъелся я у них, присмотрелся, прознал про партизан. Они как раз партизана из отряда повязали. Вот мы с этим парнем от немцев и ушли, прихватив с собой документы и немецкого офицера.
Без всякого шума и пыли ушли. Этого офицера я подпоил, посадили его в коляску мотоцикла и в отряд. Всё просто. Здесь я воюю в разведке. Ты знаешь, как меня здесь зовут? – и, не дожидаясь ответа, говорит, – Сорвиголова я здесь, – и хохочет. Вишь, как припечаталось, хотя я этого прозвища, что дали мне в школе никому здесь не говорил…
Ты знаешь, я в школе сразу понял, что на партизан нам там не выйти, не по лесам же их бегать искать. Вот и придумал план с полицией. Главное, сработало.
Немного погодя нас, бывших подпольщиков, вызвал к себе командир отряда. Он всё знал и про собаку Питу, и про меткую стрельбу, и про побег из больницы и с принудительных работ.
– Откуда вы всё знаете? – удивляюсь я.
– Если мы ничего не будем знать, а будем только по лесам в землянках сидеть, то грош нам цена, – отвечает он. – А теперь надо подумать, куда тебя, пограничник, определить, чтоб больше толку было.
– Он немного помолчал, потом сказал, – ты, пограничник, пойдёшь в группу подрывников. У нас там ребята лихие, но все из гражданских, военных знаний маловато. Вас ведь в погранотряде хорошо обучали! Пограничные войска всегда были лучшими в войсках СССР. Думаю, про минное дело вам там рассказывали, про всякие там способы скрытности, маскировки в секрете и так далее. Так ведь?!
– У меня было всё на отлично, товарищ командир, – отчеканиваю я.
– Вот и хорошо, – говорит он, – нам у подрывников как раз такой боец и нужен. – Затем говорит Володьке. – Проводите бойца Африкантова к подрывникам, пусть знакомится и воюет.
– Есть воевать! – говорю я громко и, повернувшись по военному, иду к выходу.
– Ну, вот, солдата сразу видно, – донеслось мне вслед.
И потянулись партизанские военные будни. И будни эти были суровые.
Немцы хорошо охраняли железные дороги и мосты, С наскока не возьмёшь. Лес нигде не подступает к железнодорожной насыпи, его на значительное расстояние немцы вырубили; По железке то и дело курсируют дрезины с солдатами – автоматы и пулемёты у них всегда наготове, шныряют обходчики; однако самым паршивым делом – являются секреты и конная жандармерия. Для секретов немцы тайно оборудуют места наблюдений и тщательно их маскируют. В секретах сидит по два-три немца. Они не курят, не шевелятся, не разговаривают и даже не кашляют. Эти, притаившиеся замаскированные фашисты, выявляют партизанские группы подрывников на подходе к железнодорожным магистралям.
Устраивают такие секреты, как правило, в кустарниках. Если солдаты с дрезины, обходчики или наблюдатели секретов обнаруживают партизан-диверсантов они сразу начинают их обстреливать и пускают ракету. Ракета – это сигнал для конной жандармерии. Партизаны, в случае обнаружения, пытаются отойти, но тут в бой вступает конная жандармерия или конная полиция. Они быстро охватывают участок, где обнаружены подрывники, и выйти из этого капкана бывает очень сложно. Как правило, без потерь такие стычки не проходят. Иногда после боя не досчитывается до половины состава группы.
Только и на немецкие премудрости были свои хитрости. Прежде чем бросаться взрывать мост или железнодорожное полотно, мы через своих людей в деревне, или на железнодорожной станции узнаём – уходят ли немцы рано утром или поздно вечером небольшими группами и когда приходят? Если такие факты есть, то можно точно сказать, что уходят они менять секреты.
Узнав, в каком направлении уходят немцы, мы начинаем вычислять точки залегания секретов. Иногда, чтобы определить нахождение немецкого секрета приходится неделю и больше сидеть в своём секрете и наблюдать за продвижениями немцев.
Враг меняет солдат в секретах тоже незаметно. Например, идёт группа немцев, обогнули солдаты с двух сторон невысокий кустарник и продолжили путь дальше. Вроде бы ничего особенного не произошло. Неопытный, боец даже не заметит, как фрицы в считанные секунды заменили свой секрет в кустарнике.
После обнаружения секрета мы не торопимся его уничтожать, а начинаем отслеживать время смены в нём солдат, частоту движения грузовых составов, частоту проезда дрезин и периодичность обхода участков солдатами из роты охраны железных дорог. И только тогда, когда мы это всё узнаем, то и определяем время минирования дороги. То есть, определяем те минуты, когда мы должны начать операцию.
Подходит расчётное время и группа партизан быстро и, главное, бесшумно уничтожает секрет противника, и тут же, не теряя ни минуты, бежит, идёт, или ползёт к железнодорожной насыпи. Обязательно оставляя группу прикрытия.
После минирования железнодорожного пути группа быстро отходит. Закладывает заряд обычно один человек. Он рискует больше всех. Бикфордовых шнуров мало, их экономим. Боец поджигает шнур, или дёргает за бечёвку тогда, когда он видит движущийся поезд и этот поезд уже не может остановиться, даже если машинист видит партизан.
Вот мина сработала, состав летит под откос. С этого момента начинается самый тяжёлый временной отрезок. Немецкие летучие отряды и конная жандармерия не бросаются к месту взрыва. Они стараются охватить это место большим кольцом или полукольцом, если им ясно, куда отходят партизаны. Запереть в этом полукольце партизан – главная задача всех этих конных летучих отрядов. Когда им это удаётся, они при помощи подкреплений прочёсывают это полукольцо и уничтожают партизан.
Только осуществить такое им далеко не всегда удаётся. Если мы оказываемся в западне, то начинаем искать выход из сложившегося положения.
Везение восемнадцатое и девятнадцатое
В этой главе я расскажу, как однажды я со своей группой подрывников попал вот в такое самое окружение.
Тёплый, солнечный осенний денёк. Моё отделение подрывников прошло десятки километров, оно возвращается с задания и уже подходит к своему лесу, где дислоцирован наш отряд. До леса по склону глубокого оврага, чуть больше километра.
Дойдя до небольшого кустарника, мы буквально валимся на землю, ноги не идут. Близость базы нас немного расслабляет.
Мы довольны, как-никак, взорвали линию железной дороги и пустили под откос состав с живой силой и техникой. А вот отход у нас оказался не столь гладким. Мы были зажаты конными егерями и ротой охраны в небольшом леске в клещи и выхода, казалось, не было никакого. В какую сторону не выглянешь из леса – везде по два-три конника, а нас всего шесть человек. Как прорваться? А прорываться надо немедленно. Егеря отрезают нам путь к отступлению и ждут подхода тех солдат, что прочёсывают лес. Егеря никуда не торопятся. Скоро им на помощь подойдёт ещё машина с автоматчиками и вопрос будет решён. Немцы просто выкосят этот лесок автоматными и пулемётными очередями, а то ещё и миномёты применят.
Я командир этого запертого в леске отделения. В голове один вопрос и тот без ответа: «Почему так быстро подошли конные егеря??» По моим расчётам они должны была подойти минут через двадцать, не раньше. Что это – нелепое совпадение, или немцы как-то узнали о выступлении подрывников? Может быть предательство на станции или в деревне? Сейчас на эти вопросы не ответить, надо принимать решение. Идти на прорыв через егерей – значит погубить группу. Отступать назад? Этот вариант не пройдёт – от железной дороги партизан подпирают солдаты из охраны железных дорог. Они идут цепью по лесочку и поливают из автоматов всё, что видят впереди без разбора.
«А что, если?» – мелькнуло в голове.
– Отделение, за мной, – говорю я и бегу назад в сторону прочёсывающих лес солдат, забирая влево. Вскоре мы добежали до огромных елей.
– Прячьтесь за их стволами под ветками, – командую я, и мы ныряем под лапы огромных елей, доходящих до земли, и встаём за стволы. Фрицы обязательно плотно обстреляют эти ели, но стволы пули не пробьют.
Расчёт был рисковый, но в нашем положении, единственно верный. Немецкие солдаты охраны вряд ли будут осматривать каждую ель, и совать голову в их кроны. Они уверены, что русские убегают от них, зачем им прятаться под деревьями? С егерями бы такая обманка не прошла.
Но и солдаты охраны не дураки. Подходя к еле, они начинают её обстреливать, затем проходят её и обстреливают ещё раз с другой стороны. С боку они крону дерева обстреливать не могут, так, как при прочёсывании идут шеренгой и в этом случае обязательно попадут в своих. Мы пользуемся этим и ждём, стоя за стволом, когда немцы пройдут ель, и быстро перемещаемся на другую сторону ствола. Немцы обстреливают дерево с другой стороны, но мы опять не уязвимы.
Мы выждали, когда мимо елей, строча из автоматов, прошли немецкие солдаты. Ещё минута и мы бегом устремляемся по лесу в сторону железной дороги. Пробежав с полкилометра, падаем в заросли шиповника и затаиваемся.
– Мы что, опять к железной дороге идём, – спрашивает меня мой заместитель по кличке Грач. – Там же немцев полно, линию восстанавливают, вагоны поднимают. Разве к ним можно приближаться?
– Там, Грач, сейчас самое безопасное место, – говорю я. – Туда нам надо незаметно подойти. Опять перейдём пересохшую речку и по овражку, что тянется к насыпи, дойдём до железной дороги. Этот овражек мы все видели, во время установки заряда. Когда дойдём до железной дороги, осмотримся. Нам желательно перейти железку и по той стороне от железной дороги уйти.
– А в овражке пересидеть нельзя? – спрашивает Грач.
– Можно, только с одним условием, что к нему никакой солдатик вермахта не пойдёт справить нужду. Егеря, конечно, быстро поймут, что нас в том лесочке нет, и будут искать. Додумаются ли они до того, что мы у железной дороги прячемся, под самым носом у немцев? – вопрос. Хотелось бы, чтоб не додумались.
С моим планом все согласились. Примерно, через полчаса мы уже сидим в овражке около железной дороги и вслушиваемся в гортанную немецкую речь, отрывистые команды унтеров, лязг инструментов о рельсы. Мы ждём своего часа, а точнее своей заветной минуты, чтобы переползти насыпь и рельсы. Но такой минуты нам днём, к сожалению, немцы не предоставили.
Из овражка мы видим, как на противоположной стороне речки, на её пологий берег из леса, откуда мы недавно убежали, выехали на лошадях немецкие егеря. Они осматривают местность, даже смотрят в сторону железной дороги в бинокль. Однако к речке не спускаются, видно решили, что туда, к железной дороге, где полно немцев, мы не сунемся. Это они не сунутся, а мы сунулись. Наконец егеря вздыбили своих широкогрудых и большегривых лошадей и стали на рысях уходить, обходя опушку с левой стороны. В лесу им больше делать было нечего.
Мы же, после ухода егерей, облегчённо вздохнули, дождались густых сумерек, и пошли знакомым нам путём назад. Только до отряда было ещё далековато. Перед этим была ещё ночёвка в лесу и только потом затяжной подъём к заветному лесу, где располагался наш отряд.
Итак, вот он рядом наш лес, там отряд, там заслуженный отдых. Мы лежим в низкорослом кустарнике дикой смородины и щуримся на тёплое солнце. Слева от нас, до самого леса, простирается крутой и широкий овраг. На той стороне оврага селяне копают картошку.
– Остаёшься за старшего, – говорю Грачу, – а я пойду к хозяину, что картошку копает, может табачком разживусь, да и узнаю, как у них в селе немцы есть, или нет?







