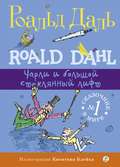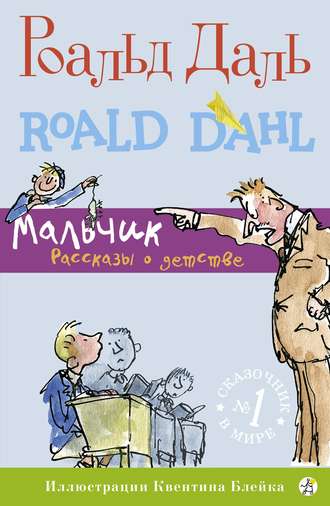
Роальд Даль
Мальчик. Рассказы о детстве
Детский сад, 1922–1923 (6–7 лет)
В 1920 году, когда мне было три года, моя родная сестра Астри, старшая из маминых дочерей, умерла от аппендицита. Ей было всего семь. Столько же, сколько моей старшей дочери Оливии, которая умерла от кори сорок два года спустя.
Астри была любимицей отца, он её обожал. Её внезапная смерть ошеломила его, первые несколько дней он не мог даже говорить. Горе его было так безмерно, что спустя месяц, когда он сам слёг с воспалением легких, его совершенно не интересовало, выживет он или нет.
Был бы тогда пенициллин – ни аппендицит, ни пневмония не представляли бы серьёзной угрозы для жизни. Но пенициллина, как и других чудодейственных антибиотиков, в то время ещё не изобрели, и воспаление лёгких было смертельно опасным недугом. На четвёртый или пятый день наступал так называемый «кризис», больной метался в горячке, пульс учащался – и тогда всё зависело от воли к жизни, от того, готов ли бороться сам пациент. Мой отец отказался бороться. Я уверен, что он думал только об Астри, о своей девочке, и мечтал встретиться с ней на небесах. Поэтому он умер. Ему было пятьдесят семь лет.
Так моя мама за несколько недель потеряла сначала дочь, а потом мужа – одному Богу ведомо, как она это выдержала.
Тут же на неё обрушилось множество проблем и огромная ответственность. Можно себе представить: молодая норвежка в чужой стране, на руках пятеро детей – трое своих и двое приёмных, от первой жены умершего мужа; больше того, она снова была беременна, и до родов оставалось всего два месяца. Более слабая женщина на её месте, вне всякого сомнения, продала бы дом, собрала вещи и уехала бы вместе с детьми прямиком в Норвегию. Ведь на родине у неё остались родители, которые готовы были ей помогать и приняли бы нас с радостью, и две незамужние сестры. Это был бы самый простой выход – но мама его отвергла. Дело в том, что её муж всегда твёрдо и решительно заявлял, что все его дети должны учиться только в английских школах. Английские школы – лучшие в мире, говорил он. Куда лучше норвежских. И даже лучше валлийских – несмотря на то, что именно в Уэльсе он основал свой бизнес. Отец был уверен, что английское образование таит в себе что-то магическое: благодаря ему население небольшого острова превратилось в великую нацию, создавшую великую империю и величайшую литературу. «Никто из моих детей, – повторял он, – не станет ходить ни в какую другую школу. Только в английскую!» И мама твёрдо вознамерилась выполнить волю покойного мужа.

Я и мама, Радир
А значит, ей следовало перебраться из Уэльса в Англию, но мама пока не была к этому готова. Она решила ещё на некоторое время остаться в Уэльсе: тут, по крайней мере, она могла рассчитывать на помощь и советы знакомых – в первую очередь, господина Однесена, делового партнёра и лучшего друга её мужа. Но, хотя она и не собиралась пока уезжать из Уэльса, всё же было ясно, что нам надо переселиться из особняка в дом поменьше. Маме и с детьми хватало забот. Без сельскохозяйственных угодий и большого хозяйства она вполне могла обойтись. Поэтому сразу же после рождения пятого ребёнка (ещё одной дочери) она продала особняк и купила дом поменьше в нескольких милях от Радира – в Лландаффе.
Наше новое жилище именовалось Камберлендской Сторожкой и больше всего походило на уютную загородную виллу. Через два года – когда мне исполнилось шесть – именно здесь, в Лландаффе, я впервые пошёл в школу.
Точнее, это была не школа, а детский сад, он назывался «Под вязом», его содержали и занимались им две сестры – миссис Корфилд и мисс Такер. Поразительно, как мало застревает в памяти человека из раннего детства, лет до семи-восьми. Я мог бы подробно описать всё, что происходило со мной после восьми лет, но о том, что было раньше, – почти никаких воспоминаний. Так, я целый год ходил в садик «Под вязом», но совсем не помню, как выглядела наша классная комната. И не помню лиц миссис Корфилд и мисс Такер – хотя уверен, что обе они были милые и улыбчивые тётеньки. Разве что всплывает в памяти одна-единственная смутная картинка: я сижу на ступеньках крыльца, снова и снова пытаюсь завязать шнурок на ботинке – и никак. Вот и всё, что у меня осталось от той моей первой школы.

Мне шесть лет
Зато я прекрасно помню, как я добирался в школу и обратно, – ещё бы, это же было так волнующе! Наверное, шестилетнего ребёнка только то и интересует – и запоминается, – что доставило ему волнение и радость. В моём случае источником того и другого был мой новенький трёхколёсный велосипед. Каждое утро я садился на него и катил в садик, а рядом катила моя старшая сестра, тоже на трёхколёсном велосипеде. Вижу как сейчас: одни, без взрослых, мы с сестрой на рекордной скорости мчим посреди дороги, но самое восхитительное нас ждёт на повороте, потому что если резко крутануть руль и при этом отклониться в сторону, то одно из колёс отрывается от земли – и мы какое-то время едем на двух. Всё это, как вы понимаете, происходило в старые добрые времена, когда появление авто на дороге было событием: двое малышей на трёхколёсных велосипедах, дзинькая в звонки и перекрикиваясь, спокойно катили по проезжей части – и это было совершенно безопасно.
Вот, пожалуй, и все мои воспоминания шестидесятидвухлетней давности – всё, что осталось от тех детсадовских времён.

Лландафф
Соборная школа,
1923–1925
(7–9 Лет)

Велосипед и кондитерская
Когда мне стукнуло семь, мама решила, что пора забирать меня из садика и переводить в настоящую начальную школу для мальчиков. К счастью, одна как раз такая школа, причём очень известная, находилась всего в миле от нашего дома. Школа эта расположилась в сени Лландаффского собора, а потому она так и называлась – Лландаффская соборная школа. Она и сейчас так называется и по-прежнему находится на том же месте, рядом с собором.

Лландаффский собор
Но опять-таки от тех двух лет, что я туда ходил, мало что запомнилось – точнее, всего два эпизода.
Первый длился не более пяти секунд, зато остался в моей памяти навечно.
Было самое начало моего первого учебного года. Я только что вышел из школы и свернул в сторону дома, когда вдруг, ярдах в двадцати передо мной, по улице пронёсся большой мальчик лет двенадцати на двухколёсном велосипеде. Улица шла под уклон, и мальчик тоже ехал под уклон; поравнявшись со мной, он начал крутить педали в обратную сторону, так что трещотка на его велосипеде оглушительно застрекотала, и одновременно убрал руки с руля и небрежно скрестил их на груди. Замерев, я уставился ему вслед. Он был великолепен. Стремительный, бесстрашный и элегантный, в длинных брюках, прихваченных велосипедными клипсами, в красной школьной фуражке набекрень. Когда-нибудь, сказал я себе, у меня тоже будет такой велосипед, и в один прекрасный день я надену длинные брюки с велосипедными клипсами, сдвину набекрень школьную фуражку, и пронесусь на велосипеде прямо с горы, и буду крутить педали в обратную сторону, и не буду держаться за руль!
Могу сказать точно: если бы в тот момент кто-то взял меня за плечо и спросил: «Мальчик, какое твоё самое большое желание, самая твоя главная, самая возвышенная цель в жизни? Кем ты хочешь стать: врачом? Музыкантом? Художником? Писателем? Или, может быть, лорд-канцлером?» – я ответил бы, не колеблясь ни секунды: моя мечта, моя надежда, моя самая главная и возвышенная цель – иметь вот такой велосипед и съехать на нём с горы, не держась за руль. Сказка! Я трепетал при одной мысли об этом.
Со вторым моим воспоминанием из времён Лландаффской соборной школы дело обстоит сложнее.
Это произошло спустя год с небольшим, когда мне только-только исполнилось девять. К тому времени у меня уже появилось несколько друзей: по утрам я выходил из дома один, но по дороге в школу ко мне друг за другом присоединялись ещё четыре мальчика из моего класса, и к школе мы подходили уже впятером. После уроков мы шли домой. По пути в школу и обратно мы всегда проходили мимо кондитерской лавки, где продавались разные сладости. Точнее, мы как раз никогда не проходили мимо, всегда останавливались. Топчась перед маленьким окошком, которое служило витриной, мы глазели на заполненные до краёв стеклянные банки. Чего в них только не было: леденец «бычий глаз», карамель мятная, карамель клубничная, все виды монпансье, грушевые капельки, лимонные капельки и много чего ещё. Каждому из нас раз в неделю выдавали по шесть пенсов на карманные расходы, и как только кто-то один оказывался при деньгах, мы вместе вваливались в лавку и покупали на всех какого-нибудь лакомства. Лично я всегда выбирал шербет-шипучку или лакричные шнурки.
Но Твейтс – так звали одного из моих приятелей – всегда говорил мне, что не надо есть лакричные шнурки. Потому что их делают из крысиной крови. Твейтсу про это рассказал папа, а папа у Твейтса врач, он знает. Твейтс однажды тоже ел лакричный шнурок; дело было перед сном, когда Твейтс уже лежал в кровати, а папа его застукал и тут же, на месте, просветил. «Все крысоловы в стране, – объяснил ему папа, – везут своих крыс на фабрику лакричных шнурков, и за каждую крысу управляющий платит им по два пенса. Некоторые крысоловы так разбогатели на дохлых крысах, что стали миллионерами».

«Но как же из крыс получается лакрица?» – удивился Твейтс, и папа ему объяснил: «Когда набирается десять тысяч дохлых крыс, их загружают в огромный железный котёл и варят несколько часов. Пока в котле булькает, двое работников с длинными шестами всё время помешивают, чтобы не подгорело. Получается густое крысиное варево, а в самом конце его ещё толкут специальными толкушками, чтобы не осталось ни одной косточки, и тогда варево превращается в настоящее крысево».
«Папа, – спросил тогда Твейтс, – а как же из крысева делают лакричные шнурки?» Тут папа Твейтса на некоторое время задумался, но в конце концов сказал: «Те двое с шестами надевают резиновые сапоги, забираются прямо в котёл и совковыми лопатами выкидывают крысево на бетонный пол. И ещё проходятся по нему несколько раз паровым катком – получается большой-пребольшой чёрный блин. Им остаётся только дождаться, пока он остынет и затвердеет, и разрезать на узкие полоски – шнурки. Не ешь их! – предупредил Твейтса папа. – Не то у тебя разовьётся крысома».

«Что такое крысома, папа?» – спросил Твейтс.
«Видишь ли, все пойманные крысоловами крысы отравлены крысиным ядом. От этого яда и развивается крысома».
«А как она развивается, папа?»
«Сначала зубы становятся тонкими и острыми, – начал папа. – Потом сзади, на том месте, которым сидят, вырастает короткий толстый хвост. И, кстати, крысома неизлечима. Я врач, я знаю».
Мы были в восторге от этого рассказа и заставляли Твейтса повторять его по сто раз, сначала по дороге в школу, потом обратно. Но, разумеется, никто из нас – кроме Твейтса – и не думал отказываться от лакричных шнурков. К тому же это было самое выгодное вложение денег: шнурки продавались по паре на пенс. Лакричный шнурок, на случай если вам не доводилось держать его в руках, – не круглый в сечении, а скорее плоский, похожий на узкую чёрную ленту с полдюйма шириной. В кондитерской лавке шнурок лежал свёрнутым в спираль, но если ты его уже купил, то можно было поднять его за один конец высоко над головой, и тогда второй конец свисал до земли – вот какой длины были эти шнурки во времена моего детства.
Шербет-шипучки шли по той же цене, пара за пенс. Это лакомство выглядело так: жёлтая картонная трубочка, внутри трубочки – шипучий порошок, а снаружи – соломинка из лакрицы (точнее, из крысиной крови, всякий раз напоминал нам Твейтс). И надо было высосать через соломинку весь порошок, а соломинкой закусить – вот это блаженство! Шербет шипел и пенился во рту, а если приноровиться, можно было даже пустить пузыри из носа, будто у тебя припадок.
Ещё в лавке продавались леденцовые бомбы: штука – пенс. Это такие твёрдые шары, каждый размером с помидор черри. Одной бомбы хватало на час непрерывного сосания. Интереснее всего было каждые пять минут вынимать её изо рта и внимательно осматривать – потому что она всё время меняла цвет. Только что была розовая, и вдруг уже голубая, потом зелёная, потом жёлтая; в этом было что-то волшебное. Было совершенно непонятно, каким образом мастера на Бомбовой фабрике добивались такого чудесного эффекта. «Как это? – спрашивали мы друг друга. – Как может цвет всё время меняться?» «Это из-за слюны!» – уверенно заявлял Твейтс. Будучи сыном врача, он считал себя авторитетом по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью человеческого организма. Он, например, мог рассказать, как на ссадине образуется струп и в какой момент его уже можно сдирать. И почему синяк синий, а кровь красная. «Бомба, – упрямо повторял он, – меняет цвет под воздействием слюны!» Но когда мы просили его объяснить про это воздействие поподробнее, он говорил: «Не буду я ничего объяснять, вы всё равно не поймёте».

У грушевых капелек был опасный вкус, и нам это страшно нравилось. Они пахли лаком для ногтей и холодили горло. Нам запрещали их покупать – и мы, естественно, покупали их при всякой возможности.
Ещё были твёрдые коричневые пастилки под названием «горлодёры». Запахом и вкусом пастилки сильно напоминали хлороформ, и мы ни капельки не сомневались, что они пропитаны насквозь этим жутким снотворным, от которого, как нам сто раз объяснял Твейтс, человек засыпает и потом несколько часов не может проснуться.
– Когда мой папа собирается отпилить человеку ногу, – сказал нам Твейтс, – он наливает хлороформ на марлю, человек дышит через неё и засыпает. И папа отпиливает ему ногу, а он даже ничего не чувствует.
– А тогда зачем его подмешивают в «горлодёры», этот хлороформ? – спросили мы.
Вы, верно, думаете, что такой вопрос озадачил Твейтса? Отнюдь. Твейтса ничто никогда не озадачивало.
– Мой папа, – сказал он, – говорит, что «горлодёры» изобрели специально для опасных преступников, которые сидят в тюрьме. Им каждый раз после еды выдают по одной «горлодёрине», и преступники делаются сонными от хлороформа и не бунтуют.
– Это понятно, – не унимались мы, – но детям-то их зачем продают?
– А затем и продают, – сказал Твейтс. – Это такой заговор взрослых против детей. Чтобы нас легче было утихомирить.
Так что кондитерская лавка в Лландаффе 1923 года была для нас центром и смыслом всего – как бар для пьяницы или церковь для епископа. Без неё нам жизнь была бы не в радость. Но у этой лавки был один серьёзнейший недостаток: хозяйка. Эта женщина была настоящим чудовищем. Мы её ненавидели и имели для этого веские основания.
Хозяйку звали миссис Пратчетт. Это была мелкая тощая старая ведьма, ехидная и зловредная. Она никогда не улыбалась, не здоровалась и за всё время не сказала нам ни одного доброго слова, а рот открывала, только чтобы нас припугнуть: «Я всё вижу! Куда тянешь ручонку, попробуй мне только стибрить хоть одну конфетку!..» Или: «Нечего тут топтаться да пялиться без толку! Гоните денежку, или кыш отсюда!»
Самое скверное, что она была ужасная неряха и грязнуля. Противно было смотреть на её серый засаленный фартук, на замызганную старую кофту, всю в чайных потёках, с налипшими крошками и присохшими комочками яичного желтка. Но противнее всего были её руки, чёрные от сажи и въевшейся грязи, – будто она с утра до вечера горстями закидывала уголь в топку. Тут важно помнить, что это были те же самые руки, которыми она лезла в стеклянные банки, чтобы достать нам на пенни ирисок, или мармеладок, или засахаренных орешков, или какого-то другого лакомства. В те времена особых требований к гигиене никто не предъявлял, и никому, а уж тем более миссис Пратчетт, не приходило в голову пользоваться совочками для сыпучих продуктов, да этих совочков тогда ещё и в помине не было. При виде того, как грязные пальцы миссис Пратчетт, с траурной каймой под ногтями, отколупывают со дна банки квадратики шоколадной помадки, думаю, даже изголодавшийся бродяга не стерпел бы и сбежал из этой лавки подобру-поздорову.