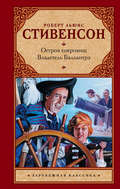Роберт Льюис Стивенсон
Клад под развалинами Франшарского монастыря
– Да, но ведь это воспрещение не может относиться ко мне; этот уговор не обязателен для меня, не правда ли? – встревожился доктор.
– Оно относится решительно ко всем нам, – сказала твердо Анастази.
– Но, ненаглядная моя, ты, вероятно, не так его поняла; это не может относиться ко мне! Он, без сомнения, сам придет ко мне с этим своим горем…
– Клянусь тебе, Анри, что это относится в равной мере и к тебе, как и ко мне и ко всем другим! – сказала жена.
– Это весьма, весьма прискорбное обстоятельство, – пробормотал доктор, и лицо его несколько омрачилось. – Я положительно огорчен, Анастази, уязвлен в моих лучших чувствах, обижен! Да, поверь мне, я глубоко ощущаю эту обиду.
– Я знала, что тебе это будет тяжело, – сказала жена, – но если бы ты только видел его горе и отчаяние! Мы должны сделать ему эту уступку, раз он на ней так настаивает; мы должны принести ему в жертву наши личные чувства.
– Надеюсь, моя милая, что ты никогда не имела основания усомниться в моей готовности всегда поступиться моими чувствами, когда это бывало нужно! – заметил доктор несколько сухо.
– Стало быть, я могу войти к нему и сказать, что ты выразил свое согласие? Это так на тебя похоже, мой славный, мой добрый Анри! В этом сказывается твое благородное сердце! – воскликнула Анастази.
«Да, действительно, – подумал он, – это докажет, какое у меня благородное сердце, какая у меня благородная натура!» И он разом повеселел и преисполнился чувства гордости своей добродетелью.
– Иди, возлюбленная моя, – проговорил он с чувством благородства, – иди и успокой его! Скажи, что вся эта история погребена навсегда! Нет, мало того, я сделаю над собою усилие – ведь ты знаешь, что я приучил свою волю подчинять себе мои чувства, – итак, я сделаю усилие, и все это будет забыто! Совершенно забыто! Так и скажи ему.
Немного погодя чрезвычайно сконфуженный, пристыженный и с опухшими от слез глазами в комнате снова появился Жан-Мари и с большим усердием принялся справлять свое дело. Из всех здесь собравшихся и севших в этот вечер за стол, чтобы поужинать, только он один чувствовал себя пришибленным и несчастным. Что же касается доктора, то он положительно сиял и пропел отходную своим сокровищам в следующих словах.
– В общей сложности, это был весьма забавный эпизод, – сказал он. – Мы ничего решительно от этого не потеряли, напротив, мы даже очень много выиграли. Во-первых, наша философия была испытана и поставлена, так сказать, на пробу. Во-вторых, у нас осталась еще малая толика этой вкуснейшей черепахи, самого полезного из лакомств и самого питательного; затем, я приобрел трость, Анастази – новое шелковое платье, а Жан-Мари является теперь счастливым обладателем кепи новейшего образца. Кроме всего этого, мы еще распили вчера по стаканчику нашего превосходного «Эрмитажа» – воспоминание о нем и теперь еще веселит мою душу. Я положительно скаредничал с этим «Эрмитажем», пусть это послужит мне уроком! Кстати, одну бутылку мы распили, чтобы отпраздновать появление нашего призрачного богатства, так разопьем же теперь другую, чтобы почтить его исчезновение, а третью я предназначаю для свадебного завтрака Жана-Мари!
Глава VII. О том, как обрушился дом Депрэ
До сих пор мы еще не имели любезности удостоить дом доктора Депрэ подробного описания, и теперь, несомненно, пора исправить эту оплошность с нашей стороны, тем более что этот дом является, так сказать, действующим лицом в нашем рассказе, да еще таким, роль которого теперь почти подходит к концу. Дом этот был двухэтажный, окрашенный в густо-желтую краску, с коричневой разных тонов черепичной крышей, поросшей местами мхом и лишайником; он стоял в крайнем углу земельного участка доктора и выходил одним фасадом на улицу. Внутри он был просторный, но неудобный: везде гуляли сквозняки; балки на потолке были узорчатые, разукрашенные причудливыми рисунками; перила лестницы, ведущей наверх, были резные, изображавшие какие-то арабески в деревенском стиле; здоровенный деревянный столб, также резной, на манер причудливой колонны, поддерживавший потолок столовой, был изукрашен какими-то таинственными письменами, «рунами», по мнению доктора, который никогда не забывал, повествуя кому-нибудь легендарную историю этого дома и его владельцев, упомянуть и даже остановить внимание слушателя на некоем скандинавском ученом, будто бы оставившем эти письмена. Полы, двери, рамы и потолки – все давно уже перекосилось и разошлось в разные стороны; каждая комната в доме имела свой уклон; гребень крыши совершенно накренился в сторону сада, на манер падающей башни в Пизе. Один из прежних хозяев этого жилища, опасаясь обвала дома, подпер его с этой стороны надежным контрфорсом. Короче говоря, множество признаков разрушения можно было насчитать в этом доме; и, вероятно, крысы бежали бы из него, как бегут с корабля, обреченного на гибель. Но содержался он в самой образцовой чистоте и порядке: оконные стекла всегда блестели, медные приборы дверей и оконных рам сияли как жар; краска дома постоянно обновлялась и освежалась, и даже сам деревянный контрфорс был весь увит цветущими вьющимися растениями. Благодаря этому образцовому содержанию, придававшему этому дому вид добродушного и веселого старого ветерана, пользующегося хорошим и любовным уходом и улыбающегося вам, сидя в своем кресле и греясь на солнышке в углу сада, только благодаря этому образцовому содержанию можно было, глядя на него, подумать, что в этом доме могут жить порядочные, с достатком люди. У других, более бедных и неряшливых хозяев, этот старый дом уже давно обратился бы в жалкую развалину, возбуждающую отвращение и вызывающую пренебрежение, но в том виде, в каком он был, вся семья очень его любила, и доктор никогда не уставал превозносить и восхвалять различные его достоинства. Он даже, почему-то особенно вдохновлялся и воодушевлялся, когда начинал рассказывать воображаемую историю этого дома и расписывать характеры его последовательных владельцев, начиная с богатого торгаша еврея, впоследствии крупного капиталиста-коммерсанта, который будто бы вновь отстроил этот дом после разгрома города Гретца. Далее он упоминал непременно и о таинственном авторе мнимых «рун» и кончал длинный ряд вымышленных биографий длинноголовым мужчиной с вечно грязными ногтями и немытыми руками, от которого он сам приобрел этот дом и землю, будто бы втридорога! Никому никогда в голову не приходило высказывать какие-нибудь опасения относительно благонадежности этого дома; то, что простояло столько веков, могло, конечно, простоять и еще некоторое время!
Но в ту зиму, которая наступила после находки и исчезновения клада, семья Депрэ испытала еще иного рода тревогу и огорчение – тревогу, которую они принимали гораздо ближе к сердцу, чем всю эту историю с Франшарским кладом. Жан-Мари стал сам не свой: на него находила временами какая-то лихорадочная деятельность, и тогда он работал в доме за двоих, проявлял удивительное прилежание даже в своих учебных занятиях, изо всех сил старался угодить всем и даже силился быть словоохотливым, то есть говорил много и быстро. Но за такими днями наступали дни полнейшей апатии и глубокой меланхолии, дни молчаливого, глубокомысленного раздумья, и тогда мальчик становился почти невыносим.
– Теперь ты сама видишь, Анастази, – доказывал доктор, – к чему оно приводит, это молчание! Если бы мальчик вовремя открыл мне всю свою душу, то ничего подобного не было бы! И вся эта неприятная история, вызванная некрасивым поступком Казимира, была бы теперь давно забыта, тогда как теперь мысль об этом угнетает, давит и мучает мальчика, как какой-нибудь недуг. Он сильно худеет, аппетит у него неровный, здоровье уходит, замечается полное расстройство, и нервное, и физическое! Я держу его на строжайшей диете, даю ему самые сильные укрепляющие и успокаивающие средства, и все это напрасно!
– Уж не слишком ли ты его пичкаешь всякими лекарствами? – заметила Анастази и сама невольно вздрогнула при этом вопросе.
– Я? Пичкаю лекарствами? Я?! – воскликнул доктор. – Да ты с ума сошла, Анастази! Как ты можешь говорить такие вещи!
Время шло и состояние здоровья мальчика заметно ухудшалось. Доктор винил погоду, которая все время стояла холодная и бурная, но тем не менее пригласил своего коллегу из Буррона. Почему-то он вдруг возлюбил его, стал превозносить и восхвалять его дарование и вскоре сам обратился в его пациента, хотя трудно было бы сказать от чего он, собственно, лечился. И он, и Жан-Мари должны были постоянно принимать различные лекарства в разное время дня. Доктор завел привычку лежать на диване и ожидать времени приема лекарства с часами в руках. «Ничто не может быть так важно, как точность и аккуратность», – говорил он, отсчитывая капли или отвешивая порошок и при этом распространяясь о великих целебных свойствах данного лекарства. Если мальчик, несмотря ни на что, нисколько не поправлялся, то доктор, с другой стороны, чувствовал себя отнюдь не хуже прежнего.
В День порохового заговора мальчик как-то особенно упал духом. Погода стояла отвратительная, пасмурная, дождливая с сильным порывистым ветром; над головой быстро проносились целые вереницы темных косматых туч; резкие проблески яркого солнца минутами заливали светом всю деревню, и вслед за тем наступали мгла и мрак и начинался крупный, косой и хлесткий дождь. Время от времени ветер, усиливаясь, начинал грозно выть и реветь; деревья вдоль полей и лугов гнулись и корчились, словно в судорогах, и последние осенние листочки неслись по дорогам, как пыль в жаркий летний день.
Доктор, озабоченный в одинаковой мере и состоянием мальчика, и состоянием погоды, был как раз в своей стихии – теперь он мог доказать еще новую теорию. Сидя с часами в руках и с барометром перед глазами, он выжидал с напряженным интересом каждый шквал ветра, наблюдая его действие на человеческий пульс. «Для истинного философа, – заметил он с восхищением, – каждое явление в природе является одновременно и забавой, и наукой». Ему принесли письмо, но в этот момент он ожидал нового порыва ветра и потому торопливо сунул письмо в карман, подал знак Жану-Мари, и в ту же минуту оба они принялись считать свой пульс, словно взапуски или на пари. К ночи ветер перешел в настоящую бурю, осаждая бедную деревушку со всех сторон; казалось, будто кругом шла пальба из орудий бесчисленных батарей; строения дрожали, скрипели и стонали, словно больные в агонии; из очагов и каминов выбивало в комнату дым и разбрасывало по полу горячие уголья. Шум и вой бури мешал людям спать, и все эти люди сидели с бледными испуганными лицами, прислушиваясь к тому, что происходило кругом.
Было уже за полночь, когда семейство Депрэ удалилось наконец на покой. Около половины второго, когда буря, уже достигнув своего апогея, стала как будто несколько стихать, доктор вдруг пробудился от тревожного сна и сел на своей постели. Какой-то странный шум еще звенел у него в ушах, но он не мог дать себе отчета, слышал ли он этот шум наяву или во сне. Вскоре последовал новый порыв ветра, и при этом ощутилось сильное колебание всего дома, вызвавшее у доктора состояние, сходное с приступом морской болезни, а в следующий затем момент затишья доктор явственно услышал, как черепицы крыши посыпались с шумом на чердак над его головой. Не теряя ни минуты, он буквально выхватил жену из кровати и крикнул ей:
– Беги! Дом рушится! Беги в сад! – И второпях сунул ей в руки какие-то принадлежности туалета.
Она не стала дожидаться повторения этого приглашения. В одну минуту она сбежала с лестницы и была уже внизу. Никогда она не подозревала в себе такой прыткости и такой деятельности. Тем временем доктор с поспешностью и суетливостью марионетки из кукольной комедии, не смущаясь мыслью о возможности и риске сломать себе шею, кинулся вызволять Жана-Мари и Алину, которую он вынужден был пробудить от ее девственного сна, схватить за руку и силой тащить за собой по лестнице и в сад, Та, спотыкаясь, бессознательно бежала за доктором, все еще не вполне очнувшись и не сознавая, что вокруг нее происходит.
Все беглецы, точно условившись заранее, руководствуясь каким-то бессознательным инстинктом, собрались в беседке. Между гонимых ветром, разорванных клочков туч в образовавшийся просвет, словно в слуховое окно, на мгновение проглянула луна и осветила четыре полунагие фигуры, жавшиеся от холода и страха к стенкам зеленой беседки, с развевающимися от ветра белыми тканями, кое-как прикрывавшими их наготу. При виде этой позорной и унизительной картины Анастази с горестными воплями стянула вокруг себя свою ночную сорочку и, забившись в самый темный угол, громко расплакалась. Доктор кинулся к ней, желая ее утешить, совершенно забывая о своем жалком виде, но жена оттолкнула его сердито от себя, видимо стыдясь и за него и как будто избегая даже и его близости. Ей казалось, что все кругом посторонние зрители, и что тьма, царящая кругом, кишит невидимыми жадными глазами, устремленными на нее.
Очередной свирепый порыв ветра с новым проблеском света отвлек внимание всех присутствующих в сторону дома; все видели, как он зашатался в самом своем основании и в тот момент, как скрылась луна, с оглушительным треском, покрывшим вой бури и шум деревьев, рухнул. На одно мгновение весь сад наполнился осколками летящих черепиц, щепок, разбитых оконных стекол и всякого рода обломками; один из таких оглушительных снарядов задел доктора по уху. Другой попал в голую ногу Алины, и та огласила дикими воплями всю деревню. Тем временем люди кругом зашевелились, стали выползать из своих домов, в окнах показались огни, послышались оклики дружеских встревоженных голосов, на которые отзывался доктор, благородно оспаривая первенство у Алины и ревущей кругом бури. Однако эта возможность помощи и содействия со стороны соседей и односельчан только пробудила в Анастази еще большие отчаяние и ужас.
– Анри! Люди сюда придут! – кричала она над самым ухом мужа. – Я не хочу! Я не могу!..
Но последние слова заглушали слезы.
– Да, я надеюсь, что они придут нам на помощь, это вполне естественно, друг мой.
– Нет, нет! Пусть не идут! Я лучше готова умереть! – рыдала она.
– Дорогая моя, – укоризненно сказал доктор, – ты слишком возбуждена и взволнована; ведь я же сунул тебе какую-то одежду, куда ты ее дела?
– Ах, я, право, не знаю, – я, вероятно, бросила где-нибудь по дороге в саду… Ах, где же, где эта одежда?
Депрэ стал искать ощупью в темноте и вскоре нашел.
– Вот превосходно-то! – воскликнул он. – Это мои серые бархатные брюки! Как раз то, что тебе нужно!
– Давай их сюда! – сердито закричала Анастази, но как только она взяла их в руки, мысль надеть мужские панталоны показалась ей чудовищной. С минуту она стояла молча, держа их в руках, затем сунула их обратно мужу и сказала: – Дай их Алине! Бедняжка, ведь она девушка…
– Глупости! – возразил доктор. – Алина ничего не сознает, она себя не помнит от страха, и кроме того, она простая крестьянка. Но я серьезно опасаюсь за тебя, ты такая неисправимая домоседка, тебе подвергать себя действию этого холодного ночного воздуха положительно опасно. Как видишь, и моя забота о твоем здоровье, и твоя фантастическая стыдливость клонятся к одному и тому же средству спасения – к моим панталонам. – И он снова протянул их к жене, держа совсем наготове.
– Нет, это невозможно, невозможно! – воскликнула она. – Ты этого не можешь понять, – добавила она с достоинством, – но не убеждай меня больше!
Тем временем уже подоспела помощь. Со стороны улицы невозможно было проникнуть в сад, так как ворота и калитку завалило кирпичом и обломками балок, и устоявшие еще остатки дома ежеминутно грозили обрушиться и засыпать неосторожных, которые осмелились бы подойти слишком близко. Но, по счастью, между садом доктора и соседским огородом, лежащим вправо от владений Депрэ, находился живописный и столь полезный во многих случаях деревенской жизни общественный колодец. Оказалось, что калитка в ограде докторского сада была не заложена и не замкнута, и под сводчатым входом этой калитки, слегка приотворившейся, просунулась в щель сперва бородатая физиономия мужчины, а затем волосатая, мозолистая рабочая рука с фонарем, осветившим то таинственное царство мрака, где несчастная Анастази скрывала свое отчаяние. Свет ложился пятнами то тут, то там между корявыми и частыми стволами старых яблонь и груш, скользил по мокрым от росы и дождя лужайкам, но центром всеобщего внимания был не свет фонаря, а сам фонарь и ярко освещенное им лицо человека, явившегося на помощь пострадавшим. Только одна Анастази всячески старалась укрыться, спрятаться от него, забираясь в самый дальний и самый темный угол беседки, и испытывала болезненное, неприятное чувство от этого вторжения постороннего человека в пределы ее владений.
– Сюда, сюда! – кричал человек с фонарем остававшимся за его спиною людям. – Все ли вы живы? – спрашивал он находившихся в саду.
Алина, продолжая визжать, кинулась к вновь пришедшему, и ее тотчас же подхватили сильные руки и протащили в щель полузаваленной калитки головой вперед на улицу.
– Ну, Анастази, теперь иди ты, – сказал доктор, – теперь твоя очередь.
– Я не могу!.. Нет, нет, я не могу!.. Оставь меня, – простонала госпожа Депрэ.
– Неужели же нам всем из-за тебя тут погибать! – крикнул муж. – Оставаясь неодетым здесь, на таком холоде, можно простудиться и умереть!
– Нет, нет! Иди ты, иди пожалуйста! Уходите все, прошу вас, оставьте меня здесь; мне теперь совершенно тепло, уверяю тебя, Анри!
Но доктор в ответ на это крепко выругался и схватил жену за плечи.
– Постой, – умоляюще крикнула Анастази, – постой, я их надену!
И она опять взяла в руки одолженную ей принадлежность туалета, но отвращение к этого рода одежде взяло в ней верх даже над ее стыдливостью.
– Нет! Никогда! – воскликнула она, содрогаясь, и отбросила их далеко от себя.
Еще минута, и доктор силой поволок ее к калитке. Тут стоял крестьянин с фонарем. Анастази закрыла глаза, и ей казалось, что она умирает.
Она совершенно не помнила, как ее вынесли сквозь щель калитки и как она очутилась по ту сторону стены. Здесь ее тотчас же обступили соседки и завернули ее в большое, теплое одеяло; таким образом, они положили конец ее мучениям и отчаянию.
Для обеих женщин приготовили кровати, а для доктора и Жана-Мари принесли всякого рода платье и приготовили теплый грог. Остаток ночи, пока Анастази дремала, а по временам, пробуждаясь, плакала и чуть не впадала в истерику. Доктор провел в кресле перед камином, услаждая слух внимавших ему с удивлением соседей, которым он подробно разъяснил причины катастрофы.
– Уже многие годы наш дом грозил рухнуть, – уверял он, – и я это знал, один признак за другим указывали на это: то ослабевали скобы, то появлялись трещины в штукатурке, то стены подавались внутрь или выпячивались местами наружу, а в конце концов, всего каких-нибудь три недели тому назад, тяжелая дубовая дверь моего винного погреба вдруг стала плохо, с трудом отворяться, вследствие того что сели и покосились косяки. Да, погреб! – повторил он озабоченно, сокрушенно покачав головой и на минуту призадумавшись над стаканом глинтвейна. – Ведь у меня там были порядочные запасы доброго вина. По счастью, судьба распорядилась так, что «Эрмитажа» там почти не осталось! Я потерял в этой катастрофе всего одну бутылку этого несравненного вина, ту, которую я предназначал к свадьбе Жана-Мари. Ну, что делать, придется позаботиться о новых запасах, это придаст даже новый интерес жизни! Но вот что печально: я человек уже не в молодых годах, мне начинать все снова трудно, а мой громадный научный труд лежит теперь погребенным под развалинами моего скромного жилища. Он останется незаконченным, и мое имя никогда не увидит славы и известности, о которых я робко мечтал в тишине моего уединения! Все это я отлично сознаю и понимаю, и, тем не менее вы видите меня совершенно спокойным, я хотел бы даже сказать, веселым! Да, друзья мои, даже ваш патер не выказал бы большей покорности своей судьбе и большего стоицизма в подобном случае, не правда ли?
Тем временем стало светать, и с первыми лучами рассвета мужчины, теснившиеся до сих пор у камина, вышли на улицу. Ветер стих, но все еще гнал обрывки темных дождевых туч по мутно-серому небу. Воздух был резкий, режущий, точно морозный, и люди, стоя вокруг развалин обрушившегося дома, дули себе в кулаки, чтобы согреться, и кутались в свои одежды, чтобы защитить себя от пронизывающей сырости этого дождливого, пасмурного дня. Дом доктора Депрэ рухнул окончательно: стены обвалились наружу, а крыша ввалилась внутрь. Теперь он представлял собой просто груду мусора, среди которого там и сям торчали, словно шпили или мачты, обломки бревен и балок. Оставив подле развалин человека для охраны имущества, вся честная компания отправилась в гостиницу госпожи Тентальон разговеться и угоститься за счет пострадавшего. Чарочки весело заходили по столу, настроение у всех стало самое добродушное, а к тому времени, когда компания встала наконец из-за стола и собралась расходиться по домам, на дворе пошел снег.
В продолжение целых трех суток все время падал снег, развалины накрыли брезентами, а безотлучно находившиеся при них караульные никого к ним не допускали.
Семья Депрэ поселилась временно в гостинице госпожи Тентальон. Анастази проводила время на кухне, приготовляя кое-какие лакомые блюда для мужа при содействии восхищенной ее искусством и кулинарными познаниями госпожи Тентальон или же сидела неподвижно перед камином в глубокой задумчивости. Собственно говоря, постигшая их беда весьма мало трогала ее, быть может потому, что за этим ударом последовал другой, более чувствительный для бедной женщины. Сотни раз переживала она трагический в ее глазах инцидент с серыми бархатными штанами. Хорошо ли, правильно ли она поступила тогда, отказавшись надеть их? Или, быть может, она была не права и сделала дурно, что не надела их? Иногда она одобряла свое поведение в эту роковую ночь, иногда же, вся вспыхнув при воспоминании о перенесенном ею позоре, горько раскаивалась и сожалела о том, что не надела панталон. Ни один из случаев во всей ее жизни не вызывал у нее стольких размышлений и столь продолжительной умственной работы. Тем временем доктор казался весьма доволен своим новым положением. Двое из летних жильцов госпожи Тентальон застряли, отстав от остальных своих товарищей, за отсутствием средств для выезда, так как им почему-то не высылали денег. Оба они были англичане, но один из них довольно свободно и бегло изъяснялся по-французски и был к тому же человеком словоохотливым, большим юмористом, живым и веселым малым. С ним доктор мог беседовать часами, заранее уверенный в том, что он будет понят и оценен. Много стаканчиков распили они вместе и много различных тем обсудили к обоюдному удовольствию.
– Анастази, – почти укоризненно сказал жене доктор на третьи сутки после катастрофы, – бери пример со своего мужа и Жана-Мари! Как ты видишь, возбуждение той ночи принесло ему больше пользы, чем все мои микстуры и всевозможные укрепляющие средства, и я замечаю, что он с положительной охотой отбывает свои часы дежурства в качестве охранителя нашего погибшего имущества. А что касается меня, то посмотри на меня – видишь, я сдружился с этими египтянами, и клянусь небом, что мой фараон весьма приятный собеседник. Только ты одна пала духом из-за обрушившегося дома и кое-какого тряпья! Что все это в сравнении с моей «Фармакопеей», моим многолетним научным трудом, который лежит теперь, погребенный под мусором и камнями в этой жалкой деревушке. Что из того, что падает снег! Я весело стряхиваю его с моей одежды! Подражай мне и ты! Я знаю, что наши доходы теперь несколько уменьшатся, так как нам придется заново отстраивать дом, но с умеренностью, аккуратностью, терпением и философией можно все преодолеть и со всем примириться. А пока Тентальоны внимательны и услужливы, стол с теми приятными добавлениями, которые ты нам доставляешь, весьма удовлетворителен. Вот только вино нестерпимо скверное, но я сегодня же выпишу хорошего вина, и мой фараон, я уверен, будет весьма рад выпить со мной стаканчик-другой приличного вина! И тут-то мы увидим, одарен ли он от природы высшей утонченностью человеческого организма – чувствительным нёбом, способным уловить тонкий аромат и вкус вина! Если еще и это, то он прямо-таки совершенство!
– Анри, – сказала жена, печально качая головой, – ты не можешь этого понять, ты мужчина, и мои чувства для тебя недоступны. Ни одна женщина не в состоянии изгнать из своей памяти пережитый ею позор и унижение, публичное унижение!
Доктор не смог удержаться и захихикал.
– Прости меня, возлюбленная моя, но, право, для философски настроенного ума это такие пустяки, что о них даже говорить и упоминать не стоит. И, кроме того, могу тебя уверить, ты была чрезвычайно мила в твоем ночном дезабилье.
– Анри! – возмущенно воскликнула она.
– Ну-ну, я ничего больше не скажу, – поспешил он успокоить жену, – хотя, конечно, если бы ты тогда согласилась… ну да… Кстати, – вдруг прервал он себя, – а где же остались эти мои штаны? Мои любимейшие серые брюки? Верно, лежат там на снегу! – И он кинулся разыскивать Жана-Мари.
Два часа спустя мальчик вернулся в гостиницу с лопаткой в одной руке и странного вида комком платья в другой.
С сокрушенным видом принял доктор этот бесформенный комок из рук мальчика и прочувствованным голосом сказал:
– Они были когда-то брюками! Но теперь их время прошло, их песня спета! Прекрасные панталоны, вы уже больше не существуете! Постой, тут что-то есть в кармане! – И он вытащил смятый комок бумаги. – Письмо! – воскликнул он. – Ну да, я теперь припоминаю, я получил его в самый день катастрофы, когда так свирепствовала буря и я был занят своими наблюдениями. Но, к счастью, письмо еще сохранилось довольно хорошо, так что его можно разобрать. Это от добрейшего бедняги Казимира! Ну, да это не-плохо, что я приучу его немножечко к терпению! – продолжал он с ироническим смешком. – Это ему весьма полезно. Бедняга Казимир с этой своей бесконечной, глупой, пустой, ненужной корреспонденцией доходит прямо до идиотизма. – И, говоря это, доктор осторожно развернул мокрое, отсыревшее письмо, но когда он принялся разбирать его, лицо его сразу омрачилось.
– Bigre! – воскликнул он, вскочив, точно его подкинуло гальваническим током.
Письмо полетело в огонь камина, и в тот же момент его черная ермолка очутилась у него на голове, и он направился к двери.
– Еще десять минут осталось! Если я бегом побегу, то могу еще захватить его, он всегда опаздывает, этот поезд, – бормотал доктор. – Я еду сейчас в Париж, буду телеграфировать оттуда, – добавил он на бегу.
– Анри, ради Бога, скажи, что случилось! – молила жена.
– Турецкие акции! – крикнул он. – Турецкие… акции… – И он исчез за дверью.
Анастази и Жан-Мари остались с мокрыми серыми брюками в руках в полном недоумении. Депрэ уехал в Париж! Это было всего второй раз за все семь лет пребывания его в Гретце, и уехал в деревянных крестьянских башмаках, в вязаной фуфайке и черной рабочей блузе, в ермолке вместо шляпы на голове и с двадцатью франками в кармане. Теперь даже разрушение дома являлось событием второстепенной важности. Пусть бы теперь обрушился весь мир, и тогда бы семья доктора не была более удивлена и поражена, чем в настоящий момент.