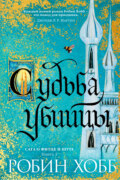Робин Хобб
Магия отступника
Глава 9
Путь во тьме
Мальчик-солдат проснулся первым. Я не спал уже несколько часов, один в его замутненной сном голове, чувствуя себя неприятно беспомощным. Я знал, что он что-то задумал, что-то такое, что навсегда повлияет на нас обоих, но не имел представления, что именно и как я могу это изменить. Я снова пытался сдвинуть собственное тело, «бродить во сне», пока он был не в сознании, но не преуспел в этом. Мне оставалось только ждать.
Он медленно потянулся, помня о спящих по бокам, потом неловко высвободился из-под их тел. Оба тут же сползлись на нагретое им место, устроившись под одеялом с куда большим удобством. Он отошел в сторонку облегчиться. Над головой зияла узкая полоска голубого неба. Я попытался понять, действительно ли горы наклонены друг к другу, или так кажется из-за расстояния.
Вернувшись к Оликее и Ликари, он нашел их тесно прижавшимися друг к дружке. Оликея обняла сына, и их лица в полумраке казались удивительно умиротворенными. Я задумался, кто приходится отцом ребенку и где он сейчас. Мальчик-солдат гораздо лучше меня понимал обычаи спеков. Я нашел ответ в его памяти. Спеки редко выбирали пару, чтобы быть вместе до конца дней. Их семьей был клан, и именно он растил детей, рожденных его женщинами. Обычно отцы детей не входили в тот же клан, и молодые женщины завязывали с ними краткие отношения во время путешествия на зимовье или ярмарку. Мальчику не обязательно было знать, кто его зачал, хотя обычно они знали. Чаще всего отцы не уделяли внимания сыновьям, пока те не становились достаточно взрослыми, чтобы учиться охотничьим обрядам. Тогда мальчик мог решить, покинет ли он клан ради отцовского или останется с родичами матери. Женщины почти никогда не покидали клан. У спеков это было не в обычае.
– Пора выдвигаться, – сообщил мальчик-солдат, голос его прозвучал как-то странно.
Оликея заворочалась, Ликари заворчал, потянулся и снова свернулся в тугой клубочек. Он хмурился во сне. Оликея открыла глаза и вздохнула:
– Ночь еще не настала.
– Нет. Но я хочу выйти сейчас. Ночи становятся холоднее. Я не хочу, чтобы морозы застали меня здесь.
– Теперь его это забеспокоило, – пробормотала себе под нос Оликея и потрясла Ликари за плечо. – Просыпайся. Пора в дорогу.
К быстроходу мы не прибегли. Сверху на нас лился свет дня. Прежде я никогда не встречал столь диковинного естественного образования. То, что казалось ущельем между двумя горами, сузилось до трещины. Мы шли по ней, поглядывая на небо, которое с каждым нашим шагом все отдалялось и отдалялось. Стены расщелины были слоистыми, причем пласты камня лежали под углом к дну. Внизу ее устилали каменные осколки, нападавшие сюда за многие годы, однако по ним вела утоптанная дорожка. В щелях рос мох и какие-то крохотные растеньица.
Ближе к вечеру трещина, сквозь которую виднелось небо, сузилась до далекой ленточки темно-синего цвета. Мы подошли к месту, где по скальным стенам сочилась вода. Она собиралась в каменном углублении, переливалась через край и еще некоторое время бежала ручейком вдоль нашей тропы, пока не исчезала в трещине. Мы наполнили мех и напились сладкой ледяной воды. Вдоль ручейка пробивалась какая-та зелень, но не слишком пышная. Эти растения, судя по всему, совсем недавно ощипали до самых корней. Оликея сердито проворчала, что нам ничего не оставили; обычай требовал, чтобы несколько листьев всегда приберегали для тех, кто пойдет следом. Мальчик-солдат, у которого громко бурчало в животе, опустился на колени и, окунув руки в ледяную воду, легко коснулся переплетения корней.
Я почувствовал, как в нем вспыхнула и тут же отступила магия. Он вынул руки и медленно встал, стряхивая ледяные капли с ладоней. Примерно на шесть футов вокруг растения выбросили свежие листочки. Оликея радостно вскрикнула и торопливо принялась собирать урожай.
– Не забудь часть оставить, – напомнил ей мальчик-солдат.
– Разумеется.
Они грызли листья на ходу. Скудная пища не могла утолить голод мальчика-солдата, но помогала о нем не думать. Они почти не разговаривали. Светлая полоска у нас над головой продолжала сужаться. Холод не отступал и, думаю, мучил всех, но никто не жаловался. Это обстоятельство приходилось просто терпеть.
Мои глаза привыкли к сумраку. Как и днем ранее, Оликея принялась собирать остатки факелов и кусочки дерева. Мальчик-солдат ничего не сказал, но замедлил шаг, чтобы она не отстала. Вскоре мы вышли еще к одному сбегающему по стене ручью. На сей раз чаша оказалась явно рукотворной. Она была размером с ванну, и края ее заросли бледным мхом. Вода, выливавшаяся из нее, исчезала в темном желобе, некогда, вероятно, прорубленном людьми, но давно сглаженном потоком. Ликари снова наполнил мех, и мы все напились.
– Нам стоило взять с собой факелы, – с беспокойством заметила Оликея, когда мы ушли от ручья.
Вскоре я понял, о чем она говорила. Щель над головой, сквозь которую сочился рассеянный свет, исчезла. Я посмотрел вверх, но так и не разглядел, заросла ли она листвой, или скалы действительно сомкнулись. Неожиданно мне стало очень не по себе. Я не хотел глубже заходить в эту расщелину, превратившуюся теперь в пещеру. Однако даже если мальчик-солдат или его спутники и разделяли мою неуверенность, виду они не показали. Я ощутил, как мальчик-солдат обратился к своей магии, и нас окружило озерцо тусклого света. Мы двинулись дальше, Оликея и Ликари старались держаться поближе к нему.
Сперва я предположил, что мрак вскоре рассеется. Я все еще надеялся, что щель вверху вот-вот появится снова. Но я ошибся. Ручеек, бегущий вдоль нашей тропы, давал о себе знать журчанием и влагой в воздухе. Холод сделался промозглым, с узнаваемым запахом воды и растительности. Наше свечение на краткий миг выхватывало из мрака белый мох и облепивший стены лишайник. Когда Оликея заметила семейку бледно-желтых грибов, свесившихся из мшистой трещины, она радостно вскрикнула и бросилась поспешно их собирать. Она разделила свою добычу между нами, и мы съели ее на ходу. После этого, как мне показалось, мальчик-солдат начал яснее воспринимать пещеру. У него словно бы прибавилось сил, и свечение, которое он испускал, сделалось ярче. Оликею и Ликари грибы тоже явно подкрепили, и еще некоторое время мы шли быстрее.
Изредка я слышал всплески, как будто наше свечение спугивало маленьких рыбок или лягушек. Блеск скальной стены в этой части пещеры подсказывал, что еще больше воды стекает по ней, питая ручеек. Он весело журчал вдоль тропы, и это куда в большей степени, чем ощущение уклона под ногами, убеждало меня, что наш путь постепенно уводит нас вниз.
Когда мальчик-солдат наконец решил сделать привал, остальные уже успели сбить ноги, замерзнуть и вымотаться. Оликея явно обрадовалась тому, что он выбрал обычную стоянку. Здесь пещера заметно расширялась, а посередине виднелся большой почерневший круг. Оликее удалось собрать немало обгорелого дерева, и, пока она разводила костер, Ликари отправился проведать странное сооружение, возведенное в ручье. Он вернулся с тремя бледными рыбами:
– Верша была почти пустой. Это все, что удалось в ней найти.
– Обычно она кишит рыбой, и то не вся помещается. – Оликея многозначительно покосилась на мальчика-солдата.
– Скорее всего, в этом году мы проходим последними. Когда идешь по пятам стольких людей, неудивительно, что все, что можно, уже поймано и собрано до нас. Трех рыб нам на сегодня будет достаточно.
– Достаточно? – потрясенно переспросила она.
– Никто из нас не умрет от голода, – пояснил он.
– Но когда мы прибудем на зимовье, ты не будешь выглядеть великим.
– Это моя забота, а не твоя, – укорил ее он.
– Значит, меня не должно заботить, если все вокруг начнут высмеивать меня – мол, я забочусь о своем великом так плохо, что он похож на мешок с костями? Не должно заботить, что на зимовье тебе может не хватить магии, чтобы разжечь себе костер? Я буду унижена, а тебя станут высмеивать и презирать. Это тебя не волнует?
– Меня больше волнует другое, – сообщил он ей и отвернулся, показывая, что разговор окончен.
Бормоча что-то себе под нос, она занялась рыбой. Ликари бродил на границе освещенного круга, изучая забытый хлам. Вскоре он подошел к костру с куском изорванной ткани.
– Мы можем сделать из этого обувь? – спросил он ее, и они вместе занялись делом.
Мальчик-солдат оставил их и двинулся в сторону, и с ним вместе – его собственное свечение. Он направлялся к стене пещеры. Потолок там нависал низко, но он наклонился и еще некоторое время шел пригнувшись. В тусклом свете я видел лишь каменный пол под его ногами. Его спина заныла, а я гадал, куда и зачем он идет. Когда потолок снова стал выше, он выпрямился в полный рост, закрыл глаза, с силой выдохнул, и вокруг вдруг вспыхнуло яркое сияние. Это было уже не его собственное свечение. Мы оказались в другой пещере, отделенной от длинного прохода, по которому шли, огромной, точно бальный зал, и на ее стенах, куда бы я ни взглянул, сверкали кристаллы. Мальчик-солдат каким-то образом пробудил в них свет, и они озаряли пещеру.
Когда он к ним приблизился, они вспыхнули ярче. Они были влажными, блестящими и словно росли прямо из стен пещеры – большие, с хорошо различимыми гранями, и совсем крошечные, яркие искорки на темных стенах. Мальчик-солдат довольно долго их разглядывал, затем выбрал выступающий кристалл и отломил его от стены. Удивительно, как легко он отделился от основания и насколько острым оказался. С пальцев мальчика-солдата капала кровь, пока он нес свою добычу на середину пещеры.
Там обнаружился прудик, настолько же темный, насколько ярко сияли кристаллы. Мальчик-солдат тяжело опустился наземь рядом с ним. Затем он окунул туда пальцы, а когда вытащил, их покрывала чернильно-черная густая слизь. Он кивнул каким-то собственным мыслям. В следующее мгновение он начал прокалывать себе кожу острием кристалла и наносить поверх вонючую слизь. Ранки саднили, но сама слизь не усиливала боль, наоборот, казалось, она запечатывает порезы.
Мальчик-солдат трудился последовательно, начав с плеч и постепенно спустившись до тыльных сторон кистей. Он занимался левой ногой, прокалывая кожу и замазывая ранки слизью, когда я заметил, что в пещере появился новый источник света, желтого и мерцающего. Оликея заклинила один обгоревший факел в другом, получив целый, но едва достаточной длины, чтобы держать его, не обжигаясь. Подойдя ближе, она вскрикнула от боли и выронила факел. Впрочем, нужды в нем уже не было. Вокруг нас по-прежнему сияли кристаллы.
– Я не знала, куда ты ушел, и забеспокоилась. А потом заметила здесь свет. Что ты делаешь? – сердито спросила она.
– Что ты предлагала. Становлюсь спеком, чтобы народ меня принял, – ответил он.
– Это делают только с младенцами, – заметила она, – во время их первого перехода.
– Я не ребенок, но это мой первый переход. Так что я решил, что это будет со мной сделано, даже если заниматься этим придется мне самому.
Его слова заставили ее замолчать. Некоторое время она наблюдала за тем, как он прокалывает мою кожу осколком, а потом смазывает ранки черной слизью. Оликея обернула ноги грубыми обмотками из тряпки, найденной Ликари. Гаснущий факел добавлял свое желтое мерцание к сиянию вокруг нас и отражался в кристаллах на стенах.
– Хочешь, я помогу тебе со спиной? – тихо спросила Оликея, когда он почти совсем догорел.
– Да.
– А ты… какой рисунок ты хочешь? Как у кошки? Или у оленя? Или рябь, как у рыбы?
– На твой выбор, – ответил он и наклонился вперед, подставляя ей спину.
Оликея взяла у него из рук осколок и занялась его спиной. Работа спорилась, как будто ей уже приходилось делать такое раньше. Она быстро нанесла ряд уколов, а потом замазала ранки пригоршней густой, мягкой грязи. Когда этим занимался кто-то другой, боль казалась сильнее.
Я услышал за спиной какой-то шум и понял, что к нам подошел Ликари.
– Рыба готова. Я снял ее с огня, – сообщил он, и голос его был переполнен неуверенностью.
– Мы скоро. Можешь пока съесть свою долю, – отозвалась Оликея.
Но мальчик не ушел, а осторожно присел на каменистый пол и принялся наблюдать за нами.
Закончив со спиной мальчика-солдата, Оликея попросила его встать и занялась ягодицами и ногами сзади. Затем она обошла его кругом, критически оглядывая:
– Ты еще не сделал лицо.
– Оставь как есть, – тихо велел он.
– Но…
– Оставь. Я принадлежу к народу, но не хочу, чтобы они когда-нибудь забыли, что я пришел к ним извне. Оставь мое лицо таким, какое есть.
Оликея надула щеки, не скрывая неодобрения, затем вернула ему кристалл.
– Еда остывает, а костер вот-вот погаснет, – заметила она, повернулась и ушла.
Он остался стоять у заполненного черной слизью пруда, медленно поворачивая в руках кристалл. И вдруг вспомнил кое-что из моего прошлого. Когда я был ребенком и сержант Дюрил учил меня быть солдатом, он всегда носил с собой пращу и мелкие камешки. Всякий раз, когда он заставал меня врасплох, он метал их мне в спину, ребра или даже в голову.
– И ты мертв, – всегда говорил он мне после этого, – потому что отвлекся.
Вскоре я начал подбирать камешки, которыми он меня «убил», и до отъезда из дома у меня набралась целая коробка.
Он показал кристалл Ликари:
– Я хочу его сохранить. У тебя найдется для него место в сумке?
– Я могу положить его вместе с твоей пращой.
– Моя праща у тебя? – удивился мальчик-солдат.
– Я нашел ее в твоей старой одежде и подумал, что она может тебе еще понадобиться.
– И ты был прав. Молодец. Положи кристалл вместе с ней.
Мальчик кивнул, обрадованный похвалой, и потянулся за осколком.
– Осторожней, он острый, – предупредил его мальчик-солдат.
Ликари бережно принял кристалл у него из рук и убрал в один из поясных карманов, а потом поднял на великого недоумевающий взгляд.
– Пойдем есть, – предупреждая вопросы, распорядился тот и направился обратно к костру и ужину.
Рыба оказалась очень вкусной, но ее было слишком мало. Мальчик-солдат явно потратил слишком много магии на свет и тепло. Он выдохся. На этой стоянке в нижней части стен были вырублены ниши, он выбрал ту, что побольше, забрался в нее и не удивился, когда к нему присоединились Оликея и Ликари. Влажный воздух делал холод заметнее, словно он выпадал на нас росой. Тепло наших тел согрело нишу, но одного одеяла не хватало, чтобы его удержать. Оно сочилось наружу, а на его место вползал холод. А поскольку мальчик-солдат решил, что больше не может позволить себе тратить магию этой ночью, нам пришлось с этим смириться.
Он уснул, а я нет. Я парил внутри его, в темноте, и обдумывал то, чему стал свидетелем. Я не настолько глуп, чтобы не связать множество нанесенных им себе мелких ран и втертую в них черную грязь с пятнами на коже спеков. Может быть, это что-то вроде татуировки, которую они наносят даже на младенцев? Пятна Оликеи никогда не напоминали мне татуировку. Мне даже казалось, что они несколько отличаются на ощупь от остальной кожи. Я всегда считал, что все дети спеков – пятнистого народа – рождаются, ну… с пятнами. Возможно ли, что спеки появляются на свет вовсе не спеками?
Думаю, из-за того, что бодрствовал, я острее ощутил, как у мальчика-солдата начался жар. Его кожа пылала, а крошечные ранки начали зудеть. Он что-то пробормотал во сне и заворочался. Не просыпаясь, поскреб одну руку, затем вторую. Снова заворочался, отчего Оликея с Ликари недовольно заворчали, а потом провалился в более глубокий сон. Почти сразу же его жар еще усилился.
Он был болен. Серьезно болен. Он заразил чем-то мое тело, а я оказался заперт внутри его, безголосый и бессильный. Каждое место, где кристалл пронзил кожу, теперь отвратительно зудело, гораздо сильнее, чем укусы насекомых или любые ожоги, какие когда-либо случались со мной. Когда он во сне расчесывал ранки, я чувствовал, как они вздулись и набухли. Потом что-то лопалось, и по коже текли кровь или гной. Я отчаянно жаждал встать и подойти к воде, чтобы промыть раны, но мне никак не удавалось его разбудить.
Он спал, и, по мере того как нарастал жар, его сны делались ярче и живее, и становилось все труднее не обращать на них внимания. Ему снился лес невероятно зеленого цвета и ветер, который раскачивал его, точно волны в океане, и по этим волнам плыли корабли с разноцветными парусами, лавирующие между кронами. Это был причудливый сон, полный ярких красок и изменчивых форм, и он меня совершенно заворожил. Я даже испугался, что мой здравый рассудок поддастся его лихорадке.
А потом я почувствовал, как он покинул свое тело.
Это ощущалось очень странно. На миг мне показалось, что я остался один в терзаемой лихорадкой оболочке. Я отчаянно попытался снова захватить власть над собственной плотью, но тут же, словно подхваченный течением реки, был выдернут из тела. Это напоминало падение в глубокую шахту. Я ощущал себя бесформенным и изменчивым, но потом заметил ту часть себя, которая была мальчиком-солдатом, и ухватился за нее, точно за гриву скачущей лошади.
Он странствовал по снам. Я понял это сразу же, хотя мои путешествия по снам даже отдаленно не напоминали это – так стремительная река отличается от тихого пруда. Это было странствие по бреду, подстегнутое мучающим его тело жаром. Он метался от одного сознания к другому, без цели и остановок, точно пойманная рыба в ведре с водой. Мы слегка задели сны Оликеи, воспоминание о совместных утехах плоти, и тут же ринулись к Лисане. Он яростно бился вокруг нее, словно птица, пытающаяся прорваться сквозь стекло, но не чувствовал, как я, что и она в ответ потянулась к нему, пытаясь поймать и удержать связь между ними, а потом жалобно вскрикнула, когда он умчался прочь.
Меня ошеломило то, что следующим спящим, кого я увидел, оказался мой отец. Я недоумевал, почему мальчик-солдат нашел его, но потом сообразил – он ведь был и его отцом тоже. Спал он неглубоким сном пожилого человека. Чума спеков и удар состарили его прежде срока. Ему снилось, что он снова облачен в ладную зеленую форму и командует фланговой атакой, препятствуя отступлению врага. Во сне он сражался с жителями равнин, что размахивали боевыми топорами, сидя верхом на голенастых белых лошадках, но я увидел его больным и усталым, и его испещренные старческими пятнами руки чуть подергивались на одеяле. Мы ворвались в его сон, и я скакал рядом с ним, такой же отважный, как и он сам, вновь верхом на Гордеце. Отец оглянулся на меня, и единственный безумный миг он радовался и гордился собственным сыном. Я знал, что ворвался в нежно любимый им сон, в котором я ответил всем его ожиданиям. Но едва мое сердце потянулось к нему и смягчилось, я начал распухать так, что пуговицы на моей рубашке не выдержали и посыпались на землю, непристойно обнажая бледную трясущуюся плоть.
– Почему, Невар? Почему? Я ждал, что ты повторишь мой путь с начала и до конца! Почему ты не смог стать хорошим солдатом ради меня? Если мне суждено было оставить после себя единственного сына, почему ты не сумел выполнить свою задачу? Почему? Почему?
Его разбудили собственные приглушенные стоны, и он вырвался из нашего общего сна. На миг я увидел его комнату в Широкой Долине, заметил краем глаза камин, его постель и стоящий подле нее поднос со множеством бутылочек с лекарствами.
– Ярил? Ярил, где ты? Неужели и ты меня оставила? Ярил? – Он звал мою сестру, точно испуганный ребенок – няньку.
Мы оставили его там, сидящим на кровати и повторяющим имя Ярил. Сердце мое разрывалось, и это меня потрясло. Я мог злиться на отца, даже ненавидеть его – пока видел в нем равного мне мужчину. Теперь же, когда он превратился в жалкого испуганного старика, весь гнев испарился из моей души. Мне вдруг стало невыносимо стыдно, что я причинил ему столько боли и бросил одного. В тот миг не имело ровно никакого значения, что он сам от меня отрекся и выгнал из дома. Ребенком я всегда чувствовал себя под защитой его суровости. Сейчас же он жалобно призывал единственное дитя, оставленное ему судьбой, одинокий и заброшенный, лишившийся сына в мире, где ценились только сыновья.
Хотя сам я потянулся к нему, желая защитить от судьбы, которую он на себя навлек, мальчик-солдат рванулся дальше, увлекая меня прочь. Я мельком видел сны других людей, всплески цвета, нарушающие прихотливый узор его спящего сознания. Мне никак не удавалось сосредоточиться на одном ощущении, будто я пытался прочитать книгу, страницы которой листает ветер. Я выхватывал слово тут, абзац там. Собственных воспоминаний у него не было, притягивавшие его связи принадлежали мне. Тристу снилась девушка в желтом бархатном платье. Горд не спал.
– Невар? – пораженно спросил он, подняв голову от толстой книги.
Сержант Дюрил был погружен в тяжелое забытье уставшего до изнеможения человека, без сновидений. В его сознании не мелькало образов, лишь благодарность за то, что его измученное тело хоть ненадолго может остаться неподвижным, а ноющая спина – распрямиться в постели. Мое появление в его сознании напоминало каплю масла, падающую на поверхность неподвижного пруда.
– Береги спину, парень, – пробормотал он и тяжело вздохнул.
Мальчик-солдат умчался прочь.
Вряд ли он следил за своим пылающим лихорадкой телом, но я его ощущал. Кто-то смочил ему губы прохладной водой. Он только вяло шевельнул ими. Его кожа казалась горячей и туго натянутой, а расстояние и жар искажали голос Оликеи. Он казался пронзительным, но слова я едва различал.
– Он в лихорадочном странствии, – вроде бы произнесла она, и высокий голосок Ликари задал ей вопрос, который, кажется, заканчивался словом «имя».
Ответ Оликеи я разобрал не вполне.
– Не младенец, – пренебрежительно проговорила она, но я не был уверен, что расслышал правильно.
Моим вниманием завладел поразительный пейзаж, я никогда прежде не видел столь ярких красок. В поле моего зрения возникли какие-то предметы, настолько гигантские, что я даже не мог их опознать, пока мы не промчались мимо. Тогда я задался вопросом, увидел ли я бабочку такой огромной из-за близкого расстояния, или она действительно заслоняла собой полнеба, а крохотной просто показалась мне, когда мы от нее удалились.
«Лихорадочный бред», – напомнил я самому себе, но было трудно поверить, что это всего лишь сон и я не перенесся в какой-то другой мир.
А потом, мучительнее всего, мы вломились в сон Эпини. Он был простым и милым – она сидела у камина в гостиной óтчего дома в Старом Таресе. Рядом с ней стояла затейливо украшенная резьбой колыбель на подставке-качалке. Тонкое кружево с узором из розовых бутончиков занавешивало ее. Эпини читала книгу и бережно покачивала колыбель. Когда я ворвался в комнату, она подняла голову:
– Невар? Что ты с собой сделал?
Я посмотрел вниз. Я снова стал невероятно толстым, а мою кожу испещряли пятнышки. Одет я был в нечто напоминающее широкий пояс, с которого свисали кармашки. Мою шею и запястья украшали бусины из полированного камня, нанизанные на кожаные шнурки. Мальчик-солдат открыл было рот, собравшись заговорить. С отчаянной силой я боролся с ним за власть над собственной речью. Здесь, как выяснилось, мы с ним стали почти равными соперниками. Я не мог выговорить ни слова, но и он тоже. Мы стояли перед Эпини, два сражающихся духа в общем теле, шевеля губами, но издавая лишь нечленораздельные звуки.
Образ Эпини неожиданно стал ярче и отчетливее, словно она, не стронувшись с места, подошла ко мне.
– Невар, ты здесь, так ведь? Это «странствие по снам», о котором ты писал в дневнике! Зачем ты пришел ко мне? Я должна узнать что-то важное? Ты в опасности? Ранен? Где ты, Невар? Что мне нужно сделать?
Эпини наяву могла подавлять. Эпини во сне превзошла саму себя. Сосредоточиваясь на мне, она словно бы росла. Комната исчезла, рядом с ней осталась лишь колыбель, и, несмотря на взволнованные расспросы, она продолжала ее успокаивающе покачивать. Кажется, я наконец понял, что такое «аура», о которой она мне говорила. Эпини излучала собственное «я», как пламя излучает тепло. Здесь, в этом месте, ничего не утаивалось. Ее сила, ее любопытство, ее обжигающее чувство справедливости и столь же жаркое возмущение несправедливостью – все это струилось из нее ослепительным ореолом. Я чувствовал себя ничтожным, стоя перед ней и ощущая, как меня захлестывают волны ее любви.
Мне отчаянно хотелось остаться и поговорить с ней, но не менее сильным было и стремление мальчика-солдата молчать и бежать. Захваченные этой борьбой, мы лишь безмолвно и напряженно присутствовали.
– Если ты не можешь говорить со мной здесь, хотя бы выслушай мои новости. Думаю, тебя обрадует известие, что и Спинк, и Эмзил поверили мне, когда я сказала им, что ты жив. Это стало для них таким облегчением. Ни один не хотел признаться другому, что их воспоминания о той ночи были противоречивыми и неполными. Однако трудности все равно остались. Спинк, зная, что он тебя не подвел, смог вернуться к своим обязанностям, но заметно переменился к тем людям, с которыми ездил той ночью. Он и смотреть на них не может теперь, когда узнал, на какое зло они способны. Капитана Тайера, мужа Карсины, он избегает, но тот все равно понял, что Спинк его презирает, и, боюсь, затаил обиду.
Мне так страшно за него, Невар. Он не может скрыть того, что знает об этих людях, это отражается у него на лице и в глазах всякий раз, когда мы встречаем кого-то из них. А они – думаю, они считают, что должны от него избавиться. Возможно, для них это единственный способ забыть о той ночи. Они верят, что забили тебя до смерти или, по крайней мере, видели, как это сделали их товарищи. Но четких воспоминаний о том, как именно все произошло, у них не осталось. Так что, когда Спинк смотрит на них с отвращением, они, как мне кажется, сами не знают, что про себя подумать.
И Эмзил не облегчает нашу жизнь. Не знаю, что ты ей сказал той ночью, но это сделало ее бесстрашной. А когда я передала ей, что ты ее любишь, но вынужден оставить, в ней словно что-то ожесточилось. Теперь она даже хуже чем просто бесстрашная. Всякий раз, как она встречает кого-нибудь из тех людей, она мучает их. Увидев одного из них на улице или в лавке, она не отводит глаз и не избегает встречи. Нет, она преследует его, точно кошка, ловит взгляд, подходит и вглядывается в лицо. Они шарахаются от нее, Невар. Они отворачиваются, пытаются ее избегать, но она заставляет их себя ненавидеть. Один попытался ей противостоять – да кто бы не сбежал из лавки, когда она на него уставилась? Он ответил ей презрительным взглядом, но она не отвела глаз и сказала громко, так что ее услышали остальные посетители: «Наверное, он забыл, что случилось в ту ночь, когда толпа растерзала могильщика. А я помню. Думаешь, ты знаешь, кто я такая, – я слышала, как ты называл меня шлюхой из мертвого города. Но я-то знаю, кто такой ты. Я помню все, каждую подробность. И я лучше буду шлюхой, чем хнычущим трусом». Он бежал от нее, убежденный, что остальные помнят о нем то же самое.
Скоро нагрянет зима, Невар, а зима здесь, в Геттисе, не лучшее время года. Зимой гноятся раны, а холод и тьма обещают скрыть любой мерзкий поступок. Я боюсь. На ночь я задвигаю засов, а Спинк спит с заряженным пистолетом на прикроватном столике. Он поговаривает об отставке, потому что больше не хочет служить вместе с этими людьми. Думаю, если бы не приближающаяся зима, он бы так и поступил, и мы сбежали бы отсюда ради ребенка. Подобная трусость навсегда оставит в его душе шрам. Но если весна придет, а здесь ничего не переменится к лучшему, что еще он сможет сделать? Лучше уж ему увезти нас отсюда, чем погибнуть от выстрела в спину и бросить меня на милость этих волков. Так он сам сказал.
Ее слова полосовали мое сердце, словно бритвы. Я считал, что спасаю их, когда вырывал себя из их жизни. А вместо этого я не только подверг их опасности и мучениям, но и бросил наедине с трудностями. Я не обманывал себя, полагая, что мог бы им чем-то помочь, но не быть с ними рядом казалось трусостью. Больше всего меня беспокоил гнев Эмзил и вызванное им поведение. Я не мог ее винить. Каково ей смотреть, как по улицам разгуливают мужчины, которые собирались ее изнасиловать, возможно, до смерти? Я хотел бы, чтобы она могла уехать в более безопасное место, если только при этом ей не придется оставить беременную Эпини одну. Думать об этом было слишком страшно. Я попытался протянуть к Эпини руки, но власть над ними не принадлежала мне даже во сне. Я сосредоточил всю свою волю, пытаясь сказать ей хотя бы одно слово.
Это оказалось ошибкой. Пока я собирался с силами, мальчик-солдат вырвал нас из сна Эпини и умчался вместе со мной прочь. Я оглянулся и увидел, что Эпини смотрит нам вслед. Я еще некоторое время смотрел на нее, пока она не растаяла вдали.
– Они просто должны уйти. – Мальчик-солдат обращался ко мне, но слова его отдавались гулким эхом.
Я понял, что там, в другом мире, он бредит в лихорадке. Сосредоточиваясь, я мог ощутить наше тело, пылающее изнутри и все же дрожащее от холода в промозглой пещере. Я услышал чей-то шепот. Возможно, Оликеи и Ликари. Их голоса казались колеблющимися и пугающими.
– Смерть. Или жизнь. Что ты должен мне, Невар? Что ты отдашь мне, Невар?
Огромный стервятник вылетел нам навстречу, черно-белый, с ярко-алой бородкой под клювом – пухлой, отвратительной и одновременно угрожающей. Он открыл клюв, и я увидел, как странно прикреплен там язык и насколько острым он кажется.
– Я не Невар! Я мальчик-солдат из народа. Я ничего тебе не должен.
Птица изумленно разинула клюв, встопорщила перья на крыльях, уложила их обратно, и до меня донеслась мерзкая вонь падали.
– Ни от имени, ни от долгов так легко не избавляются, Невар. Ты тот, кто ты есть, и должен мне то, что должен. Отрицание этого не изменит.
– Меня зовут не Невар.
Умеют ли птицы ухмыляться?
– Невар – мальчик-солдат, сын солдата. Имя, которым ты пользуешься, дано тебе лишь потому, что ты Невар и солдатский сын. И сын-солдат. И это так же верно, как и то, что ты задолжал мне смерть. Или жизнь. Как бы ты ни пожелал это назвать, это ты мне и должен.
– Я ничего тебе не должен! – заорал на него мальчик-солдат, и его слова эхом отразились в далекой пещере.
Он оказался смелее меня. Его руки метнулись вперед, сгребли две полные пригоршни перьев и принялись трясти стервятника.
– Я ничего тебе не должен! Ни жизнь, ни смерть! Ничего не должен!
Где-то вдали кто-то закричал, и стервятник с безумным хохотом взлетел.
В лицо мальчику-солдату плеснула холодная вода; вздрогнув, он открыл глаза, заморгал, пытаясь сосредоточить взгляд, потом поднял трясущуюся руку утереться. Оликея сердито выпутывала свои волосы из его пальцев. Из меха, лежащего поблизости на земле, с журчанием вытекала вода. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что произошло, и обидеться.