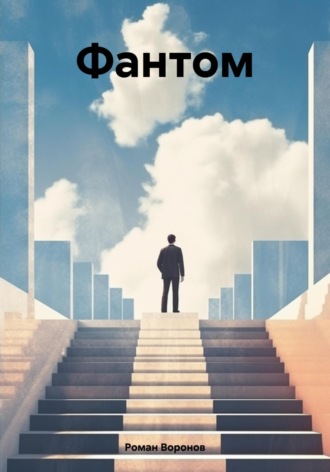
Роман Воронов
Фантом
Куб в кубе
Иной раз время, привычная для нас константа, незыблемое в четком ритме своих гулких шагов, пойманное на кончик стрелки, бегущей от цифры к цифре, словно цирковая лошадь по арене, бездушно и заунывно, в новый круг, раз за разом мимо застывшего шпрехшталмейстера, вдруг выбрасывает фортель, взбрыкивает, недовольное то ли свистом хлыста, то ли жидкими хлопками из зала, и окунает изумленного наблюдателя сначала в стремительный поток внешних событий, а затем, выставив вперед холодную ладонь забвения, останавливает мир, с зависшим в полушаге движением, прямо на полуслове и с солнечным диском, не желающим переваливаться через экватор. Желаете пример из жизни? Пожалуйте, вот он.
Я сидел (если угодно, однажды) на лавочке в небольшом сквере, название которого… впрочем, дальнейшее повествование не привязано к месту и могло произойти где угодно, скорее история о выкрутасах времени, а посему, как именовался сквер из десятка лип, не имеет значения, главное в нем – я и устроившийся напротив старик, привлекший мое внимание неординарной, я бы даже сказал, вызывающей внешностью.
Сложно представить, в какую эпоху модным было то невообразимое, во что укутался обладатель крючковатого тонкого носа, густых взъерошенных бровей, скорее обвалившихся, чем нависших, на юркие черные бусины глаз, в своем «укрытии», да еще и с моего места, почти незаметные. Желтоватого оттенка сморщенная кожа, казалось, вообще готова сползти со скул, но из последних сил удерживалась редким поседевшим скальпом, покрасневшим от натуги на голой макушке, да мясистыми, оттопыренными до нельзя в стороны огромными ушами, на которых намертво закрепился головной убор, название коего история утеряла безвозвратно ввиду древности представленного артефакта.
Этого «путешественника во времени», забредшего в мой сквер явно по ошибке, я застал за написанием некоего документа. Незнакомец макал настоящее гусиное перо в маленькую чернильницу, выполненную в бронзе великолепную антикварную вещицу, испещренную замысловатым орнаментом, сюжета коего я разглядеть не мог, хотя не сложно было догадаться о ее значительном возрасте и соответствующей ему стоимости. Пыльно-желтые листки бумаги, по которым с жутким скрипом, пугающим местных ворон, старик водил пером, приобретены им были явно не в ближайшей лавке канцелярских товаров.
Погруженный в свою работу удивительный персонаж довольно быстро ставил закорючки, ловко выуживая из чернильницы пером ее содержимое, останавливался на несколько мгновений, закатывал глаза под сень бровей и снова скрипел, поднимая в воздух только присевших на брусчатку мостовой птиц. Эта необъявленная «война» забавляла меня, вороны, сделав круг почета над сквером, заходили на посадку, пока задумавшийся старик подбирал нужную фразу, но стоило им коснуться трехпалыми лапками земли, гусиное перо возвращалось на бумагу и бедным пернатым созданиям, возмущенным подобным нетактичным обращением с их чувствительным слуховым аппаратом, приходилось взмывать в небеса. Жуткое карканье разносилось эхом по городу, и люди пожилого возраста, прислушиваясь к тревожному гомону, шевелили потрескавшимися губами: «Не к добру это, не к добру».
В некотором смысле они оказались правы, погода, с утра солнечная и безветренная, неожиданно начала кукситься, появились тучи, заставляющие дневное светило беспорядочно моргать, и знай я азбуку Морзе, вероятнее всего, смог бы расшифровать их послание жителям Земли, и в частности обитателям сквера.
Старик напротив, допускаю, в отличие от меня, знавал всякие приметы в совершенстве, ибо вслед за воронами, переставшими терроризировать город своими истошными воплями и исчезнувшими вдруг за слуховыми окнами чердаков, резко засобирался, начал складывать бумаги, собрал антикварные письменные принадлежности и… На сквер обрушился ливень, крупные и частые капли неистово заколотили по мостовой, звонко защелкали по листьям лип, забарабанили по крышам домов. Я едва успел раскрыть зонт, хотя плечи и голова были уже мокрыми, и поднял глаза на «чудного соседа», того и след простыл, на скамейке, подвергаясь водяной бомбардировке, сиротливо лежали забытые стариком исписанные листки. Не зная почему, я бросился к ним…
Чуть позже, сидя за столом в своей комнате, в тепле и сухости, мне удалось разобрать и прочесть уцелевшие части удивительного, как выяснилось, письма, адресатом коего ни много ни мало числился Аристотель, а автором… Хотя, постойте, просто наберитесь терпения и, прочитав сохранившиеся отрывки этого послания, все узнаете сами, я лишь позволю себе некоторые немногочисленные комментарии там, где это нужно. Итак…
«С величайшим вниманием, что самым особым образом требуют труды твои, и глубочайшим уважением лично к тебе, друг мой, перечитал в очередной раз (как ты помнишь, мы уговаривались делать это единожды в столетие) трактат «О душе» и, восхитившись наново широтой полета мысли величайшего из воплощенных, смог не согласиться с замечаниями Платона, кои он любезно оставил в виде «нота бене» на подаренном им мне экземпляре.
Количество дней, потраченных мною на раздумья, равно как и количество лиц, встретившихся на Пути, стало неприлично для и без того загруженной до предела памяти несчастного старика, посему встаю вослед за Великим (я о Платоне), как и печальная луна восходит на небосклон только тогда, когда дневное Светило благосклонно уступает ей место, удаляясь на «отдых» для наблюдателя Здесь, но восходя к радости таковой же Там, дабы высказать по интересующему меня вопросу собственное скромное и, вероятно, скудное мнение. В самом начале ты утверждаешь…»
Далее было пропущено две страницы (автор нумеровал каждую) и из-под замоченного, от того и выглядевшего бесформенным чернильным пятном уголка, на сухую часть листа выскакивало: «…познание души». Вот об этом-то я и хочу поведать, а в чем-то и поспорить с тобой, мой дорогой друг.
Далее шла страница, по большей части уничтоженная «небесной карой» в виде дождевого потока, оставившая нетронутыми даже не фразы, а отдельные лохмотья слов, как кочки на болоте, расположенные слишком далеко друг от друга и по этой причине не являющиеся спасительными, но далее судьба подарила три желтых листка, целых и невредимых.
«…Теперь с определенной долей уверенности я полагаю, что сознание души, погруженной в физический мир посредством человеческого тела, имеет форму куба, ограниченного, как известно, шестью гранями, из чего следует, что не мир ограничивает человека понятиями верх-низ, перед-зад и право-лево, а его (человеческое) ограниченное сознание создает и соответствует уровню измерения, в коем и пребывает. Иными словами, наш мир выглядит, как «видит» его наше сознание. Кубическое сознание души человека формирует кубическую форму окружающего мира.
Долгие ночи, мой друг, я выстраивал свою теорию, долгими дорогами я искал подтверждение своим догадкам, долгими словами пытался описать то, что роилось, бурлило и возопило внутри меня. Выслушай же до самого конца выкладки твоего бедного «брата», вынужденного все еще находиться Здесь. Сознание души – это система шести кубов, вложенных, или наложенных друг на друга.
Мы (человеки) боимся вознесения и падения, шорохов за спиной и неизвестности впереди, поворота вправо или влево, потому что взор наш не достигает тех пределов из-за угла бытия, так работает Куб Страха, первый и основной, как фундамент, для остальных.
В него сознание вкладывает Куб Неверия, чей девиз против восхождения на вершину – «Бога нет». Наличие нижней границы будет определяться как «Есть смерть, а за нею пустота».
Сколько таких перевидал я во дни позорных Крестовых походов, и кстати, они, истекающие кровью на чужбине, ставили перед собою «щит» со словами на леденеющих устах: «Будет только хуже».
Взгляд назад, или расширение сознания в обратную сторону Куб Неверия ловко ограничивает фразочками «Кто сказал, что было именно так» или «Все антропологи шарлатаны, а археологи – расхитители гробниц», не более. Для ухода в стороны у такого сознания заготовлено: «Окружающие лгут, причем все и всегда».
Следующий Куб коррелируется с твоими трактатами о типах эгоизма. Друг мой, ты здорово помог мне внутренне определиться с Кубом Самости и его сдерживающими сознание факторами. Путь наверх индивидууму закроет то, что он подразумевает, произнося везде и без меры: «Я и так все знаю», «Это и понятно», «Как это пригодится в жизни?». Рядом с таким человеком становится неодолимо скучно, а выслушав его доводы против расширения вниз: «Хватит и того, что есть» или «Лучше синица в руках», еще и печально. Что касается устремлений вперед, то тут Куб Самости не оригинален: «Умный в гору не пойдет», «Путь проб и ошибок не по мне, пережду». На щите, который сознание повесит на спину, Самость начертает: «Все, что было, – мое, ни о чем не жалею, а если остались обиженные или трупы, это их проблемы».
Ей-богу, все царствующие особы рассуждают именно так, особенно оглядывая со стен поверженного соседского города усеянное телами ристалище. Что касается расширения в стороны, парадигма Самости выглядит следующим образом: «В узких стенах хоть и не повернуться, зато уютно, тепло и меньше убирать…»
Да простит меня читатель, но я снова вынужден вклиниться в стройный хор изложения автора письма своих мыслей по причине практически полного уничтожения стихией листка, на котором едва удалось разобрать изречение Аристотеля: «Ничего не истощает человека так, как физическое бездействие», из чего можно сделать вывод, что автор, известный нам старикашка с гусиным пером, вновь обращается к философу, точнее его трудам, дабы перейти к собственным «кубам».
«…изволь, объясню. Куб Лени отворачивает от любого помысла на подъем мягким, обволакивающим «Успею, время еще есть» или «И так все болит после вчерашнего». Осознание возможного «спуска» будет нивелироваться чем-то вроде «И что толку суетиться, все равно не успею», стенка впереди, пусть и прозрачная, но внушительная станет на фундамент «Вот настанет завтра, там и поглядим» и подопрется колонной «Будет день, будет пища». Наш общий знакомый, ты сразу догадаешься, о ком я, баловался именно этими гиперболами, но что предъявит ложь движению назад, иногда столь полезному, спросишь меня. Думаю, вот так, бесхитростно: «Книгу эту я уже читал, кажется, правда, о чем она, не помню, но перечитывать не стану, ведь я ее уже прочел». В подобную обойму аргументов, что остановят от порыва двинуться в сторону, Лень подкинет: «Не стоит сходить с тропы, идем и идем, чем плохо, а вдруг там, в высокой траве змеи или капканы, ищи тогда неуча-доктора или негодяя-охотника».
И да, драгоценный друг, мне стоит поклониться тебе за нравственную позицию о невозможности никакого общего правила о лжи, но позволь сквозь века мне улыбнуться – я вывел его. Послушай, как ощетинивается всеми гранями Куб Лжи. Верхняя его крышка будет надписана: «Ложь самому себе о себе же», дно обозначится выпуклыми буквами: «Ложь других о себе». Согласись, на такой опоре и стоять-то сложно, не говоря о том, чтобы заглянуть за нее, придется преодолевать ко всему и собственный вес. Прямо перед собой кончик носа будет утыкаться в «Ложь себе о других», а затылок подопрет «Ложь других о других». Погрязший во лжи, что вошедший в темную комнату, разводит руками и нащупывает: «Ложь миру о самом мире». Здесь, милый ворчун, мне хотелось бы напомнить тебе о…»
Бумага – хрупкое и ненадежное хранилище истин, этот факт еще раз подтвердил мой случай, целых три листа (о горе) превратились в мокрый, безобразный ком, унесший в небытие тайну воспоминаний автора об общим с Аристотелем знакомом.
Очередной спасшийся от «потопа» носитель идей удивительного старика принес упоминание мнения философа о гневе.
«…Я помню, друг мой, что гнев не является для тебя пороком. Скудостью моего ума постичь сие утверждение невозможно, иногда мне кажется подобный взгляд возмутительным, безнравственным, а иной раз проглядывает в этом скрытый смысл, увы, слишком глубокий для меня. Но Куб Гнева, который я поместил шестым по счету, в итоге формирует совокупный для сознания Куб Нелюбви, ограничивающий нас, человеков, в трехмерный мир. Грани же его, по моему скромному убеждению, таковы: верх – «К черту Бога, Он никогда не слышит меня», низ – «Ко всем чертям всех чертей, плевать на их рогатые головы и раскаленные сковороды, пусть громче шипят, да и на черный поток Ахерона заодно, будет полноводней», вперед – «Сколько можно бить башкой о стену, а рыбой об лед», назад – «Прадед грабил, дед закопал, отец нашел и все промотал. Кого уважать-то?», стороны – «Куда ни сунься, одни заборы и болота, того и гляди либо солью пальнут, либо подштанники замочишь».
Любезный друг, сим заканчиваю описание выдуманной мной системы из шести Кубов, которая, по сути своей, есть всеобщая человеческая Нелюбовь. Сознание Человека таскает на себе эту Матрицу, как улитка свой домик, и эволюция человеческой души подобна ее скорости на мокром от дождевых капель виноградном листке. Именно так представляется мне вселенная проявленных планов и место человека как носителя Части Создателя в ней. Не буду лукавить, к видениям, что посещали меня во снах, а более всего в болезнях, сопровождающихся грудной горячкой и обильным вспотеванием, я добавлял изыскания умственные, как подвязывает садовник творение Бога, виноградную лозу, к удерживающему ее колышку. Совместные усилия привели меня к следующим выводам: Куб Сознания о шести гранях, помещенный в трехмерное пространство при шести основных направлениях, в сумме дает дюжину совокупных аспектов бытия. Христосознание же (ты представляешь, как тяжело мне произносить имя Его) есть сфера внутри сферы, свобода сознания дает неограниченную свободу пространства. Куб Сознания Человека необходимо трансформировать, сжать в точку, сотворить Христосознание, то есть Любовь. Когда хоть одна грань хоть одного Куба начнет уменьшаться, она «стянет» за собой всю «конструкцию» (в абсолютном значении) в единый центр. Изменение человеческого сознания до уровня Христа означает исчезновение всей Системы Кубов, сжатие их во внутреннее солнце, что изменит форму трехмерного мира на сферическую бесконечность. Такой мир более соответствует…»
И снова несколько страниц, потерявших вид, а значит и смысл, с сожалением отправились в корзину для мусора влажным комком утраченного навсегда послания. Из оставшихся трех листков, пострадавших хотя и в меньшей степени, но тем не менее прерывавших отдельными пятнами стройность изложения мыслей автора письма, можно было сложить впечатление о то ли извинениях, то ли оправданиях Агасфера, да-да, внимательный читатель, эпатажным старикашкой оказался не кто иной, как Вечный жид, и кстати, это многое объясняло в его одежде и поведении.
Едва ли не самый значительный из уцелевших кусков нетронутого текста гласил следующее: «…думается мне, Он знал об этом. Там, у порога собственного дома, Спасителю не дал остановиться и передохнуть вовсе не я, но мое неверие, мелкое, себялюбивое и пустое, как всякая размалеванная ширма, не несущая за деревянными складками ничего, кроме застывшего в замкнутом пространстве спертого воздуха. Стоило Ему двинуться дальше, вера моя разнесла в щепки соответствующий Куб, именно с ней я все еще жив, в ожидании нашей встречи там же, только в обратном направлении, когда Иисус будет спускаться с Голгофы. Засим прощаюсь…»
И в самом низу, на влажном уголке листа, плохо различимо, но все же угадывалась подпись: «Твой Агасфер».
Иной раз время, такое размеренное и привычное в своем ритмичном марше, неожиданно проявляет свою истинную сущность энергии, подвластной не нашим нарисованным циферблатам, но Воле Высших Сил, таинственных, незримых и… насмешливых. Закончив прочтение чужого письма, чего делать, в общем-то, неприлично, я ощутил в голове легкий щелчок и… очнулся на лавке в знакомом сквере без названия. Оторопело глядя на стопку листов у себя на коленях, я громко икнул, а затем начал отчаянно мотать головой, накрепко зажмурив глаза, пытаясь прогнать сон наяву или явь во сне.
– Молодой человек, – раздался рядом сиплый голос, – шейные позвонки весьма уязвимая вещь, будьте аккуратнее с подобными экзерсисами.
Я остановился и открыл глаза, надо мной склонился «недавний» старикашка, кажется Агасфер, начал я вспоминать его имя.
– Позвольте, – он протянул руку, – это мои бумаги, забыл, знаете ли, по-стариковски.
Агасфер свернул трубочкой свое богатство и засунул в карман старомодной накидки, или как там называется его тряпье, загадочно подмигнул мне и произнес на прощание:
– Не задерживайтесь, скоро дождь.
Кольцо на пальце
По уши влюбленный юноша, описать внешность коего не составляет труда, ибо для бедолаг, пораженных сиим недугом страсти, она обща: это неряшливость в одежде, взять, к примеру, мятый воротник или панталоны, натянутые в связи с отрешенностью от бытия наоборот, явственная бледность кожи от недосыпания и блуждающий взгляд безумных глаз по той же причине, а также полуидиотская улыбка на нервных губах, да-да, именно полуидиотская, поскольку скалиться без резона целый день напролет занятие недостойное и даже неприличное для человека, пребывающего в душевном равновесии, – спешил, как ни странно, не под балкон, к предмету воздыханий, а, что не характерно, по делу.
Мерить путь нескладным, тощим ногам помогал гулкий цокот шпаги флорентийского мастера изрядной длины, не соответствующей всему, более чем безобидному и миролюбивому облику юнца. Грозное оружие, скорее, придавало ему комический вид, нежели мужественный, на который юноша, видимо, и рассчитывал, цепляя к поясу кожаную сбрую с клинком, но берегись встречный необдуманного слова, оскорбляющего, по мнению владельца шпаги, даже кусочек вчерашней тени его возлюбленной, флорентийская сталь тут же начнет беспорядочно рассекать воздух в желании проткнуть все живое вокруг, дабы справедливо наказать обидчика.
И вам, неосторожный мастер фехтования, может показаться смешной неопытность и волнение оппонента при очередном неуклюжем выпаде, когда зардевшийся от гнева юноша возьми да и споткнись, на что не торопитесь, забыв об обороне, расхохотаться, оружие чудака, так некстати, пронзит легкое, и тут уж не до смеха. Впрочем, подобные случаи мне неизвестны, как правило, все наоборот. Длинный язык признак умелых рук, а посему финал для влюбленного, при лучшем сценарии, – позорный шрам от уха до подбородка, а в худшем – безутешные родители и каменный крест поверх всех ожиданий от несостоявшейся жизни.
Что касается отгадывания имени нашего героя, так это еще проще, чем описание облика его. Всех потерявших сон и аппетит на почве хорошеньких лодыжек, изредка показывающихся под юбкой, величают Ромео, и в настоящее время он, проследовав мимо дома врагов своих, скрывающих за ставнями и гобеленами его любовь, направляется в церковь к сердобольному отцу Лоренсио. Последуем же за ним, пусть и незримо, но все же составим торопящемуся юноше компанию.
Отец Лоренсио, при всех его многочисленных достоинствах, слыл к тому же еще и человеком не глупым. Время между молитвами в тесной келье, где рот его источал слова добродетели и смирения, и трудом исповедования в столь же узких стенках конфессионала, где уже уши священника впитывали человеческие грехи, храмовник посвящал созерцанию окружающего мира, по мнению наблюдателя, прекрасного и весьма привлекательного, и прочтению книг, серьезных и не очень. Он непрестанно восхищался Божественным Творением всего и вся, от ежедневного перекатывания небесного светила по невидимой дуге до трепещущей на подоконнике бабочки-лимонницы, готовой вот-вот распрощаться с собственной крохотной жизнью под взором нависающего над ней в сплетенных сетях мохнатого арахна, и при этом отдавал должное Лукавому, ловко скрывающему свои силки в красивых обертках, взять, к примеру, лавку мясника с коптильней внутри или его пышнотелую жену, без смущения подставляющую солнцу и жадным взорам свои прелести.
Отец Лоренсио визиту Ромео не удивился. Давеча он исповедал прекрасное юное создание, нежнейший утренний цветок, дыхание радости и счастья… Тут священник запутался в эпитетах, понимая, что дальнейшее словесное упражнение в куртуазной софистике будет перебором. Читатель, полагаю, уже догадался, что каяться приходила Джульетта. С ее стороны это было признание в любви, конечно же не к пожилому синьору в сутане, а к молодому Ромео, но девица, не совершившая ничего предосудительного, представила себе появление захватившего ее сердце чувства как согрешение, и Отец Лоренсио слушал ее с влажными глазами. Потребовалось несколько цитат из Святого Писания, чтобы убедить дрожащую Джульетту в том, что исповедаться ей абсолютно не в чем. Видя, как птичка выпорхнула из клетки, прости Господи произносить такое о церкви в самой церкви, священник облегченно выдохнул и заулыбался во весь рот, направляясь в свою келью.
– Я рад, Ромео, твоему приходу, как и печалюсь, видя тебя здесь, – Лоренсио указал рукой на скамью, едва юноша, хлопнув дверью, вошел внутрь.
– Не понимаю, святой отец, как совместить слова ваши, несущие в себе противоположные смыслы, – Ромео присел рядом с Лоренсио.
– Мой юный друг, наш с вами мир полон подобных казусов, – улыбнулся священник. – Буквально на каждом шагу. Вам не приходило в голову, что в тот момент, когда вы вопите серенаду собственного сочинения, согревающую сердце вашей избранницы, соседи, люди почтенные, лишенные сна, прежде всего отвратительным исполнением, негодуют при этом, а выпрыгивая из окна вышеозначенной дамы, едва заслышав шаги ее родителя на лестнице, вы расстроите до глубины души садовника, обнаружившего поутру смятый напрочь куст его любимых роз?
– Вот незадача, – хохотнул юноша, живо представив себе нарисованную храмовником картину. – Но все же я пришел по особому поводу.
– Вы пришли просить меня о тайном венчании, – ухмыльнулся отец Лоренсио и, глядя на изумленного молодого человека, добавил: – Догадаться не сложно. Вчера на этом самом месте я беседовал с Джульеттой, а поскольку вхож в оба ваших дома, прекрасно осведомлен о… – он почмокал губами, – сложных отношениях.
– Да, – вспыхнул Ромео, – родители не дадут согласия, и все же, святой отец, что может остановить вас, представителя Бога здесь, на Земле, и не соединить любящие сердца?
– Одобри я ваш союз, – Лоренсио ласково посмотрел на юношу, – одной рукой дам жизнь ему, а другой призову смерть.
Ромео резко подскочил. Юности свойственна импульсивность, а влюбленности – торопливость.
– Вы, святой отец, заладили одно и то же, да и нет, нет и да, церковь Сан-Франческо не единственное место в мире, где мы сможем обрести счастье.
– Под напором влюбленного сердца не устоит ни одна крепость, – рассмеялся Лоренсио. – Будь у крутолобых полководцев хоть щепотка смекалки, они бы нашли двух влюбленных и развели по разные стороны цитадели, ни легкая пехота, ни тяжелая конница, ни артиллерия не понадобятся для осады, ничто не в состоянии противостоять порыву стремящихся друг к другу любящих сердец.
– Так вы согласны? – с надеждой в голосе воскликнул Ромео.
– Выслушай меня внимательно, сын мой, поелику согласие давать не мне, а тебе, – священник мягко усадил юношу обратно на скамью. – Не спрашиваю, силен ли ты в таком благородном ремесле, как пчеловодство, ибо знаю почтенный род твой, титул, что носит отец твой, и, стало быть, будущий сына его, Ромео, но, в силу какой-никакой образованности, сын мой, ты должен представлять себе такое прекрасное насекомое, как пчела, и для чего Отец Небесный сотворил ее.
– Я люблю мед, – утвердительно кивнул юноша и поправил длиннющий клинок, неудобно висевший у выпяченного на низкой скамье колена.
– Чтобы поведать тебе, о чем я узнал из трудов досточтимого… Впрочем, книги этой у меня давно уже нет, а имя, не стоящее под текстом, но попросту «висящее» в пространстве, ничего не значит, а стало быть, и называть его не имеет никакого смысла. Лучше определимся, мой друг, с категориями. Я не случайно (это слово скоро прозвучит для тебя особым образом) заговорил о пчелах. Представь, Ромео, что люди – это насекомые, тогда с уверенностью можно назвать пчелиный род человеческим обществом, а пчеловода…
– Богом, – подхватил юноша забавную игру в сравнения.
Мудрость – скорее, не знание, но терпение, а Лоренсио был человеком мудрым. Он добродушно похлопал Ромео по плечу:
– Нет, Господь Бог – создатель и пчел, и пчеловода.
– Тогда кто же он? – молодой влюбленный понял, что поторопился с догадкой.
– Того, кто лезет за «медом» в улей, назовем Кармическим Советом, а само пчелиное гнездо – Матрицей.
– Похоже на язык норманнов, – поморщился Ромео на незнакомое доселе сочетание звуков.
Отец Лоренсио поерзал на дубовом седалище:
– Запомнишь, кто есть кто?
Ромео согласно кивнул, загибая пальцы на руке:
– Кармический Совет, Матрица, Человек, Пчеловод, Улей, Пчела. Не хитрая наука.
– Это пока, – «ободрил» его священник. – Теперь можем перейти к вещам посложнее. Слово «случайность» введено в обиход человека и активно используется для сокрытия своего присутствия Матрицей.
– Ульем, – поддакнул Ромео.
– Ничего случайного в совершенном мире Бога нет, – невозмутимо продолжил священник.
– Пчелы летают за пыльцой и приносят ее по определенному закону? – глаза юноши расширились от удивления.
– Молодец, – похвалил храмовник. – Матрица – это даже не управляемый Хаос, это стройная система, полное отсутствие беспорядка, случайностей. Хаос пребывает в сознании человека.
– Но не пчелы, – задумчиво произнес Ромео, вспоминая строгое поведение обладателей острых жал, готовых умереть за свое сладкое богатство.
– Это потому, что у них нет… Впрочем, о том, что у пчел отсутствует, скажу позже, – Лоренсио задумался, было видно, как ему тяжело находить слова, доступные для понимания излагаемых истин молодого человека. Покряхтев, повращав глазами, почесав затылок сперва одной, затем другой рукой священник, наконец, продолжил: – Матрица для души…
– Улей для пчел, – параллельно ему бубнил про себя Ромео.
– …это атмосфера для Земли. Любовь Господа, идущая напрямую к душе в человеческом теле, спалит грубую оболочку без защиты.
При слове «любовь» Ромео заметно оживился:
– Это еще почему?
– Из-за разности вибраций, – выпалил священник и снова погрузился в размышления.
– Не понимаю, – взмолился юноша, думая о своей прекрасной Джульетте и раздражаясь на долгие паузы в речах храмовника.
– Матрица трансформирует любовь Бога до удобоваримых значений уровня человеческого восприятия, Матрица защищает тело человека, снижая вибрации Чистой Любви, сходящей на грешные головы наши.
– Все равно непонятно! – вскричал Ромео, хватаясь руками за виски.
– Так улей уберегает пчел от дождевых капель, ломающих их крылья во время полета, – отец Лоренсио отвесил болезненную оплеуху собеседнику. – Не перебивай старших, особенно истерическим манером, свойственным, как я погляжу, твоей натуре.
– Простите, святой отец, – смиренно произнес Ромео, потирая ушибленный затылок. – Мне сложно следить за юркими пчелами в их новом для меня прочтении.
– Старайся и крепись, – нравоучительно заметил храмовник, пожалевший о своей несдержанности, – коли хочешь уйти с моим согласием. Продолжим, пожалуй. Человек, не зная ангельского языка, спасибо строителям Вавилонского столпа, прости Господи, обращаясь к Богу, делает это через… Матрицу, на то она и трансформатор.
– Кто? – Ромео с трудом поспевал за священником.
– Толмач, дурья башка. Матрица «поднимает» доступные и имеющиеся у человека в наличии низкие вибрации сознания до уровня «понятных» Богу, высоких. Уразумел?
– Нет, – юноша с досады пнул ногой шпагу, и та обиженно звякнула о каменный пол собора.
– Пасечник, приложив ухо к улью, может понять, как себя чувствуют его подопечные, – слегка раздраженно пояснил Лоренсио.
– А он все поймет верно, как надо? – Ромео с недоверием посмотрел на собеседника.
– Ты имеешь в виду, есть ли в этой процедуре искажения? – священник потер подбородок. – Обязательно. Матрице необходимо «правильно понять» человека, а для этого молитва (как основной вид обращения, не считая популярных выклянчиваний удачи во всем и нежданного богатства) должна идти от сердца, то есть быть искренней, а именно вибрировать как можно выше.
Лоренсио остановился, залез в карман сутаны и, выудив оттуда платок, принялся вытирать вспотевшую шею.
– В случае когда душа возвращает Творцу любовь непредвзятую, чистую, истинную, Матрице как механизму преобразования делать нечего, поток информации проходит без искажений.
– Я, знаете ли, святой отец, все еще в недоумении, как ваши разглагольствования, в сопровождении множества незнакомых мне слов, весьма загадочные и, надо полагать, очень глубокие, связаны с моим делом к вам? – неожиданно перебил храмовника Ромео, начинавший уставать от тяжело воспринимаемой им речи обладателя столь необычного знания.
– Терпение, мой друг, терпение, – храмовник запрятал платок обратно в сутану. – Дойти до конца пути, на коем оказался, – величайшая добродетель, даже если выпавшая вам тропа проходит через зловонные болота или, к примеру, как сейчас, через небыструю беседу с занудой-церковником. Любовь к Богу в виде потока энергии есть связь «вертикальная», любовь к ближнему, – тут Лоренсио многозначительно подмигнул Ромео, – «горизонтальная», то есть не покидающая пределов Матрицы, в этом случае она (Матрица) трансформирует (толкует) любовь источника, например некоего Ромео, к восприятию «потребителем», некоей Джульеттой, выступая третейским судией меж двух эго-программ.
– Про себя и самую лучшую девушку на свете я понял, а вот эго-программа, это что? – Ромео снова поморщился от незнакомого и неясного определения.
Лоренсио кивнул:
– То, что люди называют безответной любовью, есть случай отсутствия эго-программы у «источника», истинная земная любовь – это отсутствие программ у обеих сторон.
– Поясни, – произнес Ромео в замешательстве.
– Когда тебе, Ромео, ничего не нужно от Джульетты, равно как и ей от тебя, кроме нахождения подле друг друга, – улыбнулся священник.
– Это про нас, святой отец, обвенчайте же скорее истинно любящих.
– Не забывай о терпении, – напомнил Лоренсио. – В вашем случае, если, конечно же, ты не обманываешь меня и уверен в чувствах партнерши, Матрица оказывается «лишней», с ее стороны не происходит никакого вмешательства в процесс обмена вами своей энергией. Есть, ты знаешь, и понятие «Раба любви», так именуется схема, когда эго-программа «потребителя» нейтральна (Джульетте все равно), а у «источника» (Ромео) избыточна, Матрица при этом открывает для себя пещеру Али-Бабы.







