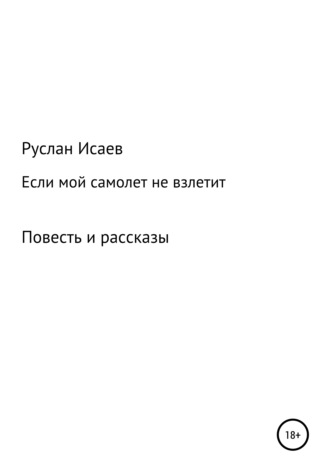
Руслан Исаев
Если мой самолет не взлетит
Впрочем, все это настолько известно, что вопрос в том, бывают ли люди, которым удается этого избежать. Все это настолько скучно, что даже глупо думать над этим. Лучше стоять вот так, без мысли, без чувства, глядя на дурацкую Луну за мутными стеклами.
***
Плохие и хорошие периоды в отношениях Петровых обычно чередовались под действием каких-то непонятных причин (видимо не обходилось без влияния небесных светил). Неожиданно, прямо со следующего утра, наступил хороший период.
Хотя посторонний взгляд с трудом заметил бы какую-то разницу, ведь жизнь Петровых была устроена так, что действия, которые они каждый день выполняли, не могли зависеть от таких мелочей, как настроение. Просто в хороший период было приятно поужинать с семьей и поговорить о пустяках. Приятно было чувствовать мелкие знаки внимания и оказывать это внимание. Даже бесконечный до бессмысленности труд по хозяйству был почти не отвратителен. То есть и хорошее, и плохое скрывалось внутри.
У читателя, не жившего в таких условиях, могли возникнуть некоторые вопросы, поэтому бросим луч света на еще одну сторону семейной жизни Петровых. Так вот: в плохие времена сексуальная жизнь Петровых замирала почти полностью.
Требовалось, чтобы девочки уснули, потом нужно было занавесить окно, тихонько выбраться на веранду на топчан, закрыть дверь на случай, если дети захотят в туалет, к тому же гигиена этой процедуры в условиях Петровых выглядела довольно сложно, так что это было целое предприятие.
В плохие периоды, когда вечерняя усталость чувствуется особенно сильно, когда как-то особенно хочется спать, в душе особенное равнодушие, казалось глупым тратить силы на такой пустяк. Зато в хорошие периоды все в душе Петрова радовалось, когда он видел, как Света, еще ничего ему не говоря, заранее стелит на топчанчике. Тогда они с видом заговорщиков улыбались друг другу и с нетерпением ждали, когда улягутся девочки, которые сегодня, как назло, не хотят спать.
Тихое семейное счастье в коммунальных квартирах не проживает. Нынешний хороший период был даже лучше обычного. Дошло до того, что Света позвонила Петрову на работу, когда девочки были в школе, и попросила его немедленно приехать, что он быстро исполнил.
Семейное счастье продолжалось всего одни сутки. Вопреки существующему мнению, что человек предчувствует крупные события своей жизни, Петров в эти дни был в отличном настроении. Он еще не успел переодеться, приехав на работу, когда его позвали к телефону.
–Кто это? – закричал Петров в трубку. Телефонная связь в городе была зыбкой и слабенькой, казалась почти чудом.
–Это я, Леха, – запищало в трубке, – слушай, мы сгорели.
–Как сгорели?
–Дотла, ха—ха—ха! – заорал Леха в восторге. Это такой русский национальный восторг "гори оно огнем".
–Говори толком, ничего не понятно.
–Чего непонятного? Весь наш квартал сгорел. Все, до основания.
–Что с моими?
–Рядом стоят. Сейчас все собираются. Давай приезжай, – потом в трубке возник какой-то треск, шуршание и связь распалась.
Петров выскочил на шоссе возле станции. В это время автобусы не ходили, но его подобрал грузовик. По скользкой как каток дороге грузовик двигался очень неторопливо, разжигая нетерпение Петрова. Подъехали к улице Первой.
У Петрова возникло желание потрясти головой и проснуться. Два часа назад он уехал отсюда на работу, а теперь на месте всего квартала первых строителей была черная дымящаяся площадка, где торчали печи, какие-то беспорядочные обломки, какие-то обгорелые предметы, так что даже трудно было сказать, для чего служили эти предметы и от чего остались эти обломки. Еще стояли пожарные машины, пожарники перекуривали, собравшись кучкой. Рядом стояла толпа первых строителей. От волнения Петров не сразу нашел глазами своих, но вот, наконец, увидел и успокоился. Не зная, что нужно делать, говорить, не совсем понимая, что все это значит, Петров подошел.
Леха не преувеличил— сгорело все дотла. Построенные из досок, фанеры домики ветеранов горели как порох. Пожар возник от короткого замыкания— электропроводку делали кто как умел. К счастью, никто не пострадал.
Пожар начался утром, когда дома были только те, кто работал в ночную смену, эти счастливчики успели кое—что спасти, хотя как оказалось, вытаскивали совсем не то, что нужно было спасать. Вообще было ясно, что большинство еще ничего не понимает и не знает, что нужно делать.
Однако растеряны были не все. Инженер Иванов (фотография в городском музее "Инженер Иванов производит разметку фундамента компрессорной станции №1"), как всегда собранный, решительный и умный Иванов, рисковый мужик Иванов, скользнув взглядом по сторонам сказал: "Слушайте. Если сейчас разойдемся, то ничего не дадут. Надо стоять, пока не дадут." После того, как нашелся понимающий человек, стало как-то легче.
На черных машинах подъехало городское начальство, образовав не меньшую, чем погорельцы, толпу. Начальство указывало перстом в одну сторону, потом в другую. Иванов, как бы уже на правах представителя ветеранов, тоже стоял рядом и куда-то указывал.
Все ждали, что скажет Первый человек города (так его называла газета).
А в жизни Первого Человека все было как-то не так в это утро. Собственно, у него не впервые появлялось чувство, что все как-то не так, и неизвестно, что делать. Народ разболтался до неприличия. На молодежь надежды никакой. Старики отупели от старости. Он один в поле воин. В его кабинете (в Его кабинете!) уже второй день не могут отремонтировать водопровод. В его машине (в Его машине!) какая-то щель появилась в двери, сегодня дуло. Опять должны приехать высокие проверяющие. К тому же сгорела эта чертова улица Первая.
Черные "Волги" застряли в снегу на перекрестке Жданова и Первой. Черт возьми, давал же распоряжение чистить бульдозерами хотя бы главные улицы. Дело было даже не в том, что оставшиеся двести метров пришлось идти пешком. Он был демократичен до дерзости, до безрассудства и даже иногда ходил на работу пешком. Дело в том, что ничего не делается, не выполняется.
И опять, опять все смотрели на "Первого" с немым вопросом. Как будто бы ждали чуда. Как будто он может улыбнуться сейчас улыбкой Деда Мороза и сказать: "Пойдемте, дети, я покажу вам ваши новые квартиры." Убогий народец улицы Первой ждал его слов. Секретарь очень хотел уважать свой народ, но не мог. Он сам был из тех людей, которые не умеют ни ждать, ни смотреть вот так, с надеждой. Он был еще молод. Его простое русское лицо располагало людей. Его внешность еще не слишком пострадала от бесконечных выпивок и обильных закусок, неизбежных на высоком ответственном посту. Он был даже порядочным человеком (насколько можно позволить себе быть порядочным в его положении). Он был умен. Но он уже давно понял, что от того, каков он, зависит очень мало. От его ума в этом городе не прибавилось ни капли молока, ни одной квартиры, ничего. В его власти было что-то дать нищим, но только отняв сначала у других нищих.
Коммунизм смотрел глазами своего умного секретаря на копошащихся в углях ветеранов. Как старая дама, лишенная иллюзий, стремлений и желаний, Утопия смотрела без восхищения на лучших своих людей. Как старая любовница, которая не ждет уже ничего и ничего не может дать.
Секретарь давно решил, что человеку с его положением, если он не глуп и не бессовестный, лучше реже задумываться, чтобы не сойти с ума. В загадочной стране он родился. Все, что в ней ни сделаешь, выходит к худшему.
Вот чего они ждут? Вот что он может им сказать? Секретарь всячески подчеркивал, что он такой же, как эти люди, но знал, что на самом деле это не так. И это правда: через десять лет он вошел в сотню богатейших людей мира, а еще через пять, по заключению экспертизы, "окончил жизнь самоубийством, связав руки за спиной колючей проволокой и утопившись в бассейне своего имения под Москвой".
–Поехали, – сказал он, поворачиваясь к машине.
Первые строители остались одни, не считая зевак, которые останавливались взглянуть на пепелище. Ветераны разбрелись по своим домам, Света нашла маленький кусочек металла, в котором можно было узнать золотую медаль за окончание школы. Петров доставал из кучи золы то одно, то другое и узнав вещь, бросал ее обратно.
Леха с магнитофоном и чемоданом сидел на дороге напротив Петрова. Леха был единственным счастливчиком, спасшим почти все свое имущество. Когда загорелось, он как раз подходил к дому, возвращаясь из ночной смены. Увидев, что с огнем не справиться, он обежал соседей, после чего схватил магнитофон, кассеты с Высоцким и чемодан. Лехе было тридцать восемь лет, но все его имущество до сих пор помещалось в чемодане.
–Я, друг, потом к тебе побежал, – сказал Леха, – но у тебя столько барахла, что вытащить все было просто невозможно.
Мороз, однако, пробирал до костей. Маленький, крепенький, решительный Иванов собрал совещание. Уже решили отправить женщин и детей по знакомым, когда на улице Жданова показались автобусы.
Ветеранов привезли к старому зданию управления. Это был большой одноэтажный барак с множеством маленьких комнат.
–Как наш квартал, только еще более компактно, – сказал по этому поводу Иванов.
Это строение теперь использовалось только летом как общежитие для сезонных бригад. Слой бумаг, грязного тряпья, объедков, кучи каменного кала зимовали в пустом вымерзшем здании. Началась суета: выносили мусор, мыли, таскали со склада раскладушки, размещались по комнатам. К вечеру все начало устраиваться, успокаиваться, затрещали дрова в печах, нежилой воздух наполнился теплом, взрослые пришли в себя, успокоились дети, доверяя взрослым.
Иванов как-то естественно стал руководить. Была в нем эта черта: естественно и сразу в любом коллективе он становился уважаемым человеком. Он отличался от большинства людей тем, что для него не существовало ситуаций, когда бы он не знал, что делать. И вот такова эта странная жизнь – как все он пятнадцать лет не мог получить квартиру.
К ночи, уложив детей спать, собрались в бывшем кабинете директора, который отвели под общую кухню. И это здание строили люди, собравшиеся в кабинете. Все они множество раз бывали в нем. А Иванов с семьей даже разместился в своем бывшем кабинете.
Принесли водку, спирт. Все это стало напоминать выезд старых друзей в дом отдыха. Выпили, раскраснелись. Многие из этих людей, когда-то спавшие в одной палатке, теперь едва здоровались. А теперь снова общая беда, общая жизнь.
Есть такое свойство общей палатки – даже если вы терпеть не можете своего соседа, нечто братское появляется между вами.
–Наступил коммунизм, – пошутил по этому поводу Иванов.
–Что будем делать дальше? – высказал Петров то, что висело в воздухе.
–Ни—че—го, – ответил Иванов.
Помолчали, внимательно глядя на Иванова.
–Теперь нам дадут, – добавил Иванов.
–Или догонят и еще дадут, – сказал Леха.
–Тогда ляжем на снег вокруг нашего монумента, – ответил Иванов, – только надо всем вместе. Пока не дадут всем до единого. Ни на что другое не соглашаться.
Еще помолчали, переваривая бунтарские речи Иванова.
–Завтра с утра пойдем по кабинетам, —добавил Иванов.
–Я с тобой, – сказал Леха.
–Нет, тебя не возьму. Там нужно стоять молча и веско, как наш монумент. Вот их возьму, – Иванов отобрал несколько человек погрубее внешностью, без следов высшего образования на лице.
Очень приятная жена Иванова сказала, что нужно женщин, чтобы плакали. Иванов согласился. Плакать взяли жену Иванова, Свету и еще двух женщин посимпатичнее.
Засиделись допоздна, обсуждая, могут не дать или не могут. Не верилось, конечно, что дадут. Но в то же время чувствовали, что деваться некуда.
До утра с пожарища растащили даже то, что сами хозяева оставили, посчитав совершенно испорченным. Через несколько дней бульдозер разровнял развалины (химический завод немедленно собрался что-то строить на освободившемся месте). Потом несколько дней валил снег, так что на месте квартала ветеранов образовалась ровная белая площадка, на которую Петров смотрел с некоторой ностальгией, когда проезжал утром на работу.
Не будем описывать, как первые строители добивались квартир. Но в конце концов им разрешили построить себе квартиры в новом доме. Теперь это называлось не "комсомольско-молодежный отряд", а "молодежный жилищный комплекс", хотя некоторые из этой молодежи уже собирались на пенсию. Но как бы там ни было, через год Петров и Света стояли в своей совершенно пустой квартире, которую предстояло заполнить вещами. Интересно, что в тот день, когда Петров смотрел на пожарище, ему почти не жаль было имущества, ему стало жалко сейчас, когда он думал, как можно было бы расставить сгоревшую мебель, как пригодились бы все эти торшеры, люстры и прочие вещички, которые с увлечением покупала Света.
Но, конечно, он был совершенно счастлив.
После здания конторы в квартире было ужасно жарко, можно было даже ходить в одной рубашке.
Вот так Петров, рабочий человек, построивший сгоревшую улицу Первую, фанерное здание конторы, которым можно пользоваться только летом, построивший аэропорт, который не может принимать крупные самолеты, построивший дороги, утонувшие в болотах, построивший еще много чего, что, к сожалению, уже исчезло (за исключением монумента, который он построил самому себе), получил квартиру. Много и честно трудился Петров, его вины нет ни в чем, и вот результат его похвальной жизни— ему разрешили построить себе квартиру.
Вечером в Лехиной квартире (представьте, даже у Лехи отдельная квартира!) героические строители собрались отметить новоселье. Попов (фотография в городском музее "Рабочий Попов включает первый ток электростанции") произнес замечательный тост. Я даже думаю, что этот тост вполне достоин того, чтобы сделать его эпиграфом к незатейливой истории первых строителей нефтяного города. Вот он:
–Так выпьем же за наше государство, которое никого не оставляет в беде!
Отряд не заметил потери бойца
Мой двоюродный брат Арнольд терпеть не мог своего имени. Он к нему так и не привык. Тем более, что он был, так сказать, не просто обычным Арнольдом. Его имя было сокращением по первым буквам слов "Аврора" (крейсер), Революция, Новое Общество, Ленин, Диктатура пролетариата. То есть если бы мама назвала его из прихоти иностранным именем, Арнольд бы с ним смирился. Но обидно же всю жизнь быть сокращением из слов, которые терпеть не можешь.
Да, да, можете не верить, но Арнольду были безразличны такие высокие понятия.
Как-то мы пили пиво в гадюшнике у кинотеатра Горького, и Арнольд поделился этим со мной. Само собой, я немедленно сообщил это маме Арнольда:
–Я спросил, как ты не любишь Партию, Ленина!? Нет, говорит, абсолютно равнодушен. Как, говорю, ты не любишь Родину!? Родину, говорит, может, и люблю, но только странною любовью.
–Ну и что дальше? – мужественно спросила мама Арнольда.
–Я подумал, может проконсультироваться у психиатра. Но он сказал, что это у него с детства.
После разговора со мной мама Арнольда пришла домой и спросила:
–Арнольд, это правда?
Спросила она это таким голосом, что Арнольд сразу догадался:
–А—а, братишка уже настучал.
–Боже, кого я вырастила, – горько сказала мама.
Мама мыла посуду на кухне и плакала, а Арнольд вместо того, чтобы замаливать грехи, угрюмо смотрел телевизор.
Давайте только сразу договоримся, что факты – это никакая не истина. Факты— это так, чепуха какая-то, к сути происходящего часто не имеющая никакого отношения. Согласно приведенным фактам получается, что между Арнольдом и мамой не было никакого взаимопонимания. А на самом деле они нежно любили друг друга и были вполне искренни. Просто Арнольд избегал разговоров на эти темы.
Мама Арнольда обладает дисциплиной чувств. Ее чувства – это всегда чувства хорошего культурного человека. Если в ней и зарождается нелюбовь к кому-нибудь, уж не говорю о зависти или о чем-то более низменном, она всегда с этим справляется и чувствует то, что должен чувствовать хороший умный человек. А такой человек должен быть правдив, не мстителен и все такое общеизвестное, но главное – он не может позволить себе не только поступка, но даже чувства (подчеркиваю – чувства), не укладывающегося в нравственный кодекс. Мама Арнольда работала директором школы и всегда пользовалась огромным уважением. Про таких, как она, людей мы раньше говорили «настоящий коммунист».
Так вот Арнольд совершенно не заметил, что очень обидел маму и совершенно не придал значения происшедшему. Ах, если б мы могли угадывать вот такие ничтожные, но судьбоносные события своей жизни!
Впрочем, конечно, в случай мы не верим. Как материалисты и атеисты мы верим в судьбу и утверждаем, что все равно рано или поздно Арнольд свернул бы с прямого пути на кривую дорожку.
В силе духа Арнольду мы отказать не можем. Мы, его близкие, наблюдали за ним даже со страхом, но все же преклоняясь. Есть в нем что-то такое сверхчеловеческое, демоническое и байроническое. Это нас к нему одновременно и притягивало, и отталкивало. Вообще-то мы, «нормальные» люди, по своей природе устроены так, что терпеть не можем людей, хоть на полголовы высовывающихся из общей массы. Будь наша воля, мы бы тут же откручивали таким выскочкам головы. Да вот беда – перед такими людьми мы млеем, как кролики перед удавом.
У таких сверхчеловеков, как Арнольд, которые, казалось бы, созданы, чтобы все понимать, все анализировать, на все смотреть сверху вниз и на все плевать, есть одна слабость – гордость таких людей болезненно развита. Уколы в это место для Арнольда гораздо более болезненны, чем для нас, простых смертных.
Ну, например, подойдет к Арнольду милиционер и попросит предъявить документы. Ну что тут, казалось бы, особенного, на то милиция и создана, чтобы документы у граждан были в порядке. Так нет, Арнольд вспыхнет и спросит: "А что, в стране военное положение?" Ну, ясно, его тут же задержат и долго и нудно выясняют личность. Нарочно долго и нудно, чтобы Арнольд больше не лез в бутылку.
После армии Арнольд так и не привык ни к какому общественно-полезному труду. Не пошел Арнольд работать, например, в прессовый цех, или на металлургический комбинат, хоть там при поступлении после армии даже давали пособие целых 300 рублей. Вместо этого Арнольд устроился в городской театр рабочим сцены. И пошли эти пьянки, гулянки, причем Арнольд пришелся ко двору этой пестрой публике.
Мы, близкие Арнольда, работающие на металлургическом комбинате, хорошо знаем, что мы – это базис, а всякие там театры и прочее искусство – это чепуха. Я даже точно не знаю, почему так завожусь, когда думаю о всяких артистках и писателях, но вот так бы и писал, и писал ядовитые строки. Хотя к тому времени я сам уже был членом союза писателей (ушел с комбината в городскую газету), и должен был бы терпимо относиться и плевать на этих артисток и писателей.
Я только хочу сказать, что понятно, почему Арнольд шел по кривой дорожке все увереннее. Трудовой коллектив (тьфу, трудовой, это в театре трудовой) его очень поддерживал.
В свободное время Арнольд стал рассказики пописывать. Теперь обнаружилось, что это очень умно. Читал, приходилось. Может, и умно, да неинтересно и читать невозможно, думал я тогда. По правде говоря, теперь мне многое у него нравится, причем из того, из раннего.
А тогда я ревниво думал, я ведь специалист все-таки (как я уже сказал, есть у меня, между прочим, удостоверение, выданное союзом писателей о том, что я настоящий поэт), а рассказики Арнольда не понимал. Надев очки, я читал очень внимательно, честно скажу, очень старался что-то уловить. «Брат, да это же шутка, гротеск», – не выдерживал Арнольд. «А—а, шутка», – торопливо улыбался я, чувствуя себя виноватым, за то, что мне не смешно.
И вот опять-таки смешная деталь. Арнольд как-то сказал в кругу друзей, что он "бросит писать в тот день, когда рассказ понравится брату". Это меня очень обидело. А в то же время, когда я читал его произведения, я видел, что Арнольду очень хочется, чтобы рассказ мне понравился. Конечно, Арнольд этого не дождался, так что спокойно пишет до сегодняшнего дня.
В-общем, там, в этих кругах, где вращался Арнольд, все они были гении, все друг друга хвалили и ценили, и как-то собрали то, что каждому казалось наиболее гениальным, и надумали издать книжку.
Обманули глупенького старенького цензора нашего издательства, обвели вокруг пальца несчастного старичка, которого за это из партии и с работы выгнали. Он, конечно, мало что понял в их модерновых произведениях. Да и откуда ему понимать, если он в молодости на стройках Магадана охранял заключенных. Потом за заслуги партия направила его присматривать за нашими провинциальными гениями.
Впрочем, он понял достаточно, чтобы испугаться, но эта шайка объяснила ему, что теперь такая политика партии. В этом сборнике участвовала и его внучка. Не пожалели старичка, да что там, этой публике родного дедушку не жалко.
Книжечка уже была отпечатана, но тут кто-то проявил бдительность, и весь тираж порезали.
Бедного старика за один день вышибли из партии и с работы. Он пришел домой не в себе и, обращаясь к портретам Ленина и Сталина, объяснял, что все это происки врагов из-за океана. Его несчастная старуха вызвала скорую помощь, но было поздно. Старик разложил все свои ордена и застрелился из револьвера, которым его наградил сам товарищ Берия. Выполнил свой последний перед партией долг. Вот так.
А между прочим, милейший был старичок, царство ему небесное. Мы с ним несколько раз выпивали, когда выходили мои книжки, он мне рассказывал, как строил дорогу по Колыме. Да так живо, что я уговаривал его написать книжечку воспоминаний. Но он так и не собрался – некогда было на его ответственном посту. "А кто за вами следить будет? Понапишете черт знает чего,” – отнекивался он.
Ну, весь тираж уничтожили, кое-кого из авторов сборника отправили в колонию-поселение из нашего северного города еще дальше на север, но Арнольд в их число не попал. Великая у нас страна! В каком медвежьем углу не живи, а все равно есть куда отправить в ссылку еще дальше.
А тут как раз момент такой, что власти занялись вплотную культурой, стали порядок наводить. Но что-то такое было уже в воздухе. Это были восьмидесятые. Советский коммунизм был уже похож на своего последнего Генерального секретаря Андропова: порядок наводит, диссидентов гноит и рок-музыкантов сажает, молодцом глядит, но уже подключен к аппаратам искусственного дыхания, почки, печени и всего остального ливера.
Арнольд слонялся без дела, но писал много. На нашу жизнь он стал совсем плохо смотреть.
–Нет у нас свободы мысли, – говорил он.
–Как это нет? Думай, сколько влезет, – спорил я.
–Нет, Россия—несчастная страна. Страна дураков, – бросал Арнольд.
Тут уж я только руками на него махал.
Совсем невыносимым человеком стал Арнольд. Его гордость развилась до совершенно болезненной степени.
–Ты не замечаешь, что тебе каждый день плюют в лицо? – говорил он мне.
То его продавщица обругает, то участковый зайдет, проверит, работает ли Арнольд, не ведет ли паразитический образ жизни. А Арнольд размахивает рукописями, как будто участковый может согласиться, что рассказики – это общественно полезный труд.
Иногда и компетентные ребята с ордером заглядывали к Арнольду почитать рукописи, узнать, как творческие успехи, проверить, не пишет ли он чего враждебного, не изготавливает ли клеветы на нашу жизнь. В те времена это были его единственные читатели, а Арнольд из-за таких пустяков каждый раз гневался почти до инфаркта. А между прочим, именно в лице молодых ребят из КГБ Арнольд приобрел первых настоящих читателей, которым он нравился не за то, что с ними водку пьет.
В любимом Арнольдовом театре всех этих еврейчиков поприжали, репертуар подсократили, ходил он со своими приятелями мрачный, как туча.
В-общем, в один прекрасный день почти вся труппа нашего театра снялась с места, как стая гусей, и улетела на юг, в теплый Израиль.
Что ж, как говорится, отряд не заметил потери бойца. Хотя, впрочем, кое-какую потерю я почувствовал. Вместе с труппой уехал и закройщик нашего ателье, давний мой знакомый, Константин Моисеевич. Ах, какой он мне костюм сшил, когда я демобилизовался из внутренних войск!
Прихожу в ателье костюм заказать на свадьбу дочери, а вместо Константина Моисеевича вываливает детина с русской рожей, метра два ростом. Все же, чтобы с уверенностью костюм шить, лучше, чтобы закройщик был пожилым приветливым евреем, как Константин Моисеевич.
Впрочем, не буду больше о Константине Моисеевиче (хотя он бы материал не испортил, как этот детина), а то русские патриоты обзовут меня "русофобом". Хоть и не понятно, что означает это мудреное нерусское слово, а все ж обидно.
Вместе с нашим театром уехал и Арнольд. В конце концов он оказался в Америке. Для нас, его близких, в те времена оказаться в Америке – это нечто такое же странное, как оказаться на Луне. Еще раз говорю, была середина восьмидесятых, Афганистан, железный занавес и все такое.
Первое время Арнольд писал довольно часто и даже отправлял нам посылки. Представляете, какой был стыд – ходить на почту и получать посылки из Америки. Мама Арнольда попросила меня сходить получить. Я, помнится, первый раз даже выпил для храбрости. Но, правда, девчонки на почте были растеряны не меньше меня. Они точно не знали, можно ли отдать посылку, не следует ли ее вскрыть в присутствии представителей компетентных органов и т. д. Такое чрезвычайное происшествие в нашем отделении связи случилось впервые. Они даже звонили начальству, но их успокоили, что выдавать можно, уже компетентные органы все вскрыли и проверили.
Ну, в общем, мы собрались на семейный совет и написали Арнольду, чтобы он больше нас не тревожил, не портил нам анкеты. По-моему, он, дурачок, обиделся, но писать перестал.
Все-таки информация об Арнольде поступала тоненьким ручейком. То он здесь, то там, уже вроде профессор и почетный член. А потом на несколько лет мы о нем подзабыли – своих проблем хватало.
В 1991-м году я был по делам в Москве. Уже когда началась вся эта свобода и перестройка. И надо же, в последний день я наткнулся на Арнольда. Такая странная встреча. Я зашел в Дом книги, бродил там среди полок. И вдруг меня окликнули.
Я увидел то ли господина, то ли мистера, но уж никак не товарища. На товарищах костюм так не сидит. Господин снял очки и оказался Арнольдом. Трудно было узнать его после стольких лет.
–Ты совсем не изменился, – сказал Арнольд. Даже в его речи звучал иностранный акцент.
Поехали к нему в гостиницу и напились по-русски. Как и полагается двоюродным братьям после долгой разлуки.
В Россию Арнольд приехал ненадолго по своим литературным делам. Он даже не сообщил об этом нам, своим родным. Далее он следовал в Токио. Меня не покидало удивление: я как-то впервые в жизни почувствовал, что Нью-Йорк, Токио – все это существует на самом деле. Это был 91-й год, потом я сам много где побывал, но помню вот это свое ощущение.
Арнольд позвонил в ресторан при гостинице и на английском языке заказал ужин.
–Если заказать по-русски – не принесут, – сказал он.
Арнольд напился до слез, стекавших по подбородку на отличный костюм. Он говорил в тот вечер очень много. Надо отдать ему должное, он не считал лузерами и никудышниками нас, не уехавших на Запад. Ну то есть все население свободной России. Не опускался он до фотографий себя на фоне кадиллаков и мерседесов. Тем более, что вскоре и мы накупили кадиллаков и мерседесов (подержанных). Я заметил в нем некоторый надрыв. Хотя он был очень уж пьян. По крайней мере, когда я смотрел его интервью по телевизору, я такого надрыва не заметил.
Потом я уложил спать ослабевшего брата. А сам, честно признаюсь, совершенно пьяный, потащился на вокзал, сжимая в руке тяжеленный чемодан со сливочным маслом для всей родни. Еще раз говорю, это был 1991-й год, и жрать у нас в городе было нечего.
Не успел поезд отъехать от вокзала, как уже по вагонам стали шнырять бичи, предлагая сыграть в карты их колодой, а пьяные тела загромоздили проход. Я долго ругался с проводником, потому что на мою полку оказались двойные билеты, а он отказывался искать мне место, угрожая высадить на первой же станции, потому что я пьян как свинья.
Но в конце концов я устроился, пошел поблевал в проходе между вагонами, потому что блевать в загаженном поездном сортире было слишком противно и негигиенично. И уснул, думая о своем брате, уезжающем в Токио читать лекции о русской культуре.
Удивительно, взгляды Арнольда изменились не меньше, чем его внешний вид. Теперь Арнольд любит Россию до пронзительной, невероятной степени. Теперь он так называемый «патриот». Он критикует Запад за лицемерие, политкорректность и победу левых взглядов.
И снова Арнольд отличается от такого человека, как я. Это, видимо, его судьба. Я вот не могу так сильно любить все это. Я ведь не собираюсь куда-то уезжать. И у меня нет дома под Парижем. И как-то не хочется думать, что так и проживешь всю жизнь, так и подохнешь по уши в этом дерьме.


