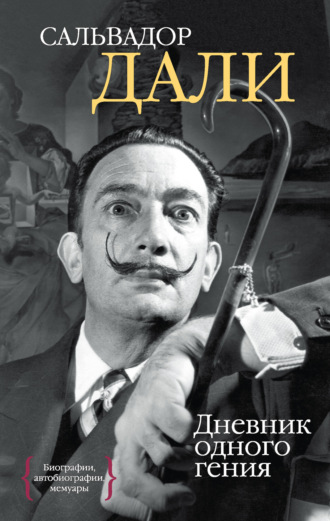
Сальвадор Дали
Дневник одного гения
Июль
Порт-Льигат, 1-е
В июле ни женщин, ни улиток[62].
Я проснулся в шесть и первое, что сделал, проверил кончиком языка трещинку. За ночь, которая была исключительно жаркой и сладострастной, она чуть подсохла. Я, впрочем, был несколько удивлен, что она подсохла так скоро и, по ощущениям моего языка, представляла собой некое затвердение, готовое отвалиться, подобно струпу. Но я сказал себе: «Ну нет, мы продлим удовольствие». Я не отдеру его прямо сейчас, ведь это означало бы неосмотрительно отказаться от радостей целого дня напряженного и усердного труда, во время которого я забавлялся бы с подсохшей корочкой на моей трещинке. И надо же было, чтобы именно в этот день случилось самое пугающее событие в моей жизни: я превратился в РЫБУ! Об этом, право же, стоит рассказать.
Я уже с четверть часа придавал, как и прошлым утром, сверкание блестящим чешуйкам летучей рыбы на своей картине, но мне пришлось прерваться из-за нашествия тучи огромных мух (иные из них отливали золотом), привлеченных смрадной вонью рыбного трупика. Мухи перелетали с протухшей рыбки, садясь мне на лицо и на руки, тем самым вынуждая меня удвоить внимательность и виртуозность, поскольку мне нельзя было, имея в виду всю тонкость и трудность моей работы, реагировать на их раздражительные прикосновения к коже и надо было тщательно, даже не моргнув глазом, наносить каждый мазок, выписывая чешуйку, но именно в этот момент ошалевшая муха приклеилась к ней, закрыв ее от меня, а три другие сели на натуру. Я вынужден был использовать малейшие перемещения их по тельцу рыбки, чтобы продолжать свои наблюдения, и это не говоря уже о еще одной мухе, которая с какой-то страстной настойчивостью садилась на мою язвочку. Прогнать я ее мог, лишь подергивая с небольшими интервалами уголком рта и строя при этом гримасы жуткие, но достаточно мелодичные, чтобы не создавать помех прикосновению кисти к холсту, ведь в момент нанесения мазка я даже дыхание задерживал. Иногда мне даже случалось удержать муху на губе и прогнать ее только тогда, когда я чувствовал, что она начинает копошиться на моей трещинке.
Однако не из-за этого чудотворного мученичества я решился прекратить работу; напротив того, сверхчеловеческая задача писать картину, когда тебя пожирают мухи, приводила меня в восторг и заставляла проявлять чудеса ловкости, чего я не смог бы достичь, если бы мне не докучали мухи; нет, вынудило меня прерваться омерзительное зловоние, идущее от тухлой рыбы, из-за которого я чуть не изверг только что съеденный завтрак. Я велел унести мертвую натуру и принялся писать Христа, но тут мухи, до того распределявшиеся между рыбой и мной, соединились все до единой на моей коже. Я был нагишом, а тело мое заляпано брызгами сиккатива из опрокинувшейся бутылки. Думаю, именно эта жидкость и притягивала мух, потому что сам-то я был скорее чистый. Облепленный мухами, я продолжал писать, причем все лучше и лучше, защищая трещинку языком и дыханием. Языком я чуть приподнимал и размягчал верхнюю чешуйку струпика, которая, похоже, вот-вот готова была отвалиться. А дыханием я подсушивал ее, согласовывая выдохи с ритмом нанесения мазков на холст. Струп был слишком сухой, и вмешательства одного языка оказалось бы недостаточно, чтобы отделить от него первую тончайшую пленочку, если бы я не помогал себе конвульсивной гримасой (которую я корчил всякий раз, когда брал краску с палитры). Но ведь эта тончайшая пленочка обладала всеми теми же свойствами, что и рыбья чешуйка! Моя трещинка оказалась поистине месторождением для добычи чешуек, подобных чешуйкам слюды. Стоило отделить одну, как в уголке рта тотчас же возникала другая.
Первую я сплюнул себе на колено. Небывалая удача. У меня сразу возникло сверхчувственное впечатление, будто она, кольнув меня, срослась с моей плотью. Неожиданно я перестал писать и закрыл глаза. Мне потребовалось напрячь всю волю, чтобы не двигаться, потому что лицо мое было облеплено чрезвычайно активными мухами. Сердце же в страхе колотилось с бешеной скоростью, и я вдруг осознал, что отождествляю себя с той протухшей рыбой и уже чувствую во всем своем теле ее застылость.
– О боже, я превращаюсь в рыбу! – вскричал я.
И мгновенно в голове у меня возникли подтверждения правдоподобности этого превращения. Чешуйка, упавшая с трещинки, жгла мне колено и размножалась. Я чувствовал, как покрываются чешуей мои ляжки – одна, другая, – а следом живот. Я хотел до конца изведать это чудо и с четверть часа, наверное, сидел с зажмуренными глазами.
– А сейчас, – все еще не веря, промолвил я, – я открою глаза и увижу, что все мое тело покрыто чешуей.
Я истекал по́том, меня переполняло тепло склоняющегося к закату солнца. И вот наконец я разлепил веки…
Вот это да! Я весь был покрыт блистающей чешуей!
Однако в тот же миг я догадался, в чем дело: то были всего лишь засохшие и превратившиеся в кристаллики брызги пролитого сиккатива. И надо же было, чтобы именно в этот момент вошла служанка. Она принесла мне перекусить: поджаренный, смоченный в оливковом масле хлеб. Посмотрев на меня, она так резюмировала ситуацию:
– Да вы же мокрый, как рыба! И вообще не понимаю, как можно писать, если мухи жрут вас, как на кресте!
До сумерек я просидел один, погруженный в задумчивость.
О Сальвадор, твое превращение в рыбу, символ христианства, было благодаря мучениям, причиняемым тебе мухами, всего лишь типично далианским и сумасбродным способом отождествить себя с Христом, которого ты в это время писал!
Кончиком языка, раздраженного за целый день труда, я наконец-то снимаю целиком весь струпик с трещинки, а не очередную тоненькую пленочку. Продолжая одной рукой писать, я с бесконечными предосторожностями беру содранную корочку большим и указательным пальцем второй руки. Она оказалась мягкой, но, если я ее согну, она сломается. Я подношу ее к носу и нюхаю. Ничем не пахнет. В задумчивости я на мгновение кладу ее под нос на верхнюю губу, которую пришлось для этого приподнять, скорчив гримасу, в точности отражающую тогдашнее мое состояние безумной истощенности. Во всем теле я ощущаю блаженную расслабленность…
Я отодвинулся от стола. Как бы корочка не свалилась. Я положил ее на тарелку, что стоит у меня на коленях. Но это ни в коей мере не изменило состояния прострации, в которое я был погружен, и я продолжал выпячивать губу, как будто мне предназначено навеки застыть с этой гримасой на лице. К счастью, волнение, вызванное боязнью утратить только что обретенную корочку струпика, вывело меня из состояния невыносимой оцепенелости. Близкий к панике, я принялся искать ее на тарелке, где она оказалась всего лишь одной из коричневатых точек среди многочисленных крошек, оставшихся от поджаренного хлеба. Мне показалось, что она мной наконец-то обнаружена, и я взял ее двумя пальцами, чтобы вдосталь наиграться с ней. Но тут меня охватило катастрофическое сомнение: я отнюдь не был уверен, что это и впрямь мой струпик. Меня охватывает безмерное желание подумать. Следовало разрешить загадку, ибо то, что я держал в пальцах, было похоже на козлов, выковырянных из носа. Впрочем, все ведь они схожи и размерами, и видом, и отсутствием запаха, так что такое ли уж большое имеет значение, подлинный это струпик или нет? Однако этот вывод привел меня в ярость, поскольку он попросту означал бы, что Божественный Христос, которого я пишу, испытывая крестные муки от мух, никогда на самом деле не существовал!
В пароксизме ярости губы у меня дергаются, и это при свойственной мне воле к могуществу вызывает кровотечение из трещинки. Овальная красная капля долго-долго ползет у меня по подбородку.
Да, именно в такой истинно испанской манере я знаменую все свои причуды! Кровью, как того требовал Ницше!
3-е
Как обычно, через пятнадцать минут после первого завтрака я, засунув за ухо веточку жасмина, отправляюсь в клозет. И едва я успел усесться, как мгновенно происходит дефекация, причем почти без запаха. То есть до такой степени, что чувствуется только благоухание душистой туалетной бумаги и моей веточки жасмина. Впрочем, событие это можно было бы предвидеть, основываясь на блаженных и исключительно сладостных сновидениях этой ночи, которые в моем случае предвещают легчайшее и безуханное испражнение. Притом сегодняшний мой стул самый что ни на есть чистый, если только подобным определением позволительно воспользоваться применительно к подобному объекту. Я, бесспорно, приписываю это своему почти абсолютному аскетизму и, кстати, с отвращением и чуть ли не с ужасом припоминаю, какой у меня бывал стул в возрасте двадцати одного года в пору наших с Лоркой и Бунюэлем мадридских оргий. В сравнении с сегодняшним это происходило невероятно гнусно, зловонно, прерывисто, судорожно, с брызгами во все стороны, конвульсивно, адски, дифирамбически, экзистенциалистски, жгуче и кровоточиво. Сегодняшняя же почти текучая плавность дефекации весь день наводила меня на мысль о меде трудолюбивых пчелок.
У меня была тетушка, которую приводило в ужас все связанное с кишечными отправлениями. От одной мысли, что она могла бы пустить ветры, у нее на глаза наворачивались слезы. Самым большим своим достоинством она считала тот факт, что ни разу в жизни не испортила воздух. Сейчас мне это кажется не таким уж потрясающим враньем, как казалось когда-то. Должен отметить, что я сам в периоды аскетизма и напряженной духовной жизни почти не пускаю ветры. Утверждение, часто приводимое в старинных книгах, что святые анахореты не испражнялись калом, сейчас мне все больше и больше кажется близким к правде, особенно если принять во внимание идею Филиппа Ауреола Теофраста, досточтимого Бомбаста фон Гогенгейма[63], который утверждает, что рот вовсе не рот, а желудок и что если пищу долго жевать, а потом выплевывать, то человек все равно напитывается. Отшельники жуют корешки и акрид, а после выплевывают. А вера и наивное убеждение, будто их уже сытит сам воздух небес, и приводит их в состояние экстаза.
Необходимость глотать – об этом я давно уже писал в своем трактате о каннибализме[64] – связана скорее не с потребностью насытиться, а с навязчивой потребностью совсем иного, эмоционального и нравственного, порядка. Люди глотают, чтобы самым полным и абсолютным образом отождествиться с любимым существом. Точно так же после причастия мы, не разжевывая, проглатываем облатку. В этом тоже проявляется антагонизм между жеванием и глотанием. Святой анахорет стремится разделить два этих процесса. Дабы всецело отдаваться своему земному и жвачному (в определенном философском смысле) предназначению, он намеренно пользовался челюстями лишь для поддержания существования, сохраняя таким образом акт глотания исключительно для Бога.
4-е
Моя жизнь упорядочена самыми точными часами. Все в ней идет по порядку. Едва я закончил писать, как появились двое визитеров со своими свитами. Один из них Л. Л., барселонский издатель Дали героической эпохи, объявивший, что он специально приехал из Аргентины, чтобы повидаться со мной, а второй – Пла. Л., пришедший первым, сообщает мне о своих намерениях. Он издаст в Аргентине четыре новые книги, моих или обо мне.
1. Очень толстую книгу Рамона Гомеса де ла Серны[65], для которой я обещаю дать некий непубликовавшийся и, естественно, потрясающий документ.
2. Мою «Сверхтайную жизнь»[66], которую я в настоящее время пишу.
3. «Скрытые лица» де ла Серны, которые он только что приобрел в Барселоне.
4. Мои загадочные рисунки, чтобы сопроводить ими литературные тексты де ла Серны.
Де ла Серна требует у меня иллюстраций. Я же, напротив, решаю, что это он будет иллюстрировать мою книгу.
Что же касается Пла, то с момента появления он только и знает, что повторяет фразу, услышанную в прошлый свой визит ко мне: «Эти усы еще станут знаменитыми!» Долгий обмен любезностями между ним и Л. Чтобы наконец прервать их, я рассказываю, что Пла только что написал статью, в которой с редкостной проницательностью уловил мои странности. Он мне отвечает:
– Рассказывай мне побольше о себе, и я настрочу столько статей, сколько захочешь.
– Ты бы написал обо мне книгу, потому что сделать лучше тебя не сможет никто.
– А я ее издам! – воскликнул Л. – Впрочем, Рамон уже кончает книгу о Дали.
– Но Рамон даже не знаком с Дали лично! – возмущенно восклицает Пла[67].
Мой дом внезапно наполнился друзьями Пла. Друзей у него великое множество, и описать их крайне трудно. Но всем им присущи две характерные черты: у каждого из них кустистые брови, а выглядят они так, словно их только что выдернули с террасы кафе, где они просидели лет десять, не меньше.
Провожая Пла, я сказал ему:
– Эти усы еще прославятся! Вот только что меньше чем за полчаса мы решили издать пять книг – моих или обо мне! Моя стратегия уже принесла бесчисленные публикации о моей личности, но самым важным остается все-таки то, что мои антиницшеанские усы неизменно устремляются к небу, как башни Бургосского собора. И однажды по причине моей оригинальности людям придется заняться моим творчеством. Это куда плодотворней, чем ощупью пытаться сквозь творчество искать личность автора. Для меня самым захватывающим было бы узнать все о личности Рафаэля.
5-е
В тот день, когда прекрасный поэт Лотен, которому я оказал огромное множество услуг, подарил мне в знак благодарности столь любимый мною рог носорога, я объявил Гале:
– Этот рог спасет мне жизнь!
И сегодня это предсказание начинает сбываться. Рисуя Христа, я вдруг заметил, что он составлен из носорожьих рогов. Точно одержимый, я пишу каждую деталь анатомии так, как будто речь идет о роге носорога. Когда рог достигает совершенства, тогда – и только тогда – анатомия Христа тоже становится совершенной и божественной. Затем, заметив, что каждый рог предполагает другой, перевернутый наоборот, я принимаюсь писать их во взаимопроникновении. И сразу же все становится еще стократ божественней, еще совершенней. Я в восторге от своего открытия и падаю на колени, чтобы возблагодарить Христа, и это вовсе не метафора. Надо было видеть, как я, точно настоящий безумец, пал у себя в мастерской на колени.
Во все времена у людей был пунктик – постичь форму и свести ее к простейшим геометрическим объемам. Леонардо[68] пытался создать некие яйца, которые, по Евклиду[69], якобы имеют самую совершенную форму. Энгр[70] предпочитал сферы, а Сезанн[71] – кубы и цилиндры. Но только Дали через ухищрения собственного притворства, доходящего до пароксизма одержимости только и исключительно носорогом, буквально недавно открыл истину. Все мало-мальски криволинейные поверхности человеческого тела имеют геометрически нечто общее, а именно то, что мы видим в том самом конусе с закругленным острием, загнутым к небу или к земле, – конусе, в абсолютном совершенстве которого дышит ангельское смирение, то есть в роге носорога!
6-е
Весь день стоит оглушающая жара. К тому же я на проигрывателе поставил Баха[72] на максимальную громкость. Ощущение, что голова у меня вот-вот расколется. Трижды я падал на колени, чтобы возблагодарить Господа за то, что «Вознесение» так успешно продвигается. В сумерки задул жаркий южный ветер, и холмы напротив запылали пожаром. Гала возвратилась с ловли лангустов и послала ко мне служанку сказать, чтобы я посмотрел на пожар, который окрашивает море сперва аметистовым, а потом ярко-красным цветом. Из окна я знаком отвечаю ей, что уже видел. Гала сидит на носу лодки, крашенной неаполитанской желтой. В этот день она показалась мне красивей, чем когда бы то ни было. Рыбаки на берегу любуются пламенеющим пейзажем. Я опять упал на колени, чтобы снова возблагодарить Господа за то, что Гала так же прекрасна, как женщины, которых писал Рафаэль. Клянусь, такую красоту невозможно вынести, и никто не сумел прочувствовать ее так витально, как я, и все благодаря моим недавним экстазам перед носорожьими рогами.
7-е
Гала еще прекрасней.
Получил приглашение присутствовать 14 августа на мистерии в Эльче[73]. Купол церкви механически раздвинется, и ангелы вознесут Пресвятую Деву на небо. Возможно, съездим. Из Нью-Йорка мне как раз заказали статью о Даме из Эльче[74]. Все главное сходится: небольшой городок с его уникальной Дамой и уникальной мистерией Вознесения, которую хотели запретить, но которую папа только что объявил соответствующей догмату. Точно так же и для меня все сходится, усложняя и обостряя смысл каждого прожитого мною дня. Притом я получил свою статью о Вознесении, напечатанную в «Этюд кармелитен». Отец Бруно этот номер журнала посвятил мне. Я перечитал статью и должен признаться, что она мне безмерно нравится. Вспомнив про кровоточивую свою трещинку, я сказал себе:
– Обещано – сделано!
Вознесение – это кульминационный момент ницшеанской воли к могуществу женщины, сверхженщина возносится в небо мужской энергией собственных антипротонов!
8-е
Мне нанесли визит два инженера, и оба идиоты. Я слышал их разговор, пока они спускались по склону. Один втолковывал другому, что он обожает ели.
– Порт-Льигат какой-то голый, – говорил он. – Я люблю ели, и вовсе даже не за тенистость, мне тень не нужна. Мне просто нравится смотреть на них. Если я не вижу елей, лето для меня не существует.
Я подумал: «Ну, погоди! Я тебе покажу ели!» Принял я их обоих весьма любезно и даже сдерживался во время беседы, состоявшей сплошь из общих мест. Они были мне чрезвычайно признательны, а когда я их проводил на террасу, увидели лежащий там монументальный слоновый череп.
– Что это? – интересуется один из них.
– Череп слона, – отвечаю я. – Я безумно люблю слоновьи черепа. Просто не могу обходиться без них. Без слоновьего черепа для меня и лето не лето.
9-е
Сладостно снедаем желанием создать нечто еще более прекрасное и необыкновенное. Божественная эта неудовлетворенность – знак, что в недрах моей души подготавливается некий подъем, который сулит мне огромное наслаждение. В сумерках я смотрю в окно на Галу, которая кажется мне еще моложе, чем накануне. Она подплывает на своей новенькой лодке. По пути она попыталась погладить наших двух лебедей, которые стояли на небольшой лодке. Но один из них улетел, а второй спрятался под нос лодки[75].
10-е
Получил письмо от Артуро Лопеса. Он утверждает, что любит меня больше всех своих друзей. Он приплывет на своей яхте, которую заново украсил китайскими безделушками Людовика XV[76] и столами из порфира. Мы поедем в Барселону встретить его, а потом вернемся в Порт-Льигат на его судне, очевидно за порфировыми столами. Его пребывание у нас обретет историческое значение, так как нам предстоит принять решение об изготовлении золотого потира, украшенного эмалью и драгоценными камнями, для Темпьетто Браманте[77] в Риме. Так что 2 августа я опишу памятный этот визит в высоком стиле истинного хрониста, которым я прекрасно владею, когда того хочу[78].
12-е
Всю ночь мне снились творческие сны. В одном из них я придумал коллекцию одежды, которая, будь я кутюрье, принесла бы мне состояние и которой хватило бы мне по меньшей мере на семь сезонов. Но я забыл, что в точности мне снилось, и потому лишился этого своего маленького клада. Ну, может, я еще попытаюсь восстановить два платья, которые Гала наденет нынешней зимой в Нью-Йорке. Но вот последний из снов этой ночи был очень впечатляющим. Я увидел способ, как произвести киносъемку «Вознесения». Испробую его в Америке. Но и после пробуждения я, как и во сне, продолжаю считать его замечательным. Вот что я предлагаю. Берутся пять мешков бараньего гороха и ссыпаются в один большой; весь горох сбрасывается с высоты десяти метров; достаточно мощным электрическим лучом на падающий бараний горох проецируется изображение Пресвятой Девы; на каждой горошине, отделенной от других, подобно атомам, небольшим расстоянием, отразится крохотная часть изображения; после этого вы пускаете заснятое изображение задом наперед; вследствие ускорения, вызванного силой тяжести, при проекции перевернутое падение горошин создаст эффект вознесения; действуя таким образом, вы получаете картину вознесения, безукоризненно соответствующую всем законам физики. Стоит ли говорить, что данный эксперимент является единственным в своем роде.
С целью дальнейшего усовершенствования можно каждую горошину покрыть материалом, который придаст ей свойства киноэкрана.
13-е
Сегодня я написал Пла следующее письмо:
Дорогой друг!
Уезжая, Л. сказал, что вашу книгу обо мне в Аргентине ждет бешеный успех и что она будет переведена на многие языки. Поскольку я знаю, что в настоящее время вы пишете несколько книг, то, думаю, это самое подходящее время начать еще одну. Главное тут – отыскать способ, как написать ее не работая, иными словами, как сделать так, чтобы книга писалась сама собой. Я разрешил эту проблему благодаря названию – «Атом Дали». Пролог уже готов, это мое письмо, удостоверяющее наше обоюдное согласие с тем, что единственным атомом, который пребывает в процессе созидания – по крайней мере в регионе Ампурдана[79], – является атом Дали, что в полной мере доказывает целесообразность книги. Таким образом, пока другие блуждают в лесу частностей и подробностей, вы сконцентрируетесь на одном-единственном далианском атоме, и этого будет вполне достаточно для его полного изучения. При каждой нашей встрече я буду сообщать вам новости о моем атоме, передавать документы и фотографии, имеющие к нему отношение. Вам останется только связать все это воедино, что при вашем утонченном писательском даре будет совсем не затруднительно. Мой атом настолько активен, что работает без остановки. Это он, еще раз повторяю, создаст книгу, а вовсе не мы. Для атома – тем паче для далианского атома – написание книги окажется просто некой естественной потребностью. Скажу даже, что для него писание книг и будет отдыхом. Книги, посвященной чему-то, что я пока еще не могу точно определить, поскольку не знаю, о чем идет речь. Кстати сказать, я исступленный и яростный враг всякой заранее навязанной определенности; ничто в мире не кажется мне столь естественным, приятным, успокоительным и даже сладостным, как трансцендентальная ирония, допускаемая принципом неопределенности Гейзенберга[80].
Приезжайте к нам на завтрак. Вам подадут то, что вы любите, или то, что соответствует вашей диете.
Ваш

14-е
Мне снятся два всадника. Один наг, и второй тоже. Каждый из них готов ехать по одной из двух абсолютно симметричных улиц. Их кони одновременно с одной и той же ноги вступают каждый на свою улицу, но одна залита резким реальным светом, на другой же воздух прозрачен, как на рафаэлевской картине, изображающей бракосочетание Пресвятой Девы, а даль еще хрустальней. Внезапно одну из улиц заполняет какая-то неясная мгла, которая постепенно густеет и в конце концов превращается в непроницаемую свинцовую бездну. Оба эти всадники – и тот и другой – Дали. Один из них – Дали Галы, а второй – то, чем он стал бы, если бы не узнал Галу.
15-е
Не старайся быть современным. Это единственное, чего тебе, к сожалению, не удастся избежать, что бы ты ни делал.
Сальвадор Дали
Я опять и опять благодарю Зигмунда Фрейда и громогласно возглашаю его великие истины. Я, Дали, углубившийся в самоанализ и скрупулезное исследование каждой, даже самой незначительной, своей мысли, внезапно только что открыл, что всю свою жизнь писал, не отдавая себя в этом отчета, только рога носорогов. В десятилетнем возрасте, дитя-кузнечик, я уже молился, встав на четвереньки, перед столиком из рога носорога. Да, для меня это уже был носорог! Я пересмотрел все свои картины и потрясен огромным количеством носорогов в моих произведениях. Даже мой знаменитый хлеб[81] и тот является рогом носорога, бережно уложенным в корзинку. Сейчас-то я понимаю причину своего восторга в тот день, когда Артуро Лопес подарил мне трость из носорожьего рога, которая обрела такую славу. Сразу же, как только она стала моей собственностью, у меня возникла некая совершенно иррациональная иллюзия. Моя к ней привязанность смахивала на прямо-таки неслыханный фетишизм, доходящий порой до одержимости; так, в Нью-Йорке я ударил парикмахера, который чуть не сломал ее, когда по невниманию слишком стремительно уселся в кресло-качалку, куда я с бесконечными предосторожностями положил ее. Я до того разгневался, что в наказание свирепо ударил его тростью по плечу, но, разумеется, тотчас вознаградил весьма приличными чаевыми, чтобы он не злобился.
Носорог, носорог, кто ты?
16-е
Мундир просто необходим для победы. В моей жизни крайне редки случаи, когда я опускаюсь до цивильной одежды. Я всегда облачен в мундир Дали. Сегодня я принял одного, можно сказать, до срока постаревшего молодого человека, который умолял дать ему несколько советов перед его отъездом в Америку. Проблема показалась мне интересной. И вот я облачаюсь в мундир Дали и спускаюсь, чтобы удостоить его приемом. Дело заключается в следующем: он хочет уехать в Америку и преуспеть там, не важно в чем, главное – преуспеть. Он и представления не имеет, до чего убога жизнь в Америке. Я спрашиваю его:
– Какие у вас привычки? Вы любите хорошо поесть?
Он с каким-то остервенением отвечает:
– Да я могу есть что угодно! Годами могу питаться хлебом и фасолью!
– Это плохо, – с озабоченным видом задумчиво говорю я ему.
Он удивлен. Я объясняю:
– Это же очень дорого – питаться каждый день хлебом и фасолью. На хлеб и фасоль надо зарабатывать, а для этого придется без роздыху трудиться. Вот если бы вы привыкли жить на икре и шампанском, вам бы это ничего не стоило.
Он глупо улыбается, решив, что я шучу.
– Да я в жизни никогда не шутил! – величественно возглашаю я.
С этого момента он слушает меня совершенно раздавленный.
– Икрой и шампанским вас угощают совершенно бесплатно чрезвычайно изысканные и благоухающие великолепными духами дамы в гостиных с прекраснейшей обстановкой. Но для этого надо быть полной противоположностью вам, осмелившемуся явиться с трауром под ногтями к Дали, который принял вас в мундире. Так что ступайте зарабатывать себе на фасоль. Это как раз по вам. К тому же, с вашим сморщенным личиком, выглядите вы точь-в-точь как преждевременно усохшая фасолина. А что до шпинатного цвета вашей рубашки, то она является явным и несомненным признаком тех, кто состарился до времени, и прирожденных неудачников.
17-е
Не бойтесь совершенства. Вы его никогда не достигнете!
Сальвадор Дали
Во мне живет непреходящее ощущение, что все имеющее отношение ко мне и к моей жизни неизменно мечено исключительностью, цельностью и яркой колоритностью. За завтраком я наблюдал восход солнца и вдруг осознал, что Порт-Льигат географически самая восточная оконечность Испании, я же из всех испанцев первым обретаю солнце. Действительно, даже в Кадакес, который в десяти минутах отсюда, солнце приходит позже.
И еще я размышляю о колоритных прозвищах рыбаков из Порт-Льигата: Маркиз, Министр, Африканец, есть тут даже три Иисуса Христа. Убежден, не много сыщется в мире мест, притом таких немноголюдных, где можно встретить целых трех Иисусов Христов!
18-е
Quien madruga, Dios ayuda[82].
Испанская пословица
Хотя мое «Вознесение» продвигается весьма существенно и блистательно, я ужаснулся, осознав, что уже наступило 18 июля. Время несется, пролетая мимо меня все стремительней и стремительней, и, несмотря на то что я проживаю каждые десять минут, поочередно смакуя их, и превращаю каждые четверть часа в выигранное сражение, в духовное деяние и подвиг, причем все равно незабываемые, недели протекают сквозь меня, и я вынужден яростно, с еще большей витальной полнотой цепляться за каждый бесценнейший и обожаемый фрагментик времени своей жизни.
Неожиданно появляется Розита, приносит завтрак и сообщает новость, наполняющую меня ликованием и восторгом. Оказывается, завтра девятнадцатое июля, а именно в этот день в прошлом году сеньор и сеньора приехали из Парижа. Я издаю истерический вопль:
– Значит, я еще не приехал! Я еще не приехал! Выходит, только завтра я прибуду в Порт-Льигат. В прошлом году в это время я еще даже не приступил к работе над своим Христом! А сегодня, еще до прибытия, мое «Вознесение» почти завершено, оно уже устремилось в небо!
Я тут же несусь в мастерскую и работаю до изнеможения, обманно пользуясь тем, что меня пока еще тут нет, чтобы сделать как можно больше к моменту своего приезда. Весь Порт-Льигат узнает новость, что меня еще здесь нет, и, когда вечером я спускаюсь на ужин, малыш Хуан радостно кричит:
– Завтра вечером приезжает сеньор Дали! Сеньор Дали приезжает завтра вечером!
А Гала смотрит на меня с тем выражением покровительственной любви, какое доселе способен был написать только Леонардо, и, кстати, завтра исполняется пятьсот лет со дня его рождения.
И все же, несмотря на всю лихорадочную горячечность моих ухищрений воспользоваться последними мгновениями своего отсутствия, я уже здесь, я окончательно и бесповоротно прибыл в Порт-Льигат. И какое же это счастье!
20-е
Розита опять становится причиной новых радостей, связанных со временем, напомнив мне, что в прошлом году я начал писать Христа только через четыре дня после приезда сюда. Я испустил новый вопль, еще более истерический, чем вчера, от которого рыбаки, отплывшие на лодке довольно далеко в море, подняли головы, и взгляды их устремились к нашему дому. Я-то думал, что полностью попал в когти времени, а оказывается, могу еще на целых четыре дня вырваться из них, так что если ежедневно буду узнавать новость такого рода, то сумею, вне всяких сомнений, проплыть против течения реки времен. Но как будет, так будет, а я чувствую себя дьявольски помолодевшим и способным завершить свой труд – «Вознесение».
21-е
Как смею я сомневаться в том, что все происходящее со мной исключительно в самом высочайшем смысле этого слова? В пять дня я был погружен в анализ восьмиугольных фигур, начертанных Леонардо да Винчи. По моему мнению, именно они должны царственно определять догмат Вознесения. Вдруг я поднимаю голову и вижу одну из самых характерных фигур своего произведения – гигантскую восьмерку, устремленную ввысь в торжественном возносящем порыве. Я буквально только что постиг это. И в этот самый момент Розита приносит почту. А там среди прочих конвертов письмо от мэра города Эльче, приславшего мне программу литургической и даже акробатической мистерии, которая впервые после элевсинских мистерий[83] состоится 14 августа. На одной из фотографий видно, как из-под купола спускается раскрывшийся золотой плод граната. В нем находятся ангелы, которые вознесут Пресвятую Деву. Я тут же принимаюсь считать: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и… ВОСЕМЬ! Плод граната восьмигранный! И отверстие в центре купола примерно соответствует тому, что у меня на картине. Когда приедет Артуро, я предложу ему собрать как можно больше друзей, способных прийти в экстаз. И мы все вместе поплывем на яхте в Эльче.


