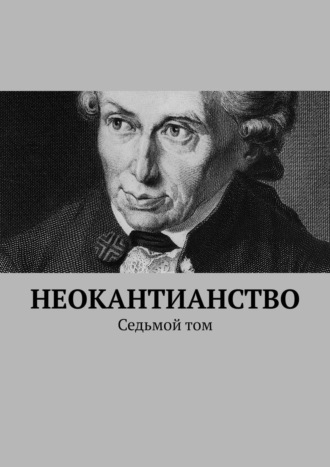
Валерий Алексеевич Антонов
Неокантианство. Седьмой том
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0060-7307-4 (т. 7)
ISBN 978-5-0059-8583-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сборник Эссе, статьей, текстов книг немецких мыслителей с воторой половины XVIII до первой половины XX вв
Сборник статей немецких мыслителей объединен тематическим принципом: в совокупности дают представление о разнообразии идей, тем и методов философского поиска начиная со второй полвины XVIII до начала XX вв. возникших под влиянием учения и идей И. Канта. В этом сборнике впервые переведены на русский язык тексты, опубликованные в немецких журналах и отдельными книгами.
В настоящем седьмом томе представлены работы: К. Форлендера, Ю. Бергмана, Э. Гуссерля, Ю. Шульца, Т. Липпса, В. Шуппе, Ю. Дюбок, Р. Хёнигсванда.
Используются следующие сокращения из сочинений Канта:
«Критика чистого разума» (сокращенно: Кр. д. р. В.), «Критика практического разума» (сокращенно: Кр. д. пр. В.) и «Религия в пределах чистого разума» (сокращенно: Рел.) по изданиям Кехрбаха, «Основоположение к метафизике чувств» (сокращенно: Грундл.) и «Пролегомены к одной из двух основных метафизик и т. д.» (сокращенно: Пролег.) по изданиям фон Кирхмана. (сокращенно: Proleg.) по изданиям фон Кирхмана, остальные сочинения – по «Кантаусгабе» Розенкранца (сокращенно: R.).
Карл Форлендер
Отношение Канта к Французской революции
Если, по словам Германна Когена, «великий вопрос, последний и глубочайший смысл философии истории» заключается в том «как следует рассматривать и оценивать революции в контексте всемирно-исторической жизни», 1то, вероятно, в его духе мы сделаем предметом специального рассмотрения отношение Канта к великим революциям его времени, на которые наш уважаемый юбиляр обратил особое внимание.
Согласно доступным нам источникам, мы можем, не будучи обвиненными в излишней смелости, рискнуть утверждать, что более сильный политический интерес к кёнигсбергскому философу пробудился только в революции, пусть и не французской. На протяжении первых пяти десятилетий его жизни не сохранилось ни одного письма, и лишь отдельные проявления живого политического интереса встречаются в его сочинениях. Например, в одном из своих ранних трактатов («Ob die Erde veralte?», 1754) он сравнивает «энтузиазм к чести, добродетели и любви к свободе, который вдохновлял древние народы высокими понятиями и возвышал их над собой» с «умеренной и холодноватой природой нашего времени», которая, однако, более выгодна для нравоучений и наук. 2Или когда он использует заключение своего главного эссе о землетрясении в Лиссабоне (1755), чтобы похвалить принца, который позволяет себе быть тронутым такими «несчастьями рода человеческого, чтобы отвратить беду войны от тех, кому уже со всех сторон угрожают тяжкие несчастья». 3Тот факт, что он первым из преподавателей немецких университетов включил в свои постоянные лекции физическую географию и, вслед за ней, политическую географию, безусловно, свидетельствует об определенном интересе к вопросам государственной жизни, который не мог быть более распространенным в то время, когда простой гражданин, как и университетский ученый в особенности, не имел возможности активно вмешиваться в государственные дела своего отечества. Он уже выдает более глубокое политическое понимание, когда объявляет в «Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen im Winterhalbjahr 1765/66», что будет рассматривать «состояние государств и народов земли», «не только как оно основано на случайных причинах предприятия и судьбы отдельных людей, таких как смена правительств, завоевания и государственные ограничения, но и в связи с тем, что более постоянно и более отдаленно», 4Возможно, что лекции дали в этом отношении больше, чем сочинения, возможно, Шуберт прав, когда сообщает, что 5уже в своих первых лекциях Кант часто отсылал слушателей к «Esprit des lois» Монтескье и сам усердно изучал этого французского мыслителя. Однако интенсивный политический интерес (в узком смысле этого слова) вряд ли мог возникнуть и в них. Иначе, не говоря уже о благовоспитанном Людвиге Эрнсте Боровском, такой светлый ум, как Гердер, несомненно, сказал бы об этом в своем часто цитируемом описании лектора Канта от 1762/63 года, в котором лишь вскользь упоминается «история человека и народов» и, кроме физиков и метафизиков, упоминается, конечно, и Руссо, но только его Эмиль и его Элоиза, а не – Contrat social.
Значительно более сильное участие в политической жизни мы видим только тогда, когда впервые при его жизни, а в определенном смысле (если не принимать во внимание Английскую революцию XVII века) и вообще впервые в мире, началась борьба за основные политические права или, как тогда говорили, «права человека» целого народа. Это была борьба за свободу североамериканцев против английского гнета (1776—83), которая, по известному рассказу его ученика и биографа Яхманна, вызвала самое живое участие, даже энтузиазм нашего Канта. Был ли англичанин, с которым он вступил в конфликт благодаря своей горячей защите «справедливого дела» американцев, и которого он затем убедил своим «восхитительным красноречием» и даже завоевал в качестве постоянного друга, был Грин или, согласно более поздним предположениям, Мотерби:6 сам факт в любом случае остался неоспоримым. Возможно, именно с этого периода берет начало неприязнь философа к Англии, которая была вдвойне заметна ввиду относительно свободной английской конституции, а затем усилилась в девяностые годы в связи с враждебным отношением англичан к революционной Франции. В конце этого периода (1784) появились его первые работы, которые можно назвать политическими в ограниченном смысле: «Was ist Aufklärung?» (Что такое Просвещение?) и «Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht» (Идея всеобщей истории с космополитическим намерением).
Но современным событием, которое наиболее глубоко захватило его, без сомнения, была Великая французская революция. Это было для него началом того времени, когда в критические политические моменты «он мог пройти много миль, чтобы встретить почтовое отделение, и ничто не могло порадовать его больше, чем раннее, достоверное частное сообщение», когда «его разговоры в основном касались политики» и он часто предсказывал ход событий с большой проницательностью («Яхманн», стр. 129), когда его охватил настоящий «хищный голод» по газетам, а их содержание было «его самой приятной застольной беседой» («Боровский», стр. 165). Его мнение о революции было настолько хорошо известно в Кенигсберге и за его пределами, что его бывший компаньон и впоследствии собутыльник Р. Б. Яхманн сказал, что Кант «произвел такой переполох в мире после Французской революции и нажил столько друзей и врагов, чем своими политическими принципами и мнениями» (цит. по: стр. 125). И чтобы не пропустить свидетельство со стороны, скорее враждебной, чем благосклонной к нашему философу, мы также послушаем его коллегу-медика Метцгера в его «Äußerungen überKant, seinenCharakterundseineMeinungen», опубликованном анонимно вскоре после смерти Канта. Легкомысленным поклонником его достоинств». К числу «особенностей» философии, которые можно «свалить на других как пороки», Мецгер относит «откровенность и бесстрашие, с которыми Кант в течение многих лет – до конца ли, я не знаю – отстаивал свои принципы, благоприятные для Французской революции, против всех, даже против людей, занимающих высшие государственные посты. Это было время в Кёнигсберге, когда любой, кто не оценивал Французскую революцию положительно, но только мягко, попадал в черный список под именем якобинца. Кант не позволил себе испугаться этого, выступая за самыми выдающимися столами революции, и надо было настолько уважать столь высокочтимого в других отношениях человека, чтобы приписать ему эти чувства» (loc. cit. page 15f). Именно эта похвала из уст, по меньшей мере, неблагосклонного к нему человека, на наш взгляд, делает честь откровенному философу больше, чем благонамеренные попытки защиты со стороны его биографов, от Боровского и Яхманна до Шуберта, который в специальном эссе 7счел себя обязанным защищать его от «крайнего обвинения в намеренном ниспровержении существующего церковного и политического порядка» и выразил сожаление по поводу того, что «благороднейший и вернейший друг существующих монархических конституций» был обвинен в том, что он «враг счастья народа (!) из-за его революционных принципов». По-настоящему достоверное суждение об истинной позиции Канта можно получить, конечно, только из его собственных письменных и отчасти эпистолярных высказываний,8 и для того, чтобы получить яркую картину, мы в целом остановимся на их хронологии.
Насколько благосклонно относилась Революция к нашему философу с самого начала, видно из письма от 30 августа 1789 года Фридриху Генриху Якоби, который прислал ему сочинение графа Виндишгреца «О свободной отмене конституции в монархии» (VonderfreiwilligenAbänderungderKonstitutioninMonarchien). В этом сочинении, свидетельствующем о «благороднейшем образе мыслей мирского мудреца», Кант нашел свой собственный этический принцип, представленный с той «ясностью и приятностью», которая «отличает человека мира».9 Особенно в условиях «нынешнего кризиса Европы» (обратите внимание на обобщение!) то же самое «отчасти как чудесное предсказание, отчасти как мудрый совет для деспотов» должно быть очень действенным. Ведь до сих пор «ни один государственный деятель не искал и даже не понимал, как искать принципы искусства управления людьми столь высокого уровня». – О содержании другого письма первого года революции, которое, к сожалению, не сохранилось, можно догадаться по ответу адресата (Э. Ф. Клейна, судьи Берлинского апелляционного суда) от 22 декабря 1789 года: он рад, что его «ревность против того, чтобы князья назывались отцами отечества», нашла поддержку в теории Канта. И далее: он согласен с философом в том, что «счастье, которому должно способствовать насильственное ограничение свободы», не должно быть целью законодателя.
Кант был настолько озабочен идеей революции, что сразу же вставил относящийся к ней отрывок в свою следующую работу, на первый взгляд совершенно несопоставимую «Критику способности суждения», опубликованную в Пасху 1790 года. В соответствующем разделе 10он говорит о концепции организма как непосредственной естественной цели и проводит аналогию с ней с тогда еще совсем новой концепцией политической организации. «Так, при недавно предпринятом полном преобразовании большого народа в государство слово организация часто очень уместно употреблялось для обозначения магистратур и т.д., и даже всего тела государства. Ибо каждый член такого целого должен быть, конечно, не только средством, но в то же время и целью, и, содействуя возможности целого, должен в свою очередь определяться идеей целого в соответствии со своим местом и функцией». Здесь сразу видна истинная причина глубокой симпатии Канта к революции: она была глубже, чем у Клопштока, Шиллера и других, которые вскоре снова отвернулись, потому что она носила философский характер. Происходящая во Франции» совершенно полная перемена» вызывала у него такой большой интерес, потому что она представляла для него тип того, без чего нация не является государством: организм, и именно тот организм, в котором каждый член является не только средством, но в то же время и целью, и в то же время постоянно определяется в своей индивидуальной функции идеей целого, в котором таким образом выполняется и высшее этическое требование. В этом весьма значительном отрывке, который долгое время оставался недостаточно известным, перед нами одно из важнейших дальнейших развитий прикладной этики Канта. Если до этого момента мы могли говорить о форме категорического императива, который, несмотря на все его социальные тенденции, был в конечном счете индивидуальным, поскольку был обращен только к индивиду, то здесь мы видим его расширение до социальной этики, поскольку он обращен к целому, или, другими словами, до политики в самом высоком смысле этого слова. То, что такой организм, как сказано во введении к нашему отрывку, который еще не цитировался, «встречается больше в идее, чем в действительности», не умаляет такой оценки. Ведь именно на идее держится вся этика философа, который не объявил ничего более «плебейского», чем обращение к якобы противоречивому опыту.
О постоянном интересе Канта к деталям «странных событий» в соседней великой стране можно судить, в частности, по подробному отчету, который и сегодня представляет большой интерес для историка и который его бывший ученик, старший Яхманн, прислал ему 14 октября 1790 года после длительного пребывания в Париже. Политическая окраска свидетельствует о том, что он ожидает аналогичного суждения от своего почитаемого учителя. Праздник братания на Марсовом поле оказал на него благотворное влияние. С другой стороны, многие умеренные находили новые резолюции Национального собрания, принятые после этого, слишком далекими, во многом под влиянием «толпы» и «нескольких беспокойных голов»; «толпа» же, «вместо того чтобы охранять благородную драгоценность законной свободы, которой она теперь обладает, стремится к беззаконной разнузданности и не хочет больше подчиняться законам, а судить и вершить правосудие над всем по собственной воле» и т. д. По возвращении он находит последние труды Канта в книжном магазине в Страсбурге. В Майнце известный друг революционера Георг Форстер дает ему сердечные рекомендации мастеру и выражает сожаление, что тот не отнесся к нему с почтением в полемике, состоявшейся несколькими годами ранее.
Предположение, высказанное в том же письме как мнение даже «самых благосклонных оценщиков» о том, что Франции «еще придется претерпеть много изменений, прежде чем ее конституция прочно утвердится», сбылось. Самыми важными из них стали установление республики (сентябрь 1792 года) и казнь короля (январь 1793 года). Однако даже последнее событие, отпугнувшее стольких первоначальных сторонников, не смогло заставить престарелого философа поколебаться в своей глубокой симпатии к революции. 11И снова, в том месте, где этого не ожидаешь, в своей «Религии в пределах разумного», опубликованной весной 1793 года, он использует случай, когда он затрагивает тему свободы мысли в религиозных вопросах, для откровенной апологии фундаментальных моральных принципов революции. Он выступает против возражения, «также используемого» «мудрыми» людьми: «определенный народ, который находится в процессе выработки юридической свободы», «не созрел для свободы». Но созреть для свободы может только тот, кто был заранее освобожден: «надо быть свободным, чтобы уметь целесообразно использовать свои силы в условиях свободы». Однако первые попытки все равно будут грубыми, «как правило, связанными с более тяжелым и опасным состоянием, чем когда человек еще находился не только в подчинении, но и под опекой других». Но человек никогда не созревает для разума иначе, чем через собственные эксперименты, предпринятые в условиях свободы». Осторожно он добавляет, возможно, думая об отсталости условий на родине: ради него можно, «вынужденный обстоятельствами времени», в отдельных случаях еще откладывать акт освобождения. Но отрицать его в принципе означало бы «вмешательство в регалии самого Божества», «создавшего человека для свободы». Мы не знаем, в какое время философ впервые записал свою нерушимую приверженность свободе в религиозных, политических и социальных вопросах. Во всяком случае, во втором издании работы, которое было завершено в конце января 1794 года, то есть в период жесточайшего терроризма, это важное примечание на странице 220 не было удалено.
Поэтому именно в его духе, должно быть, писал ему из Берлина 15 июня 1793 года верный Кизеветтер: «рациональность» Французской революции была также «единственным упреком всех развлечений» и «единственной причиной всех споров», которые, к сожалению, в основном сводились к тому, что «либо путали саму материю с ее нынешними представителями, либо хотели доказать или опровергнуть правильность идей с помощью опыта». Признаться, верный ученик, поддерживавший связь с берлинскими придворными кругами, считал, что, хотя «Система морали» Канта, которую все с нетерпением ждали, будет посвящена подобным проблемам, вновь вызванным Французской революцией, писать о ней «в данный момент» нецелесообразно. Он был совершенно прав, поскольку уже был издан королевский указ против друзей Просвещения в Пруссии, которых подозревали в «якобинстве» и «подрывной деятельности».12 Тем не менее, Кант не позволил заткнуть себе рот. Хотя его «Система морали», то есть «Метафизика нравов», появилась лишь четыре года спустя, осенью того же года он все же осветил именно те принципиальные проблемы, которые стимулировала революция, и сделал это впервые в более широком контексте, в трактате, направленном в свободолюбивую «BerlinischeMonatsschrift»: «ÜberdenGemeinspruch: dasmaginderTheorierichtigsein, taugtaberfürdiePraxisnicht» («Об общем предложении: это может быть правильно в теории, но не подходит для практики»), который был напечатан в сентябрьском номере 1793 года. Первый из трех разделов, на которые она разбита, посвящен эвдемонистическим возражениям Гарве против критической этики и не представляет для нас интереса. Тем более второй, который стремится осветить отношения между теорией и практикой в конституционном праве. Основная либертарианская тенденция уже во вторичном названии выступает против Гоббса (абсолютиста). Хотя философ лишь в нескольких местах прямо упоминает Французскую революцию, связь с ней проходит через весь раздел. Два известных лозунга революции сразу же появляются в качестве ведущих априорных принципов, «согласно которым только и возможно учреждение государства, в соответствии с чисто рациональными принципами внешних прав человека вообще»: свобода и равенство каждого гражданина, а в качестве третьего (вместо «братства») 13независимость оного. Патриархальное правительство описывается как величайший мыслимый деспотизм и ему противопоставляется либеральный, подлинно «патриотический» образ мышления, в то время, как хорошо известно – в отличие от сегодняшнего дня – самостоятельно выбранное обозначение революционеров во Франции («патриоты»). Как новая французская конституция, даже самая радикальная (от 1793 года), защищала собственность как «неприкосновенное и священное право», так и, согласно Канту, полное равенство прав, за которое он выступает, может быть связано с величайшим имущественным неравенством. С другой стороны, каждый гражданин должен иметь возможность достичь любого положения, «к которому его может привести его талант, его усердие и его удача»: немецкий философ отвергает наследственные привилегии так же решительно, как это сделал Учредительное собрание в знаменитую августовскую ночь 1789 года. И как у Беомарше его Фигаро бросает со сцены на дворян известные слова: «Они взяли на себя труд родиться, не более того!», так и Кант заявляет, что «рождение не является актом того, кто родился», что, следовательно, не может быть наследственных прав. Тем не менее, так же непоследовательно, как и Революция, она принимает различие между активными и пассивными гражданами; она также проводит различие между независимым полноправным гражданином (citoyen) и зависимым «защитником». И как на выборах в Конвент 1792 года была отменена ранее установленная налоговая перепись – до этого, как саркастически заметил Камиль Дезмулен, даже Иисус не дожил бы до активного гражданина, – но «домашние» все еще были лишены права голоса, так и у Канта все слуги (поденщики, цеховые слуги, лакеи, даже парикмахеры) «не являются членами государства, следовательно, не могут быть гражданами». Признаться, в конце концов, он все же испытывает сомнения по поводу этой непоследовательности. Полуиронично, он говорит, что, по его признанию, «несколько трудно» определить понятие «тот, кто сам себе хозяин». 14Более того, для него большинство голосов – и то по головам, а не по разнице в собственности – является критерием права.
Затем следует обсуждение библии революционной демократии, книги, которая всегда лежала открытой в бюро партии Берга: «Contratsocial» Руссо. Правда, наш философ не хочет признать такой «оригинальный контакт» историческим фактом – «как пожелает Дантон», прямо говорится в другом месте (стр. 131), не замечая ничего отвратительного в отношении этого «слуги палача»! -но, в соответствии с принципами критической философии, как регулятивная «идея разума», которая «имеет свою несомненную (практическую) реальность». Она является «критерием правомерности каждого публичного закона» (стр. 125), априорным «непогрешимым стандартом» для него (стр. 127), «рациональным принципом суждения всех публично-правовых конституций вообще» (стр. 131). Ибо все законы должны «мыслиться как проистекающие из общественной воли» (стр. 132, примечание), и «то, что народ не может решить о себе, законодатель не может решить о народе» (стр. 134). В конце концов, «общественный договор» Руссо не хотел ничего другого. В решающий момент своего сочинения (часть 1, гл. 6) Руссо тоже облекает свои умозаключения в jesuppose [я предполагаю – wp] и представляет их как проблему: «найти такую форму общества… при которой каждый, объединяясь со всеми, тем не менее подчиняется только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». Он не виноват в том, что Робеспьер и другие восприняли это слишком буквально и хотели без лишних слов перенести это на практику как факт.15
Если до этого момента Кант, кажется, полностью соглашался с (руссоистскими) принципами Французской революции, то с предложением: «что всякое восстание против верховной законодательной власти, всякое подстрекательство к тому, чтобы недовольство подданных стало физическим, всякое восстание, перерастающее в мятеж, есть высшее и наиболее наказуемое преступление в общем бытии, поскольку оно разрушает его основы» (стр. 127). Он даже заходит так далеко, что не одобряет насильственное восстание Швейцарии, Голландии и Великобритании против их тиранических правителей, и полемизирует против учителя естественного права Ашенвалла, которого он сам признавал там «очень осторожным, решительным и скромным», потому что тот хотел поставить право на вооруженное восстание в зависимость от степени несправедливости главы государства (стр. 129f). Также «состояние анархии со всеми ее ужасами», о котором он говорит в этом контексте (стр. 130f, примечание), вызванное насильственным восстанием народа («Rottierung») до того, как он создал для себя новую государственную власть, должно, вероятно, перейти к одновременным французским условиям. Во всяком случае, так это понял лучший друг Канта – редактор «Berlinische Monatsschrift» Бистер, которому «мастерские» замечания второго раздела понравились тем более, что те же – «мне кажется, опровергают слух (маловероятный для меня с самого начала), будто вы очень благосклонно отзываетесь о Французской революции, которая становится мне все более и более противной, в которой действительная свобода разума и морали и вся мудрая государственная власть и законодательство позорно попираются ногами, – и которая сама, как я узнал из Вашего нынешнего трактата, грубо нарушает и отменяет общее конституционное право и понятие буржуазной конституции» (Бистер – Канту, 5 октября 1793 г.). Октябрь 1793 г.)
Остается сомнительным, был ли Кант также полностью отвращен от Французской революции в период терроризма, видел ли он, как и Бистер, теперь в ней только «операции кровавых рук, а не зондирующего разума». Конечно, в 1798 году он описывает время «Комитета благоденствия Французской республики» как время «публичной и юридически объявленной несправедливости революционного государства», и понимает, что в нем «люди чести (например, Роланд) стремились избежать казни по закону путем самоубийства» («Антропология», §77, с. 174).16 Однако он сам упоминает имя Дантона, как мы видели, с полным спокойствием теоретика, и позже мы еще встретим сочувственные высказывания о революции: ведь «слух», упомянутый Бистером, также указывает на такую позицию. Как философ, он рассматривал современные события с более высокой точки зрения, чем та, которая была в данный момент. Его осуждение любого физического, даже «буквального» (стр. 134) сопротивления верховной законодательной власти, однако, проистекает из чрезмерного расширения формального понятия закона, о котором ход истории не заботится и не должен заботиться. 17В этом вопросе, как мы увидим, философ исправил или, по крайней мере, доработал свою точку зрения в другом месте. В основном, такая самокоррекция заключается уже в том, что он, как и Руссо, считает действительным «государем» только «невидимый» «персонифицированный закон», которому случайный исторический глава государственной администрации, которая может также принимать форму аристократии или демократии, представляется лишь его «агентом» (стр. 121, примечание). Однако, как бы то ни было, несмотря на свое неприятие любого насилия, он остается ярым сторонником конституционных принципов Революции. Это яснее всех почувствовал Бистер, бывший ученик Канта и восторженный сторонник, а ныне перешедший на противоположную сторону критики, Фридрих Генц (известный впоследствии публицист), когда в декабрьском номере «Monatsschrift» заявил, что эссе Канта содержит «полную теорию прав человека, столь часто восхваляемую и столь мало понятую, которая была изложена величественными законодателями Франции в громких и незначительных декларациях, но здесь «выходит из тихого и скромного резонёрства немецкого философа, без всякого шума, в помпезной, но тщательно выполненной форме».18
В целом, эссе Канта произвело фурор и в течение нескольких месяцев занимало «головы и печатные станки» (Бистер – Канту, 4 марта 1794 г.). Рехберг (Геттинген) опубликовал в февральском номере 1794 года контр-трактат, на который Кант, несмотря на желание Бистера, не ответил, поскольку «эмпиризм» автора юридических понятий был слишком противоположен его (Канта) «рационализму» тех же понятий, а точка зрения Рехберга на власть слишком противоположна его принципу права, чтобы он мог надеяться его наставить (Кант – Бистеру, 10 апреля 1794 года). Тем более он мог воздержаться от ответа, поскольку все равно намеревался вернуться к этому вопросу в контексте в своей «Метафизике нравов». Несколько отклоняясь от хронологического порядка, мы завершим рассмотрение «Rechtslehre», опубликованной в конце 1796 или начале 1797 года, именно здесь, поскольку ее раздел (II, 1) «DasStaatsrecht», который мы рассматриваем, по сути, является лишь систематическим дополнением и расширением трактата 1793 года. Здесь, как и там, те же принципы, что и у Руссо: высший критерий законодательства – единая воля народа, «неотъемлемые» атрибуты каждого гражданина свобода, равенство и независимость, «первоначальный договор» как идея, сохранение безусловной правовой позиции в противовес рассмотрению счастья индивида, формальное правовое основание в противовес всякому насильственному действию с другой стороны. «Изменение (дефектной) конституции государства, которое может быть необходимо время от времени, может быть осуществлено, следовательно, только самим государем» – который, однако, согласно Канту, как и согласно Руссо, не обязательно должен быть монархом – посредством реформы, но не народом, следовательно, революцией, и если это произойдет, то это может затронуть только исполнительную власть, а не законодательную (стр. 146). Однако есть и новые интересные индивидуальные приложения к событиям того времени. Хотя Людвиг XVI назвал «большой ошибкой» то, что он передал законодательную власть, прежде всего в отношении права налогообложения, народу, Национальное собрание не было обязано или даже вправе, как представитель общей воли, вернуть переданную ему власть в руки монарха (стр. 171).19 Аналогично, в другом месте делается важное предположение: «Кстати, после того, как революция удалась и была установлена новая конституция, незаконность ее начала и исполнения не может освободить подданных от обязанности подчиниться новому порядку вещей как добропорядочные граждане…". (стр. 147). При таком расширении формально-юридического основания до «нового порядка вещей», однако, моральное оправдание революции, несмотря на ее «незаконность», в принципе признается (см. также Cohenop. cit. стр. 439, и ниже).
На эту принципиальную позицию не влияет тот факт, что наш философ в очень подробном примечании (стр. 145 – 147) объявляет «формальную казнь» такого монарха, как Карла I или Людвига XVI. более ужасной, поскольку она «с содроганием охватывает душу, наполненную идеями прав человека», чем его свержение, для которого может существовать «чрезвычайное право», или даже убийство, которое может быть актом самосохранения; ибо оно предполагает «полный переворот принципов отношений между государем и народом». Кант здесь путает, как уже отмечал Коген (указ. соч. С. 437), случайную физическую личность главы государства с его «моральной личностью», которая в других местах встречается в суверенитете общей воли, таким образом, идею с видимостью. Дух «первоначального договора», однако, содержит «обязательство сделать форму правления соответствующей этой (т.е. своей) идее», т.е. изменить ее, «если это нельзя сделать сразу, постепенно и непрерывно» таким образом, чтобы она гармонировала с единственной законной конституцией, а именно конституцией чистой республики, по своему действию», пока, наконец, даже устаревшие эмпирические формы не растворятся в либеральных рациональных (стр. 169f).
В «резолюции» учения о праве развивается мысль о том, что «вся конечная цель» учения о праве в пределах простого разума – параллель, следовательно, критической доктрине религии – состоит в идеале всеобщего и вечного, короче говоря, вечного мира. Ибо идея «правового союза людей под властью законов вообще» может одна – если она не будет предпринята и осуществлена революционным путем, скачком, т.е. насильственным ниспровержением существующей до сих пор дефектной конституции (ибо в этом случае между ними наступит момент разрушения всех правовых условий), а путем постепенной реформы в соответствии с установленными принципами» – «привести в непрерывном приближении к высшему политическому благу, к вечному миру» (стр. 186).







