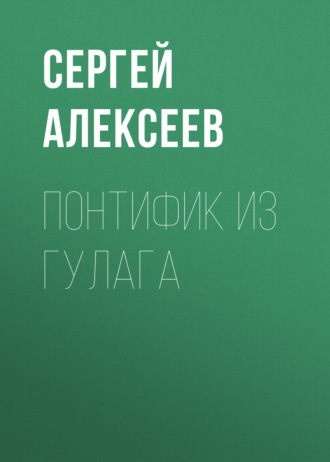
Сергей Алексеев
Понтифик из Гулага
1
Привыкший бороться с насилием, Патриарх не терял охоты к сопротивлению, даже когда притомился от бесконечной дороги и в какой-то момент ощутил полное равнодушие ко всему, что с ним происходит, в том числе и к своим похитителям. Если взяли, чтобы банально расправиться, убить, то это маловероятно. Кончить его могли сорок раз, но всегда берегли, как зеницу ока, кто бы ни подступался. А похитители вовсе не выглядели отморозками и хулиганами, скорее, профессионалами, исполняющими заказ. Ничего не требовали, не спрашивали и вели себя вполне миролюбиво.
Пока везли с открытыми глазами, и пока была ночь, Патриарх считывал названия тёмных, призрачных деревень на простреленных дробью указателях и старался хотя бы понять, в какую сторону едут, по какому направлению от столицы. Однако ничего знакомого не попадалось, всё больше какая-то нелепица вроде населённого пункта Шары или Шоры, где они крутились часа два, вероятно, заплутав на многочисленных перекрёстках и распутьях. Да и везли хоть и быстро, но всё какими-то вёрткими, кривыми путями или вовсе долго и нудно трясучими просёлками, объезжая посты ГАИ и крупные населённые пункты.
Он ни на минуту не смирился со своим положением, по сути, пленённого, однако внешне и не противился: даже в столь критический час всё ещё ликовала душа – успел, свалил с себя бремя, некогда помимо воли на него возложенное! Успел избавиться от ноши, которая неотвратимой обузой лежала на плечах лет семьдесят и уже приросла к плоти, давно стала частью его существа, однако, как всё нежелательное, вызывающее чувство несвободы и отвращение, отделилась легко и безболезненно. Патриарх физически ощутил, как не по-старчески распрямилась спина, расправились плечи, и сама собой вскинулась голова. Теперь его ничто не связывало с прошлым, с юностью и молодостью – ни грехи, ни заслуги, и он испытывал одно непреходящее, окрыляющее состояние – чувство исполненного долга.
Оно, это чувство, распирало его изнутри, придавало такую невероятную подъёмную силу, что он вспомнил о незаконченной симфонии «Звон храмовых чаш» и ощутил желание её завершить. Он будто скинул с себя вяжущие движения, оковы, и произошло это в тот момент, когда к нему наконец-то явился долгожданный человек, преемник, которому он завещал всё своё прошлое состояние и, избавившись от груза наследства, наконец-то почуял волю. Теперь ничто не могло поколебать его утвердившегося равновесия в пространстве, даже вот это похищение неизвестными людьми. Дело всей жизни было сделано, сыграно до последней ноты, а теперь пусть происходит всё, что угодно, можно и смерть встретить достойно, с открытым лицом и душой. Но прежде побороться за жизнь, схватиться с незримым противником, испытать его силу и одновременно извлечь из этой ситуации что-то полезное.
Полезного же получалось даже очень много! Завтра помощницы хватятся, установят, что его похитили, и поднимут такую волну – всем тошно станет. Телеканалы и газеты взорвутся от негодования, его имя опять поднимут, как знамя борьбы с насилием и бесправием в государстве. А то что-то успокоились, обвыклись, стали забывать, благодаря кому полностью изменился облик власти и отношение к человеку, как к личности.
Если бы не случилось этого похищения, его надо было придумать, инсценировать!
Потом, с рассветом, похитители завязали глаза шарфом и вздумали ещё сверху натянуть плотный шерстяной чулок, однако заспорили между собой, кому это сделать сподручней. Обоих что-то смущало, один и вовсе советовал оставить только шарф, мол, всё равно проверять не станут, как везли, но второй настоял и сам принялся надевать ему на голову этот злосчастный чёрный чулок. Он оказался настолько тесным, что сразу перехватило дыхание, и Патриарх инстинктивно стал отпихивать руки, вертеть головой, однако похититель бесцеремонно натянул его до самого горла.
– Ну, и как тебе дышится, старче? – ещё и спросил заботливо, незлобиво, однако со скрытой издёвкой.
От чулка пахло женским потом, одеколоном и детской тальковой присыпкой – редким сочетанием запахов, которые он помнил всю жизнь, узнавал и сейчас встревожился, ибо вспомнил двоюродную племянницу Гутю. Эта смесь запахов показалась ему мерзкой, признаком чужой грязи и нечистоплотности. Тем паче, всякая участливость похитителей раздражала его, и пренебрежительное молчание тоже стало бы сопротивлением, но в какой-то момент его прорвало. Скорее, от мерзкого запаха и удушья.
– Вы сволочи и подонки! – заругался он. – Кто вам позволил так обращаться с пожилым человеком? Со старцем? Я ровесник двадцатого века!..
И поймал себя на том, что ругается по-польски, на языке, почти забытом. Да ещё как-то нелепо, невыразительно, без крепких слов и оборотов. Похитители не вняли, но перекинулись несколькими фразами:
– Это он на каком говорит?
– Вроде, чешский, что ли…
– Нет, кажется, хохляцкий.
– Давай спросим?.. Эй, ты что там сказал?
Патриарх оттянул липучую ткань от лица, подавил рвотный позыв и ответом их не удостоил.
Всё происходящее сначала воспринималось как розыгрыш или дурной сон, несовместимый с реальностью, хотя чего-то подобного он всю жизнь ждал и допускал, что его могут даже похитить. И всё из-за этого наследства, обузы, от которой он успел избавиться. Как у человека, пережившего на свете несколько эпох, у него было довольно врагов, но все они остались в далёком прошлом. Даже самые злейшие давно сгинули, иные и вовсе выпали из памяти. По прошествии многих лет вспомнишь имена, и вместо чувства неприятия – ностальгия, тоскливое тепло по сердцу. Да это разве же враги?!
Патриарх был в том положении и возрасте, когда отпадают хлопоты о чести и славе, порождающие вражду и сеющие ненависть. Когда всё, что с тобой ни происходит, только на пользу, всё во благо – и добро, и творимое тебе зло. В последние десятилетия он стремительно обрастал друзьями, и окружающие – молодые, старые люди, простые и высокопоставленные – непременно желали только дружбы, отчего в глаза и за глаза называли Патриархом, иногда добавляя слова «светский» или «культурный». Это звучало не как прозвище – как почётное звание для уважаемого старейшины, в силу собственного несгибаемого характера не заслужившего иных, официальных, чинов и регалий.
Правда, ему впопыхах пожаловали несколько лауреатских званий и даже Госпремию дали за вклад в культуру, но это уже не соответствовало его возрасту, положению, заслугам и никак не прирастало к жизни. Он сам отлично понимал формальную ценность государевых наград, не обольщался и принимал их, как публичные извинения, жертвы или даже как покаяние власти. Оставшиеся в живых близкие друзья в ответ на запоздалое движение системы поворчали, выразили неудовольствие и настойчиво советовали не принимать почестей или, ещё лучше, демонстративно отвергнуть их. Особенно настаивали чёрные вдовы со своим вечно юным максимализмом. Но это бы выглядело дешёвым позёрством. Ко всему прочему, Патриарх считал, что нельзя бесконечно играть на протестных нервах, мордовать власть, не принимать её жертв и покаяний, если они приносятся искренне. В общем, получился даже не спор, не разногласие, а скорее, обмен мнениями, принципиальными точками зрения. В любом случае, зависти ни у кого не было точно, даже у юных, тщеславных друзей, и это уж никак не могло стать причиной хорошо спланированного, с иезуитским душком, похищения: можно сказать, открытым текстом предупредили, прежде чем выманить из квартиры. И в машину сел сам!
Личной охраны у Патриарха не было, хотя при желании она бы появилась безусловно, однако жил он на площадке с одним из вице-премьеров, и стража стояла в подъезде соответствующая. Однако, вечером позвонили из Комиссии по помилованиям, попросили спуститься на минуту и подписать ходатайство. Вызывали его таким образом довольно часто, и, в основном, по делам неотложным или щепетильным, когда требуется уединённый разговор без чужих ушей. А тут час был поздний, выходить в знобкий, дождливый вечер желания не наблюдалось, и он попросил вкратце изложить суть дела.
Здесь и прозвучало скрытое предупреждение, от которого он даже не насторожился, хотя сказали чуть ли не открытым текстом: дескать, произошло похищение человека, за что добропорядочный гражданин теперь мотает срок. И фабулу изложили, мол, некий родитель отчаялся заполучить свою дочь законным образом, выманил куклой из дома, увёз и спрятал. Тогда ещё редко похищали людей вообще, тем паче, из меркантильных соображений, париться на нарах за своего ребёнка было несправедливо. По телефону слишком навязчиво торопили: завтра, мол, заседание Комиссии и на подпись, а к чёрным вдовам обращаться по такому делу бессмысленно, они примут сторону обиженной матери. Выходит, светский Патриарх – последняя, решающая инстанция, авторитетная для главы государства. И ещё ему хотелось своей подписью подразнить двух строптивых и непокорных бабок Ёжек. Приехать завтра в офис и сказать, дескать, а я вчера мужика освободил из тюрьмы…
Чёрными вдовами называли ближайших его друзей и помощниц, в прошлом убеждённых феминисток или, проще говоря, двух одиноких и несчастных старух, которых он в шутку и ласково именовал бабками Ёжками.
И вот везли его всю ночь в неизвестном направлении, потом ещё часа полтора, уже с завязанными глазами и с вонючим чулком на лице. Дорога виляла в незримом пространстве, проезжали какие-то деревни, поскольку мычали коровы и визжали свиньи, затем дружно, разом заголосили петухи, и всё остановилось, смолкло. Патриарха поспешно вывели и положили на обочину сельской дороги с глубокими колеями.
– Лежи тут и жди!
– Может, привязать к дереву? – стали советоваться между собой. – Шустрый ещё старикан! Думал, живым не довезём!..
– Куда денется? Поехали отсюда! Что-то не по себе…
– Хоть руки-ноги спутать? Старая закалка, такие из гроба встают!..
– Не наше дело. Сказано, оставить здесь. Поехали!
– Лежи смирно, – последовал приказ над самым ухом, – и повязку не снимай, ослепнешь без привычки.
– Вы куда меня привезли? – впервые за всю дорогу спросил Патриарх.
– На тот свет! – уже на ходу ухмыльнулся похититель. – Сейчас за тобой прилетят. Ангелы с херувимами!..
И торопливо унеслись в незримое пространство.
Мысль бежать, как только выпадет возможность, тряслась в голове всю дорогу, вместе с жаждой противления насилию, а тут вспыхнула ярко – вот он, случай! Патриарх в тот час сорвал с лица чулок, сдёрнул шарф и зажмурился от яркого, вышибающего слезу света. Солнца не было, а перед глазами плыли режущие красные пятна, чёрные мушки и длинные, яркие искры, словно от выстрелов во тьме. Повязка, в общем-то, была не чёрная, не глухая, так чтобы успел за несколько часов отвыкнуть, серенький сумрак всё же пробивался, а тут резануло так, словно на полуденное солнце посмотрел или на электросварку в темноте. Он вспомнил, когда в последний раз видел свет такой силы и нестерпимой яркости – в двадцатых годах, когда учился в консерватории, и когда после мрачных, пасмурных дней в Москве по секретной директиве Троцкого на три дня разрешили звонить во все колокола.
Он так же стоял у окна и плакал от яркого света.
Но это оказалось лишь началом: следом за слезами в три ручья хлынула огненная, нестерпимая боль, которой он не испытывал тогда, в вибрирующей от колоколов Москве. Несколько минут Патриарх стоял на коленях, едва сдерживаясь от крика, и только стонал, уткнувшись головой в землю. Давление на глазные яблоки было настолько сильным, что чудилось, глаза сейчас выкатятся на траву. Мерцающие болезненные вспышки колотились в черепной коробке, отдаваясь в уши и, как ни странно, в корни несуществующих зубов: у него давно стояли вкрученные стальные штифты, на которых крепились фарфоровые коронки. Патриарх стиснул их так, что услышал стеклянный хруст, однако это внезапно помогло, пламя боли мигнуло в последний раз и погасло.
Не отнимая рук от лица, он опустился на живот, сунулся лицом в траву и расслабился. Остатки недавней боли курились дымком и бесследно таяли где-то над головой. И пока кряхтел и катался, потом привыкал, промаргивался, чтоб осмотреться, услышал рядом дребезжащий, неприятный скрип, затем фыркнул конь, лязгая удилами.
– Вот должно и наш пострел, – определил натуженный, сиплый голос. – Глянь, похож – нет?
– Да вроде, – согласился другой, с булькающий низким баритоном. – Твоя фамилия товарищ Станкевич?
– Говорить не хочет, – при этом щёлкнул кнут. – Гордый, должно быть, товарищ…
– Чего молчишь? Открой лицо-то!.. Станкевич или нет?
В последнее время Патриарх редко слышал свою фамилию и относился к ней, как к собственной истории, однако же кем-то написанной и потому очужевшей.
– Похоже, ослеп, – было заключение булькающего. – Ишь, молчит и только глаза трёт… Для него наш свет не мил.
– Ослеп, да ведь не оглох, – просипел другой. – Эй, дед, как фамилия? Тебя спрашивают!
– Давай лесничего подождём. Тот лично знает товарища Станкевича.
– Тот всех знает в лицо…
– А что делать станем? Давай в карты сыграем?
Булькающий был куда серьёзнее.
– Мы пока костерок разведём, заклёпки погреем.
От их неторопливого разговора повеяло чем-то зловещим и неотвратимым, даже глаза перестало резать, и сквозь щёлки пальцев пробился вполне терпимый свет.
Ещё ночью, будучи в руках похитителей, Патриарха озаряла мысль, что насилие это творится, как расплата за прошлое, но тогда подобное озарение почудилось вздором. Или, скорее, было затушёвано сиянием чувства исполненного долга, в котором он пребывал и физически ощущал, что бы с ним ни происходило. Это чувство будто навсегда и безвозвратно отрезало всё прошлое, и соединить его с настоящим было невозможно.
Как человек, переживший несколько режимов, взлётов и падений, с ними связанных, он понимал, что нынешнее патриаршество не бесконечно. Он чуял, как власть уже устаёт от перманентного пересмотра истории, уничижения прошлых героев и возвеличивания новых, незаслуженно забытых, не признанных в своё время. Власти когда-то потребовалась доза свежей, горячей, бодрящей крови, влитой в её жилы. И вот переливание закончилось, подпитка состоялась, власть перестала нуждаться в донорстве, необходимом в период становления, утверждения, декларации намерений. Теперь подходит срок, когда прежние питающие своей кровью личности становятся лишними. Власти требуются другие доноры, с молодой, живительной кровью; власти всё время необходимо обновление, омоложение, дабы выглядеть привлекательной. Если вскормившие её старцы уходят в мир иной сами, то им и место на Новодевичьем, и воинские почести, и слава на века. А если как он, ещё и не помышляющий о смерти? Напротив, заполучив вечный титул патриарха, продолжает давать советы, как строить новое общество, и при этом подписывает декларации и проекты законов, от которых власть уже коробит или вовсе тошнит? Даже стали поговаривать, мол, Патриарх нынче выглядит, как Григорий Распутин при дворе: если такая личность появилась в высших эшелонах власти, значит, той скоро конец. Мол, старец всюду суёт нос, да ещё тянет за собой въедливых и ненасытных чёрных вдов, вечно жаждущих крови власть имущих…
Правда, не вяжется тут символизм в организации похищения, как-то нелепо выглядит скрытое предупреждение, хотя, при всём том, иезуитский почерк узнаваем…
Так он думал, пока не очутился на обочине просёлка и пока не явились эти двое на скрипучей телеге. И опять пробило: месть за прошлое! С какой бы стати его назвали не просто по фамилии, а с приложением слова «товарищ», от которого он напрочь отвык более полувека назад? А ещё более четверти века именовался не иначе, как гражданин?
Когда же нерасторопные балагуры сбросили с телеги какое-то железо и развели большой костёр прямо на дороге, Патриарх всё же приоткрыл глаза и сквозь расплывчатую слёзную пелену различил двух совершенно незнакомых, монашеского вида, мужиков: вроде, в серых подрясниках, и шапчонки на головах тряпичные. Один сиплый, пегобородый, с рыжиной, у второго чёрная бородища, залысины проглядывают и кузнечный инструмент в руках.
– Дак чего? – спросил этот сиплый. – Заклёпки разогрели. Станем железа накладывать?
– Может, лесничего подождём? – пробулькал чёрный густым неторопким басом. – Вдруг не того привезли, как в прошлый раз…
– Всё одно, того, не того. Отсюда назад не отпустят. А велено всякого в железа.
Они подтащили цепи с прикованной чуркой, приготовили увесистую кувалду вместо наковальни и молоток. Патриарх взирал на всё это сквозь слёзы и чуял, как привычное желание противиться насилию исчезает вместе с глазной болью. И стремительно угасает яркий, режущий свет.
– Давай, товарищ, подставляй ноги сам, – посоветовал булькающий. – Противиться нам – себе дороже. В кандалы приказано обрядить.
И уже в который раз со времени похищения его осенила совершенно новая мысль: да это же всё придумано и воплощено конкурентом, соперником!
Врагов у Патриарха не было, но ревнитель и завистник всё-таки существовал, явный и в единственном лице – Московский Патриарх, честь и славу коего демонстративно стяжали, позволяя называть закоренелого безбожника духовным званием. А соперник и виду не показывал, при встречах они мирно и благодушно раскланивались, по установившейся традиции не подавая друг другу руки. Предводитель духовенства явно знал о прошлом светского Патриарха и должен был бы всячески его поддерживать и благодарить за борьбу с бесовщиной и еретиками. Всё-таки общее дело делали, хотя один бился с крестом в руках, другой, как воинствующий безбожник, но с одним и тем же врагом – сектантами. И Московский Патриарх до поры если и не ценил старания своего невольного соратника, то относился к ним терпимо, с пониманием. Однако в последнее время вдруг отшатнулся, перестал замечать, и близкие друзья, причастные к делам церкви, стали сообщать о ревностном или даже нетерпимом к нему отношении.
Власть наконец-то позволила духовному Патриарху низвергнуть светского соперника: сам бы никогда не решился на столь кардинальную расправу! Ходил, наверное, и шептал на ухо – Патриарх в государстве должен быть один…
Почти не прикрытое похищение, заготовленные оковы-железа, монастырские послушники – это всё изобретения из его арсенала. Чем старше и немощней становился Московский Патриарх, тем всё более тяготел к средневековым традициям, полагая, что таким образом можно вернуть былую крепость веры. Скорее всего, списанному со счетов светскому Патриарху уготовили участь тайного сидельца в юзилище какой-нибудь заштатной обители…
Осенённый своей догадкой, Патриарх воспрял: всё, что ни делается – к лучшему! Самое главное, долг всей жизни уже исполнен, наследство завещано, груз обязательств снят, и всё остальное не страшно.
Он протянул ноги волосатому мучителю, словно принимая брошенный вызов.
– Сделай милость, раб божий! Забей меня в кандалы!
– Забивают в колодки, – поправил его палач, – а железа налагают.
– Это тебе лучше знать!
Послушник недоверчиво глянул, но завернул штанины и пощупал щиколотки.
– А ноги у товарища-то совсем тоненькие! – изумился он. – И стопа сухая. Выскочит ведь.
– Надо было размер снять заранее, – съязвил Патриарх.
– Твой размер знаем, – серьёзно и как-то угрожающе пробулькал палач. – Должно, усох ты за эти годы. Пешим не ходил, панствовал… Чего делать-то станем, Михайло?
– Может, так везти, без железа? – предположил тот. – Если не по размеру?
– Велено заковать!
– Тогда думай сам! Ты мастер кузнечных дел.
– Что тут думать? – отозвался булькающий, верно, и в самом деле знакомый с кузнечным ремеслом. – Разогреем да сомнём поуже. По панским ножкам и будет.
Они и в самом деле сунули в огонь кольца кандалов, нагрели их и, удерживая клещами, придали овальную форму. Потом остудили в луже, примерили к щиколоткам, снять попробовали.
– Годится!
Чтоб сковать ноги, у них ушло минуты три: в отверстия оков вставляли разогретые малиновые заклёпки – по две на каждую ногу, легко плющили их и тут же поливали водой. И ещё спрашивали участливо:
– Не жжёт?
Ручные железа оказались впору, только вот дырок насверлили не того диаметра, пришлось слегка раскатывать заклёпки и забивать их как гвозди, зато уже намертво.
– Не жмут? – всё ещё ехидно интересовался сиплый. – Ты, если чего, так скажи, пока не забили. А то ведь тебе сидеть в этих железах придётся вечно.
«Красавец! – восхищённо подумал Патриарх о своём московском сопернике. – Либретто к опере писал сам! Чувствуется рука знатока…»
И попробовал железа на вес. Кандалы оказались прикованными к ножным, и всё вместе – к дубовой чурке с врезанными обручами, весом пуда в полтора. Послушники помогли её донести и погрузить в телегу.
– Поехали! Глядишь, и лесничего встретим.
Зная его близость к театральному и оперному искусству, особое влияние на их деятелей, а значит, и репертуары, соперник однажды посетовал, что на сценах Москвы никак не звучит тема подвига во имя веры. «Жизнь за царя» и Сусанин есть, где-то опера про лётчика Маресьева идёт, леди Макбет на всех подмостках. А, к примеру, о патриархе Никоне, окончившем земной путь в юзилище Ферапонтова монастыря, ни слова и ни звука. Ведь это не только духовный лидер своего времени, а ещё драматургически интереснейшая, трагическая личность! Посетовал будто бы так, между прочим, размышляя и не требуя ответа, однако же, обязался самолично помочь с подбором исторического материала и много чего рассказать о нравах и обычаях той эпохи.
Вспомнив этот случай, Патриарх окончательно уверился, кому обязан кандалами и своей новой ролью тайного затворника. И роль ему, безусловно, нравилась, открывала новые и совершенно неожиданные возможности: о похищении, точнее, исчезновении его уже известно чёрным вдовам и всем, кому надо. Сегодня рано утром Екатерина обнаружит его отсутствие в квартире – сначала по телефону, затем самолично, и уже к девяти будет у Генерального прокурора. А к полудню Бабы Яги съедутся и поднимут штормовую волну, которая захлестнёт вялотекущую придворную жизнь. Пропал не бомж и даже не банкир или олигарх – светский Патриарх, известный деятель искусств и Президент Фонда защиты прав человека. Только бы у вдов хватило ума не привлекать могущественную Жабу! Нашли бы способ обойтись без её пробивной силы…
В узких и самых широких кругах одновременно, Жабой звали известную правозащитницу, предки которой выжили благодаря тому, что оказались дальними родичами Ленина, потом безбедно жили в период Советской власти. И сама Жаба в юности этим же козыряла, верховодя в комсомоле, говорят, красавица была писаная, все секретари засматривались. Они тогда были подругами с чёрной вдовой Еленой, работали в одном отделе ЦК ВЛКСМ. Однако строптивая родственница вождя или кому-то нужному не отдалась, или вовремя переориентировалась, но, возможно, в самом деле, заболела – история тёмная. В общем, очутилась в психушке, говорили, умышленно, чтобы переродиться в борца с системой и наследием своего родича. Говорят, перепрограммировали психику в психбольницах с помощью каких-то экспериментальных препаратов. Власть думала, прячет инакомыслящих в больницы и лечит их, а на самом деле оказалось – плодит!
Жаба и впрямь вышла другим человеком, полным антагонистом, ярым антисоветчиком и без каких-либо признаков женственности. Говорят, препарат был несовершенен, и красота шла в обмен на идейную убеждённость. Патриарх сторонился таких соратников и заклинал своих бабок Ёжек не привлекать её ни в каких случаях, ибо она одним только своим видом низводит до земноводности самые высокие, эфирные замыслы.
Конечно, если власть причастна, то ко всему этому готова, сделает вид, будто лихорадочно ведёт розыск, устанавливает виновных и громче всех кричит «держи вора!». Даже если везут в самый захудалый и неприметный монастырь, о нём уже к вечеру станет известно чёрным вдовам, и сюда хлынет поток сподвижников, друзей и прессы – такую дорогу набьют в глухомань! Процесс станет неуправляемым, как и всё стихийное в этой стране, где любая перелицованная истина становится культом. Жабу даже привлекать не нужно, сама выползет на экраны, ибо чует, где густо насекомых, комаров да мошек.
Разумеется, его найдут в цепях, и разразится неслыханный скандал…
И тут логично развивающаяся мысль словно на стену наткнулась. Нет, московский соперник не мог так просто подставиться, даже с согласия или подачи властей! Даже если она, власть, станет подталкивать его к такой грубоватой операции при клятвенной гарантии, что похищенного никогда не найдут. Мудрый, дипломатичный и не лишённый провидчества, Московский Патриарх верил только Богу и сразу бы узрел конечный замысел: таким образом избавиться от влияния обоих патриархов. Он всё просчитает, прежде чем заковывать соперника в кандалы, и при малейшем сомнении никогда не совершит махровой, пригодной разве что для оперного театра, средневековой глупости…
Впервые за всё время злоключений вдруг пригасло искристое чувство исполненного долга, и у Патриарха засосало под ложечкой. Озаряющие сознание мысли закончились, и происходящим событиям не было вразумительных объяснений. Кроме единственного: во всём виновато наследство, которое он успел передать. А эти люди – опоздавшие, спохватились и теперь, судя по кандалам, пытать станут не только голодом, холодом и жаждой, к которым он уже привык. И надо готовиться к самому худшему: физической боли, к психотропным препаратам, к гипнозу и прочей современной чертовщине.
Между тем скрипучая, древняя телега, запряжённая горячим, гнедым жеребцом, катила лесным виляющим просёлком как-то уж очень мягко, словно рессорная коляска. Совсем не трясло, не тарахтело на колдобинах, только цепи на руках бархатно позванивали, и слышалось пение птиц в трепещущей листве.
В прошлом Патриарх был музыкантом, однако до сей поры в отвлечённом состоянии сознания начинал мыслить звуками и по ним выстраивать грядущий финал. Кажется, сейчас он испытывал бравурное состояние приподнятых чувств, и музыка окружающей природы вторила ему. Зрение окончательно привыкло к свету, хотя глаза ещё слезились, и изредка проносились радужные сполохи, но при этом Патриарх успевал всё замечать. В том числе и некоторые странные предметы у дороги – старые, обветшалые столбики с деревянными фонарями, сквозь мутные стёкла которых мерцали горящие свечи. Где-то он уже видел подобные маячки и при этом испытывал то же чувство недоумения, как сейчас: кто ходит и зажигает свечи вдоль всей дороги?..
На одном таком фонаре оказался дорожный указатель – полугнилая доска с надписью «Замараево». Название почудилось знакомым, впрочем, и сама полузаброшенная деревня на лесной поляне что-то напоминала, словно уже бывал здесь, но очень давно. По улицам паслись коровы и лошади, отчего гнедой в телеге приветливо заржал, сделал попытку свернуть с дороги и получил кнутом от сиплого.
– Прямо! Домой!
Через пару километров встретился ещё один застарелый, ржавый знак и теперь уж точно знакомый: надпись «Гречнево» была грубовато, мальчишеской рукой, исправлена на «Грешное». Именно так называлась тогда деревня в Костромской области, где ему в стычке с местными бандитствующими сектантами прострелили ногу! Старая рана тут же и отозвалась, заныло выше колена, там, где пуля выщипнула кость и откуда до сей поры время от времени, прорывая давно зажившую ткань, выходят мелкие, как песок, её осколки…
«Если следующая деревня Мухма, – загадал Патриарх, ощущая жар оков и потливость, – значит, костромские выползни…». Развивать эту мысль и вспоминать он сразу даже не решился. Выползнями называли членов секты, опознавательным знаком у которых была змеиная шкурка, зашитая в кожу и носимая на шее, как обережный знак, вместо креста. И это была единственно известная и зримая о них информация, всё остальное, как и чему они молятся, во что веруют, оставалось тайной либо приходило на уровне сплетен и баек. Пойманных с подобными амулетами допрашивали, пытали и, ничего не добившись, сажали на пять лет с последующей пожизненной ссылкой в Нарым. Конечно, если не доказывали, что арестованный принадлежит к секте выползней. Самих же сектантов под серьёзной охраной переправляли в Москву, где их дальнейший след терялся безвозвратно.
В окрестных деревнях змеиная шкурка стала проклятьем, от неё шарахались, если случайно находили в лесу, а иные мстительные хитрованы подбрасывали выползки своим врагам, а потом доносили. Скоро даже сплетен и бывальщин стало не услышать, люди боялись не то что вольно болтать о выползнях, даже вспоминать, думать о них опасались, особенно к ночи, мол, тут и явятся. Поэтому на расспросы отвечали, будто слухи о них – вымысел, и таких сектантов вовсе не существует…
Следующей деревни не оказалось, ибо послушники свернули с зарастающего просёлка на старую, едва приметную дорогу, почти затянутую мелким ельником, и горячий, срывающийся в галоп гнедой как-то сразу присмирел. Патриарха посадили спиной к ходу движения, поэтому он всё время смотрел назад, и тут стал замечать, что ни телега с виляющими колёсами, ни копыта лошади не оставляют следов. Мшистая земля, казалось, покрыта упругой, несминаемой гуттаперчей, в том числе, неестественно выглядели и мелкие ёлки, мгновенно встающие после того, как по ним проехали железными ободьями. И не было уже ни столбиков с фонарями, ни каких-то особых или знакомых примет: он ещё машинально пытался запомнить дорогу, хотя понимал ненужность и никчёмность своих потуг. Необъяснимость, по воле кого и в чьи руки он попал, вышибала непоколебимую уверенность в формуле, за которой он следовал всю жизнь: всё, что ни происходит, нужно перевоплощать во благо. Извлекать его даже из самой лютой нужды, несправедливости и смертельной обиды. Единственное, из чего не получалось добывать благо – из собственных ошибок и заблуждений…
На этой дороге и явился лесничий, верно, поджидавший повозку за деревом. Внезапно запрыгнул на задок телеги, однако эффекта особого не произвёл, ибо оказался совершенно незнакомым, однако же, колоритным. Несмотря на лето, в овчинном полушубке нараспашку, топор за опояской, такой же волосатый, бородатый, да ещё и косоглазый – сразу не поймёшь, куда глядит. А возрастом лет сорок с небольшим.
– Здорово, дед! – признал и будто бы обрадовался. – Ишь ты, ничуть не изменился. А сколько лет прошло!.. Или тебя лучше звать товарищ Станкевич, как раньше?
– Мы шибко сомневались, – не оборачиваясь, отозвался сиплый, – того привезли, не того…
Не в пример послушникам, лесничий почему-то совсем не загорел на солнце, был какой-то бледный, белокожий и изрядно поеденный гнусом, которого, кажется, боялся панически. Он то и дело отмахивался от слепней, шлёпал комаров и постоянно чесал укушенные места. Сквозь прореху на его пропотевшей рубахе Патриарх заметил гайтан – кожаный шнурок на шее. Только вот что на нём подвешено, не рассмотреть…







