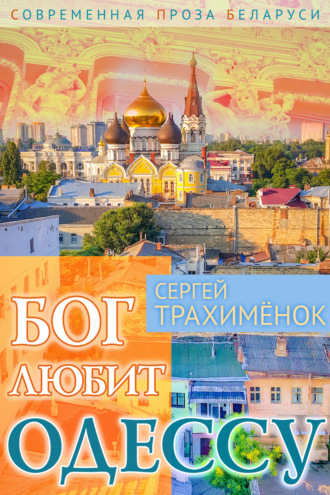
Сергей Трахимёнок
Бог любит Одессу
Роман
© Трахимёнок С., 2022
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2022
Олесь
В Киеве Олесь вышел из здания по улице Владимирская, 33[1] и пошел в сторону Софии. Отец стоял на углу и с особым интересом рассматривал серый камень, которым было облицовано здание и его колонны.
– Ты как первый раз все это видишь? – сказал Олесь после приветствия.
– В некотором смысле да. Когда я тут работал, мне было не до этого, – ответил отец.
Он был одет не по-летнему, в коричневом костюме, брюках с манжетами и почему-то в белой летней шляпе.
– Поговорим здесь? – спросил Олесь.
– Нет, пойдем, прогуляемся, – ответил отец.
Олесь хотел перейти улицу, но отец его остановил.
– Мы пойдем не к Софии, а к Богдану[2].
– А я думал, поведешь меня к скверу, где ты делал маме предложение.
Отец промолчал. И сын понял, что переборщил с остротами и намеками.
Они перешли улицу, немного пройдя дальше, постояли у памятника Богдану Хмельницкому. Затем двинулись к Михайловскому собору.
Отец молчал, как и Олесь.
Миновав собор, вышли на Владимирскую горку.
– Хотел показать тебе Киев, – сказал отец, – но за деревьями его плохо видно.
– Красивый пейзаж открывается отсюда только поздней осенью, когда вся листва опадает.
– Так, так, – ответил отец и оживился, – ты и это помнишь?
– Нет, – ответил Олесь, – просто я тут сейчас чаще бываю, чем ты.
– А-а, – неопределенно протянул отец.
– Ты любил водить меня в детстве в беседку.
– Вот туда мы и идем, посидим, поговорим.
Они подошли к беседке.
– Закрой глаза, – сказал отец.
– Зачем?
– Потом скажу.
Олесь закрыл глаза.
– Сколько там ступенек.
– Пять, – немного подумав, ответил Олесь.
– Шесть, – произнес отец, – раньше ты всегда их считал.
– Па, это было давно, еще когда учился считать и считал все подряд.
– Да, но я думал, что ты помнишь. У тебя должна быть фотографическая память.
– Ты же знаешь, это все байки о том, что у разведчиков фотографическая память. На самом деле все иначе. Человеческая память избирательна, она запоминает то, что нужно для выживания или когда ты вобьешь в нее то, что считаешь нужным. У нас в вузе был препод, он мог мгновенно актуализировать память всех в аудитории простым обещанием принять завтра зачет по той теме, которую мы сегодня разбираем на семинаре. И у всех память мгновенно улучшалась…
– Сравнил тоже, – ответил отец, – хотя это неплохой способ актуализации.
Они уселись на лавку.
– Ты догадываешься, зачем я тебя сюда привел?
– Да.
– А ты не хочешь спросить меня, почему та секретная миссия, что тебе поручается, стала мне известна?
– Нет.
– Почему?
– Потому, что ты сам мне об этом скажешь.
В это время к беседке подошла группа иностранцев, переводчица рассказывала им о Крещении Руси, время от времени указывая вниз на видневшуюся среди листвы спину Владимира Крестителя.
– Китайцы, – констатировал отец.
– Тебе лучше знать, я, в отличие от тебя, не могу отличить китайца от корейца или японца.
– Да, – ответил отец, – у нас были другие масштабы и другие визави.
– Что делать, – ответил Олесь, – те времена ушли в прошлое.
– Нам не дадут договорить, – сказал отец и поднялся со скамейки, – пойдем.
Они прошли вдоль перил Владимирской горки и стали спускаться вниз к бывшему музею Ленина.
– Ты знаешь, как называлось это здание в советские времена, – спросил отец.
– Да, киевским тортом.
– Правильно.
– Отец, перестань меня экзаменовать. Я уже понимаю, что ты знаешь о моей командировке, хотя она законспирирована, как мне сказали начальники на три раза.
Участок Крещатика до улицы Учительской они прошли молча. Свернули на Банковую.
– Мы идем в резиденцию? – спросил Олесь.
– Нет, к домику с химерами.
– Я понимаю, ты обеспокоен моей командировкой. Но не придавай ей большого значения. Это же не за кордон, а в пределах Украины… Так стоило ли водить меня по местам твоей боевой славы, чтобы съездить на неделю полторы в некий город и вернутся.
– Самое поразительное, что я – отставник, не имеющий возможности входить в здание СБУ, знаю, в чем твое задание и куда ты направляешься. Тебя это не удивляет?
– Ты это к чему?
– К тому, что его могут знать и другие, не только твое начальство.
– Не бери в голову, это задание учебное.
– Э, не скажи, конечно, и в советские времена такие штучки делали, но о них далее бюро обкома партии информация не выходила. Причем в любом случае, и если удавалось провести операцию, и если не удавалось. Хотя такое случалось довольно редко, все же в тайной деятельности одиночки работают эффективнее, чем система.
– Что же изменилось на сегодня?
– Многое. Если раньше те, кто выигрывал, получали благодарности, а проигравшие их просто не получали, то теперь игры идут реальные. На носу выборы. И акция, которую ты считаешь учебной, может быть использована одной стороной против другой. И я не хотел бы, чтобы тебе свернули там шею, несмотря на твои разряды по каратэ. Думаю, тебя уже сдали с потрохами и в Одессе ждут, чтобы взять под белые ручки, а если ты будешь артачиться, еще и уроют.
– Каким образом?
– Дадут обрезком трубы по загривку, жить будешь, но со службой придется расстаться.
– Мрачные перспективы.
– Зато реальные.
– И ты не даешь мне шанса?
Но отец продолжал, пропустив мимо его ироничное высказывание.
– Но еще хуже, если ты сделаешь это и не сможешь быстро уйти оттуда. Ребята могут и похоронить тебя. Причем сделают это они не своими руками, а руками одесских жуков.
– Батя, ты преувеличиваешь.
– Нет, скорее всего, преуменьшаю, поскольку игра идет на большие деньги.
– Но я-то к ним никакого отношения не имею.
– Это ты так считаешь.
– Хорошо, пусть будет так. Что же мне делать?
– Выполнять поставленную задачу, но с определенным процентом корректировки. Во-первых, ты поедешь в Одессу не из Киева, а из другого места, даже я не буду знать. Лучше, чтобы ты въехал на Украину, тьфу, в Украину из-за границы.
– Хорошо.
– Во-вторых, установочные данные, под которыми ты выступаешь, конечно, уже засвечены, я подготовил тебе паспорт на другую фамилию. И, наконец, объект для диверсии выберешь сам.
Павел Алексеевич
Павел Алексеевич Насокин, мужчина в возрасте чуть за пятьдесят, сел в поезд Москва-Одесса. Несмотря на летний сезон, вагон был полупуст, а в купе, кроме Насокина, больше никого не было.
Поезд тронулся, проводник взял билет у мужчины, намекнул, что курить можно только в рабочем тамбуре, и исчез, оставив пассажира одного. Он тоже вышел в коридор и стал смотреть в окно. Какая-то дама в больших роговых очках, переодевшись в тренировочный костюм, тоже покинула свое купе и остановилась возле окна, с любопытством осмотревшись, остановила свой взгляд на Насокине. Впрочем, это было неудивительно.
Павел Алексеевич имел прекрасную для своего возраста фигуру, пышную шевелюру, которой почти не коснулась седина, и благородную осанку, отличавшую работников умственного труда от работников труда других видов, так, во всяком случае, он сам полагал. А еще Павел Алексеевич считал себя счастливым человеком. В свои пятьдесят два он сумел прожить две жизни. Разумеется, они имели прочные профессиональные основания, поскольку до начала девяностых он преподавал научный коммунизм, а потом стал политологом.
Но если в первой жизни он был достаточно устойчив, поскольку основывалась она на знании трех источников и трех составных частях марксизма, то с политологией было сложнее. При всех регалиях кандидата философских наук и доцента, предмета политологии он до сих пор не понимал.
Старая жизнь его закончилась в девяносто первом. Но без работы Павел Алексеевич оставался недолго. Буквально через год его нашел бывший однокурсник по институту Семеновский и пригласил на кафедру политологии в коммерческий вуз.
– А как он называется? – спросил Павел Алексеевич.
– Да какая тебе разница. У вуза еще нет названия.
– А какова его специфика?
– Ковать кадры развитому капитализму.
– Но я не специалист по политологии!..
– Значит, ты должен стать им, иначе…
– Что?
– Иначе ты останешься без куска хлеба.
Против такого аргумента трудно было что-либо возразить.
И Павел Алексеевич с ним согласился.
Гуманитарное образование и переориентация на общечеловеческие ценности помогли ему относительно легко начать новую жизнь.
Однако той устойчивости и уверенности в правоте своего дела, какие имел ранее, Павел Алексеевич так и не приобрел. То ли категориальный аппарат новой дисциплины еще не сложился, то ли предмет ее был настолько широк, что являл собой некую бочку, в которую создатели одновременно впихнули государствоведение, психологию и социологию.
Однажды на семинаре один из студентов сказал, что политология – искусственно созданная дисциплина.
Павел Алексеевич, как человек поднаторевший в научных и околонаучных спорах, тут же перевел стрелки на говорившего.
– Прошу, – сказал он, – вам и карты в руки. Представьте, будто вы создатель этой дисциплины. В чем вы видите ее предмет?
Однако студент оказался думающим.
– Если речь идет о политологии, то это – учение о политике. А сама политика есть деятельность по защите собственных интересов. У нее нет предмета, то есть того, что должно изучаться как некая сфера, в которой исследователь или исследователи пытаются выявить уж если не законы, то некие закономерности. Отсюда политология – набор действий, которые могут осуществляться для достижения одной цели – прихода к власти и удержания ее.
Такого оригинального подхода к дисциплине от студента Павел Алексеевич не ожидал. Но самое удивительное было то, что, мастерски спустив полемику на тормозах, Насокин, мысленно с ним согласился. И, продолжая читать лекции по политологии, стал больше интересоваться другим – геополитикой.
Это не прошло незамеченным мимо заведующего кафедрой Семеновского.
– Вот и прекрасно, – сказал он, – наконец-то у нас появился человек, который будет заниматься евроинтеграцией.
Какое отношение имела евроинтеграция к геополитике, Семеновский не объяснил, но тут же добавил, что Украина в этом направлении ушла далеко вперед, и пообещал Насокину выписать командировку для изучения опыта «славянской соседки».
Насокин уже мысленно видел себя гуляющим по Крещатику, но то ли связей Семеновского не хватило, то ли сработали другие причины, командировку ему выписали не в Академию управления в Киев, а в Институт государственного управления, который находился в Одессе.
Впрочем, сам Семеновский объяснил это тем, что именно в этом институте открылась первая в Украине кафедра евроинтеграции.
Чтобы не ударить в грязь лицом перед коллегами из Одесского института Павел Алексеевич прочитал все, что имело отношение к евроинтеграции, и нашел, что это понятие существует в трех ипостасях. Сие его порадовало, возможно, своей близостью к трем составным частям марксизма.
Под евроинтеграцией часть ученых понимала взаимодействие на правительственном уровне, которое приводит к унификации многих сфер деятельности. Другая полагала, что интеграция лежит в коммуникативной сфере и представляет собой образование новых социальных общностей, третьи считали, что это процесс, который приведет, наконец, к созданию многоуровневой системы управления в рамках единой Европы.
Однако были и четвертые, считавшие, что евроинтеграция – это очередная уловка продвинутых в манипулятивных технологиях, так называемых рыночных государств для завоевания ресурса государств-конкурентов под благовидным предлогом.
…Но Павел Алексеевич был уже в поезде, который неотвратимо мчал его по просторам России, чтобы потом так же катить по степям Украины в славный город Одессу, который, согласно социологическим исследованиям, гораздо более известен и посещаем россиянами, чем Киев.
– Вы до Одессы? – произнес женский голос.
Насокин повернулся к даме в тренировочном костюме. И только теперь Насокин обратил внимание, что линзы в ее оправе настолько мощные, что не позволяли разглядеть глаз.
– До Одессы? – повторила дама.
– Да, – ответил он.
– Я так и подумала, – сказал она, – видимо, в Затоку?
– А что такое Затока?
– А-а, сразу видно, что вы никогда не бывали в Одессе. Это пляжные пески на побережье до самого Измаила.
– Нет, – ответил Насокин, – я не в пески, я в Одессу работать.
– Знаете, – ответила на это дама, – самый лучший отдых в Одессе в советские времена был у командировочных.
– Почему? – удивился Насокин.
– Потому что за него еще и платили.
И женщина принялась приводить примеры такого отдыха, которые случались с ее друзьями и подругами каких-то двадцать лет назад. Слушая ее трескотню, Насокин думал, как бы тактично отвязаться от словоохотливой попутчицы. Но придумать ничего не мог, поэтому был вынужден изображать на своем лице заинтересованность, дабы не обидеть собеседницу.
– Вы меня совсем не слушаете, – констатировала дама.
– Нет-нет, напротив, – ответил Насокин, – мне все это до крайности любопытно.
– А мне показалось, что вы совсем выпали из разговора… Кстати, меня Лидией зовут.
– А меня Павлом Алексеевичем.
– Можно я буду называть вас просто Павел?
– Можно, – ответил Насокин, а про себя подумал: «Хорошо, что не Павлушей».
– Ну, вот и познакомились! – обрадовалась Лидия и хотела продолжить беседу, но тут появился проводник.
– Скажите, – спросил Насокин у него, – когда мы будем в Калуге?
– В первом часу ночи, – буркнул тот на ходу.
– Мсье торопится? – с легкой долей ехидства спросила Лидия.
– Да, – ответил Насокин, – хотел посмотреть на ночную Калугу, да, видно, не судьба.
– Что так?
– У меня отбой в десять часов, – произнес он.
– Не думайте от меня так просто отделаться, – заявила дама, – идите, отбивайтесь, а завтра продолжим. Я вам такое расскажу за Одессу!
– Это так необходимо?
– Безусловно, без этого в город не стоит и соваться.
– Я не люблю монологов.
– Это будет диалог.
Савелий
Савелию Злобе был тридцать один год. Шесть лет назад он окончил журфак МГУ, но в газету не пошел, и не только потому, что имел свободный диплом. К выпуску он поднаторел, работал в группах поддержки кандидатов в депутаты различных органов, что всегда прибыльно: желающих попасть в депутаты было множество, да и платили они и их спонсоры неслабые деньги.
Однако в тридцать он наелся и заработками, и работой, стал терять журналистскую квалификацию и решил, как модно было говорить в его тусовке, «сменить парадигму своего существования».
Сначала Савелий попробовал пробиться в редакции ведущих изданий Москвы, но не тут-то было. Кроме диплома, нужно было представить публикации предыдущих лет. Однако такие отсутствовали, и Савелий решил написать сенсационную книгу. Он стал собирать материалы, публикация которых могла бы сделать ему имя и помочь начать журналистскую карьеру.
Подходил к концу 2006-й год, самым громким делом того времени было убийство Политковской, и Савелий взялся за собственное расследование. Опыт работы в группах поддержки людей, рвущихся во власть, научил его выделять и четко формулировать причины и мотивы такого рвения. В биографии Политковской его заинтересовало место рождения – США, но это оказалось незначительным, поскольку родилась она в семье советских дипломатов.
Об отравлении чаем во время полета в Беслан 2 сентября 2004 года собрать факты не представилось возможным, и Савелий сосредоточился на сборе материалов по версии убийства наиболее вероятной, поскольку в последние годы деятельность Политковской была связана исключительно с Чечней.
Не столько факты, сколько интуиция говорили в пользу того, что лучшего объекта, чтобы нанести удар по спецслужбам, которые, разумеется, преследовали Политковскую, трудно было придумать.
Хотя, если бы речь шла о том, что женщина мешала спецслужбам, то они могли «убрать» ее гораздо раньше, реализовав принцип «чем раньше пресечена подрывная деятельность, тем меньше ущерб от нее». Причем это можно было сделать на территории той же Чечни, где никто не нашел бы концов.
Интересным было и то, что Политковскую убили накануне визита Президента России в Германию, худшей услуги главе государства со стороны спецслужб трудно было бы придумать.
Несмотря на недоумение по поводу обвинения российских властей в убийстве Политковской, высказанная Герхардом Шредером стала известной фраза: «К сожалению, журналисты гибнут довольно часто, гибнут в других странах – но почему-то никто не пытается в каждом из этих случаев обвинить правительство». Смерть Политковской сделала свое дело, и на одно высказывание Шредера был не один десяток противоположных.
Таким образом, из чеченской версии появилась версия о том, что эта провокация направлена именно на дискредитацию главы государства и руководства Чечни одновременно.
К тому же всплыла информация, что живущий в Лондоне Александр Литвиненко вспомнил: Политковской «лично грозил» сам Президент России, причем делал это через Ирину Хакамаду, которая отвергла обвинение, заявив, что уже три года не была в Кремле и не общалась ни с кем из первых лиц государства.
Сбоку припеку было и предположение о причастности к убийству журналистки сотрудников Нижневартовского ОМОНа. Поскольку один из них после публикации Политковской был осужден за похищение человека и убийство в Чечне.
Потом всплыла версия с так называемым списком врагов русского народа. Там Политковская была обозначена как «агент западных спецслужб». Савелий стал изучать список, дабы найти параллели между Политковской, ее деятельностью и иными фигурантами списка, как вдруг ночью ему позвонили домой. Голос с кавказским акцентом спросил.
– Это товарищ Злоба?
Савелия бросило в жар. И он долгое время не мог вымолвить ни слова.
– Ви почему молчите, – сказал тот же голос, – ви меня слышите?
– Да, – выдавил, наконец, из себя Савелий.
– Это «Сталин» говорит, – произнесли на другом конце провода, – товарищ Злоба, с такой фамилией, как ваша, вам не стоит заниматься тем, чем ви занимаетесь.
– Почему? – вдруг спросил Савелий.
– Потому, что это для вас может плохо кончиться.
– А?..
– Я все сказал, – произнес голос, и в трубке раздались короткие гудки.
Неделю после этого звонка Савелий оглядывался на улице. Расследование он бросил, и только схемы по-прежнему сидели в голове и в определенной мере не давали ему покоя.
Савелий стал думать, что ему делать дальше. И вдруг, как метеор на чистом августовском небе, мелькнуло – Одесса: именно туда после распределения уехал его одногруппник Юра Краморенко.
И все как-то сразу сложилось. Уровень криминала там нисколько не ниже, и если подойти с умом, то можно найти не менее забойный объект для исследования и описания и не обратить на себя лишнего внимания. И опыт работы в Москве пригодиться: в Одессу не надо ехать для расследования, туда нужно ехать, чтобы описать одесситов. А это не должно вызвать подозрений.
Телефон Краморенко он нашел быстро. Позвонил, тот даже обрадовался звонку.
– Ты в какой журналистике? – спросил Савелий после приветствий и слов вежливости.
– В украинской, – ответил Краморенко.
– Да, нет, Юра, – я имел в виду, – бумажной или электронной?
– Савелий, – был ответ, – я в рекламной журналистике. Тут один мужичок в свое время правильно сориентировался и приватизировал Ильичевский порт, так вот я у него работаю, пишу тексты.
– Какие?
– Савва, любые, какие боссу нужны.
– Понятно.
– Ты к нам отдохнуть?
– И отдохнуть, и поработать, как пойдет…
– Ну, приезжай, на месте разберемся… Ты-то сам в журналистике?
– А почему ты спрашиваешь?
– Потому что с твоими габаритами и мощью мог уйти в бои без правил…
– Да нет, Юра, в бои без правил я не пошел, кишка тонка. Да и мозги нужно поберечь. До встречи.
Через несколько дней после разговора Савелий шел на вокзал. За спиной его была большая дорожная сумка, которая вовсе не казалась огромной, потому что Савелий, как верно подметил Краморенко, был мало похож на журналиста-интеллигента. Выглядел он как грузчик, был широк в плечах и кости, крепко цеплялся за асфальт мощными чуть кривоватыми ногами.
С Юрой Краморенко Савелий познакомился на вcтупительных экзаменах в МГУ. Москвич Злоба и донецкий паренек Краморенко, несмотря на разность внешности и характеров, быстро сошлись друг с другом. А после того как Злоба фактически спас провинциала от кулаков двух московских гопников, стали друзьями, между ними установилась некая иерархия, в которой Злоба играл роль старшего брата.
Топаз
Борис не был здесь четверть века, с того времени как пытался поступить в Одесский электротехнический институт связи. В то время институт находился на улице Красной Армии. Если вуз сохранился, то улица, наверное, уже переименована. Институт носил имя создателя радио Попова. Это он помнил хорошо, во-первых, потому что другого такого в Советском Союзе не было, а во-вторых, такую же фамилию имел его друг и товарищ по факту тех неудачных экзаменов Витя Попов. Какое-то время он переписывался с ним, но с распадом СССР друг перестал отвечать на письма.
Борис вышел из вагона последним, постоял на перроне и направился на привокзальную площадь. Было жарко, хотя чему удивляться, ведь это Одесса. Борис набрал номер, который ему дали в Новосибирске, абонент молчал.
– Ни фига себе, – подумал он, – а что делать?
– Начальник, – обратился к нему один из таксистов, – машина к вашим услугам.
«Может, съездить на улицу Красной Армии?» – подумал Борис, но тут же отогнал от себя эту мысль. Ведь ностальгия всегда связана с приятными воспоминаниями, а неприятные всегда отторгаются памятью.
– Улица Тенистая, – сказал Борис водителю такси, усевшись на заднее сиденье.
Машина сорвалась с места и тут же резко затормозила: по пешеходному переходу на красный свет неторопливо шла собака.
Водитель чертыхнулся, а потом добавил в сердцах:
– В Одессе даже собаки не соблюдают ПДД.
Борис никак не отреагировал на эту реплику, понимая, что находится в Одессе, где таксисты тоже играют роль одесситов.
– В Одессе впервые? – спросил водитель.
– Нет, – ответил Борис.
Водитель замолчал, а Борис стал вспоминать свой последний день в Одессе.
В тот день он успел завалить последний экзамен, забрать документы и обнаружить в своем кармане последние пятьдесят копеек.
Взять билет на эту сумму до Киева, где у него жила тетка, которая, собственно говоря, и рекомендовала ему поступать в ОЭИ, не было и речи. И он пошел болтаться по городу. На Дерибасовской зашел в пивную под названием «Гамбринус».
Он помнил дубовые столы и лавки без спинок, весьма специфический запах, поскольку под отдельными столами был желобок, по которому текла вода, и можно было тут же справить малую нужду.
Ассортимент пива был небольшим: «Жигулевское» и «Рижское».
Борис взял кружку и устроился на свободное место.
Первый же глоток освежил его и опьянил. Он вспомнил, что весь день ничего не ел. И зверский аппетит проснулся в молодом организме.
– Не занято? – спросил его мужик средних лет, от которого пахло водкой.
– Свободно, – ответил он тогда.
Мужик выпил кружку пива и вдруг предложил.
– А давай я тебя угощу.
– А давай, – ответил он, удивляясь тому, как легко согласился на добровольное угощение.
Выпили по кружке. Мужик, уже не спрашивая Бориса, заказал две порции пельменей.
Съели пельмени.
Куда-то далеко ушли от Бориса и проваленный экзамен, и отсутствие денег на обратную дорогу.
А мужик долго смотрел на Бориса, а потом вдруг сказал.
– Слушай, не убивай меня.
– Хорошо, – так же спокойно ответил ему Борис, – не буду.
– Точно не будешь?
– Точно.
– Тогда пойдем ко мне, – сказал мужик, – я тут недалеко живу, у меня жена и ребенок. Жена варит уху. Ты любишь уху?
– Люблю.
– Тогда идем.
И они пошли к нему в дом.
По дороге Борис спросил:
– Ты кто?
– Моряк, – ответил мужик, – я с рейса пришел, сразу домой, пока жена готовит уху, решил в пивную заглянуть и тебя встретил. Ты рад?
– Рад, – искренне ответил Борис.
– Я тоже, – сказал мужик, и, как показалось Борису, тоже совершенно искренне.
– Как тебя зовут? – спросил Борис.
– Анатолий, но для тебя просто Толя.
Они пришли в старый одесский двор, где у моряка была маленькая квартира, в которой его трепетно ждала небольшого роста рыжеволосая женщина и ребенок трех лет, которого звали по-взрослому Бронислав.
Ребенок ходил по комнате, посматривая вверх на незнакомых ему мужчин, и время от времени обнимал за ногу мать, произнося одно и то же:
– Моя мама…
– Валя, – сказал женщине Анатолий, – это мой друг Борис, он не одессит, но великодушно согласился не трогать меня.
Женщина в ответ на данную реплику даже бровью не повела, а стала усаживать Бориса за стол, который уже был накрыт на трех человек. Видимо, заскоки Толика ей были привычны, а может, это была какая-то непонятная игра людей, один из которых вернулся после многомесячного плавания, а другой несказанно ему рад, готов простить все его заскоки и неадекватности.
Они выпили и стали хлебать уху. Самое удивительное, что Борис не чувствовал опьянения: то ли выпил он не так много, то ли закуска была мощная.
– Еще по одной? – спросил Толик.
Борис кивнул. Выпили еще по стопке и вдруг Бориса прорвало. Он вдруг заплакал и уткнулся лбом в плечо Толика. Толик и Валентина бросились его успокаивать и делали это искренно, так доброжелательно, что даже маленький Бронислав подошел к Борису и обнял его за ноги.
Отплакав, Борис рассказал Толику о том, как он попал в Одессу, как сдавал экзамены, как провалил последний, как остался без копейки денег и не может уехать в Киев. И тогда Толян, его жена и даже трехлетний Бронислав засуетились, засобирались и повели Бориса на вокзал.
Они шли по улице: впереди Валентина с Брониславом на руках, а сзади Борис, которого держал под руку Анатолий. Огромные очереди у касс привели Бориса в уныние. Но случилось чудо, Толик, минуя всех, подошел к кассе. Он предъявил какой-то документ и взял билет до Киева.
– Что он им показал? – спросил Борис Валентину.
– Паспорт моряка, – ответила та.
– И подействовало?
– Как видишь, – ответила Валентина.
Толик, отходя от кассы, успел обняться с доброй дюжиной одесситов и рассказать, что у его друга Бори проблемы и их нужно решить, наконец, добрался до Бориса и Валентины. А потом он жену, сына, Бориса и эту добрую дюжину знакомых и случайных людей повел в привокзальный ресторан.
Увидев Толика, две официантки сдвинули три стола, за которые, нет, не сели, а стали все приглашенные Толиком, а сам Толик произнес напыщенную речь о том, что его друг Боря попал в беду. Но в беду он попал в Одессе, а в Одессе друзей в беде не бросают.
Нужно сказать правду, что после речи Толика все приглашенные, выпив по стопке и бросив в рот несколько ломтиков сыра или колбасы, покинули ресторанный зал, а Валентина и Толик, уже сидя за отдельным столом продолжали потчевать гостя Одессы Бориса.
Уже объявили посадку на поезд, а троица с каким-то усердием и почти неистовством все напихивала Бориса одесскими яствами. Прозвучало объявление диспетчера, что до отправления остается пять минут, однако ничего не изменилось. И только когда объявили отправление, они вдруг рванули на перрон, толкая впереди себя Бориса…
– Начальник, начальник, – водитель такси дергал Бориса за рукав, – приехали, с тебя сто сорок гривен.
Олесь
– Отец, мне намекают…
– Я полагаю, что у твоего руководства хватило ума не ориентировать тебя на Черноморское морское пароходство, которого уже полтора десятка лет не существует?
– Нет, отец, объект диверсии мне уже определен.
– Очень плохо.
– Почему?
– Потому что наши конспирологические заморочки сводятся этим на нет.
– Почему?
– Тебя будут ждать там.
– Понятно, но у меня будет некая фора, если я приму твою тактику. Плюс ты дал мне другие документы… Так?
– Так.
– Тогда нужно…
– Что нужно, ты сейчас поймешь сам. Посмотри наверх, что ты видишь?
– Химер.
– Правильно.
– А почему я привел тебя именно сюда?
– Думаю, ты сам мне об этом скажешь.
– Скажу, чтобы ты не попал в мясорубку.
Отец долго смотрел на химер и, наконец, продолжил:
– Химера – это то, что сочетает в себе несочетаемое. С одной стороны, все качества этих тварей есть у других тварей божьих, но у химер они гипертрофированы и…
– Отец, я недавно слушал лекции одного неоязычника.
– Кого?
– Неважно. Так он говорил о древнем письменном языке, из которого появились и латиница и кириллица.
– А таковой существовал?
– Существовал, если он говорил об этом.
– А какая связь между химерами и древним языком.
– Самая прямая. Графика первой буквы «А» обозначает строение мира, его дуализм. Дуализм всех без исключения сущностей.
– Тут, пожалуйста, подробнее.
– Пожалуйста. Мир – война, день – ночь, белое – черное. А вот деньги не имеют признаков объективной сущности. У денег нет положительной сущности, они являются сами по себе, сами в себе, значит, это есть порождение человеческого сознания и не более того. А порождение человеческого сознания – химера. Ибо то, что не имеет противоположной сущности, отсутствует во всей Вселенной.
– Где ты нахватался этой мистики?
– Там, куда ты меня отдал тренировать двадцать лет назад.
– Но там этого не было.
– Тогда там было другое. Была синтаиская философия, и ты не был против.
– Она лучше дисциплинировала мальчиков, чем секции самбо в «Динамо».
– Ну вот, а теперь подготовка единоборцев строится на иной основе.
– Основе мистики?
– Отец, если мистика поможет выжить, в том числе твоему сыну, почему ты против?
– Да я не против, просто понять не могу.
– А зачем тебе понимать. Ведь ты не можешь понять, как бегает ток по проводам, а электричеством пользуешься.
– Ну ладно, мне не хочется, чтобы ты вдруг стал шаманом.
– Если это поможет мне выжить, пусть я буду шаманом.
– Нет, что-то во мне протестует против этого. Мой сын и вдруг шаман.
– У тебя старые представления о шаманстве.
– А у тебя новые?
– Да, шаман – это человек, который может делать то, чего не могут другие.
– Ты мне еще расскажи анекдот о чукчах.
– Пожалуйста. Чукча сидит на суке дерева и пилит его. Идет геолог. «Грохнешься», – говорит он чукче. – «Да посел ты», – чукча отвечает и продолжает пилить. Надпиленный сук трещит и ломается. Чукча падает. «Однако, шаман», – говорит он, поднимаясь с земли.
– Ну и зачем ты мне все это рассказал?
– Чтобы проиллюстрировать сказанное ранее.
– А оно нуждается в иллюстрации?
– Да, ведь мы, по сути, говорим на разных языках. А рассказал я тебе это потому, что геолог видит причинные связи, а чукча нет. И считает его шаманом, хотя он всего лишь знающий человек. После того как ты дал мне дважды липовые документы и вооружил знаниями, я – геолог, а они все – чукчи.
– Да, ловко у тебя это получается.
– Школа хорошая.
– Остряк, хотя кураж перед заданием и во время его выполнения вещь неплохая. Если он способствует решению задачи и выживанию исполнителя, другое дело, если это некая нервная реакция на…







