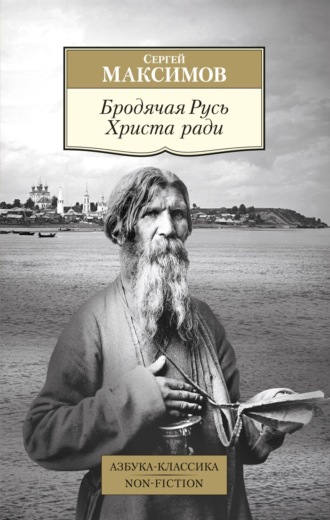
Сергей Васильевич Максимов
Бродячая Русь Христа ради
Глава III
Белеясь на горе, стоит каменная церковь в бедном селе, лаская издали приветливым красивым видом, но поражает вблизи всеми неблагоприятно сложившимися обстоятельствами для выгодного положения ее, именно на этой красивой горе и в этой, пожалуй, даже и густонаселенной местности. Давно запущенная, долго стоявшая без починки в нашем северном лесном краю, обильном снегом и дождями, обездоленном дороговизной железа и камня, приходская церковь обрешетилась крышей, лишилась значительной связи в куполах, сводах и полах. Деревянные рамы сгнили так, что и гвозди не держатся, и дует немилосердно в холодные зимы, потому что число вывалившихся кирпичей и на окнах, и на углах, и всюду даже сосчитать невозможно. Засырел и почернел не только иконостас, но облупились и святые иконы; в зимние стужи намерзают священнические руки до такой степени, что с трудом сдерживают потир на великом выходе. Про деревянные церкви уже и говорить нечего.
Вот тот укор на прихожанах, непрестанная боль в сердце причта, которые еще виднее выделяются из толпы доброхотных радетелей церкви. На них останавливаются мысли и желания настоятелей.
– Зайди-ка ко мне, о больно важном и нужном деле мне с тобою, Божий человек, поговорить надо по душе и в настоящую.
Светленький домик священника, который во всяком русском селе уверенно и успешно рассчитывает на то, чтобы выделиться из крестьянских изб и походить на городской дом, гостеприимно приглашал болезного человека за этот палисадник с сиренями и рябинами, на это крытое крыльцо и в чистый зал батюшки, увешанный картинками духовного содержания и портретами архиереев, из которых один находился даже в отдаленном родстве с владельцем этого зала и этого дома.
Священник ждал. Вошедшего приветливо принял, осенил большим крестом и дал поцеловать ему загрубелую на полевых работах и сильно загорелую руку. Велел сесть на плетеный камышовый стул с прямой и высокой спинкой, и когда вошедший неладно уселся на самом кончике его, священник удовлетворился.
– Посягаешь ли?
Вошедший не сразу понял и глядел безответно.
– Согласен ли принять послушание и ревновать о Божьем храме, где тебя крестили, где за упокоение душ родителей твоих возносятся молитвы и об утолении собственных грехов твоих приносится бескровная жертва?
– Это вы насчет того, ваше благословение, чтобы идти мне за сбором?
– Поревнуй! Прошу я тебя за себя и за весь приход. Никому не соблюсти церковного даяния лучше тебя. Благоприятнее было бы именно избрать тебя и поручить нарочито святое дело это.
– Не привычное мне дело просить, ваше благословение, сумею ли?
– Время покажет.
– Куда пойду и где сбирать буду?
– Господь управит стопы твои.
– Без денег-то не двинешься с места, чем питаться буду в дороге-то?
– Святые апостолы как ходили? Колосья пшеничные срывали по пути и ели, а во всю землю изыде вещание их и в концы вселенные глаголы их. Господь тебя пропитает.
У батюшки на текстах язык был перебит, и хотя последние слова выговорил он едва уловимой и удобопонятной скороговоркой, слушатель его понял и глубоко вздохнул и на умелых словах человека, которому он привык вполне верить и в котором приучился глубоко уважать сан, умилился сердцем до прямого ответа на согласие.
– Послезавтра я, ваше благословение, хоть и в дорогу готов.
– Одобряю.
– Пойду по деревне, попрощаюсь со всеми: пусть простят, кому досадил, – большое дело-то.
– Намерение твое похваляю. Теперь надо испросить благословение владыки.
Священник продолжал дальше:
– Приуготовься одеждою, облекись и иди в путь твой твердо. Мирское даяние найдет тебя, Господь тебя взыщет. Я вот съезжу в консисторию, выправлю книжку, с ней никто не дерзнет обижать тебя во все время пути твоего.
Священник вынул из киота принесенный из церкви маленький образ того праздника, которому посвящен главный престол. Благословил он им своего гостя и надел образ на веревочке на шею; снабдил даже и готовым блюдечком. Осталось теперь действительно немногое, именно: попрощаться, что и сделал новоставленный путник, обойдя все избы в селе, прося у всех отпущения грехов и милости – не помнить зла и лиха. Вместе, на одной лошадке, отправились они со священником в губернский город в консисторию.
Во святые ворота, украшенные наверху большим образом, с подвешенным к нему на толстой веревке фонарем с толстой восковой свечкой, вошли путники в ограду старинного монастыря, где «архиерейские покои» ярко отделялись от братских келий светлыми окнами, парадным крыльцом, по лестнице которого разостлан был старательно выколоченный ковер. Священник потолковал с заспанным монахом, попавшимся навстречу, о том, как попасть к владыке: по тому ли идти крыльцу, где лежит ковер, и благоприятно ли время для принятия у него благословения и изложения просьбы? Вызван был архиерейский келейник, удовлетворен был с почтением дачей двух двугривенных, и путники введены были задним крыльцом в длинный коридор с большими окнами налево, с маленькими направо, в переднюю, а оттуда в обширный приемный зал. Полы были паркетные; на них положен был ковер еще лучше и наряднее; в углу стояла старинная изразцовая печь; по стенам висели портреты бывших архиереев: прежних – писанные масляными красками, ближайших по времени – фотографические. Чистота убранства остановила и священника, и его провожатого у самой притолоки при входе и пригвоздила их тут. Владыко долго не выходил. Старик-священник имел довольно времени успокоиться, прийти в себя, оправиться еще раз, поднявши повыше пояс подрясника и огладивши обеими руками волоса на голове и бороде. Победил он в себе робость до такой степени, что имел смелость, указывая товарищу на портрет одного архиерея, в сущности очень похожего на других (такая же борода, клобук, панагия, много орденов на груди, и в руках книга), заметить шепотом:
– Епископ Самуил. Рукополагал меня, недостойного. Редкий был владыко.
В воображении старика зароились воспоминания, и все разом: грубые пинки сильного протодьякона в шею и по плечам, когда нужно было кланяться архиерею, и в бока, когда нужно было идти в ту или другую сторону; и поддьяконы, которые потребовали угощения после посвящения… Поют «аксиос»… Припомнился и сам Самуил. Приехал он неожиданным (любил ездить по захолустьям, по бедным приходам, без всякой свиты, с одним протодьяконом). Опрометью бежал новоставленный священник на звон с поля в рубахе; подрясник схватил с гвоздя дома, а рясу-то, что получил от тестя в приданое, полинялую и оборванную по подолу, но парадную, потому что была суконная ряса-то…
– Господи, куда угодить придется?!
Поберегая как единственную и последнюю, он вешал рясу в алтаре. А архиерей-от прошел прямо в церковь: не пробежишь мимо.
Так в подряснике одном и предстал и в землю повалился.
– Не громи, не сокрушай, владыко святый, яви милость, прости столь великую мою вину и злое деяние мое ради малых детей и великой моей бедности!
– Встань, – говорит, – радуюся, видя тебя на добром деле, снискивающим хлеб свой… угости-ка!
Нашлась водочка. Выпил владыко две рюмочки и мне велел. Покушал, что нашлось молочного да хлебного: яичницу ему из 40 яиц сам сделал. Певчую орду ублаготворил из сельского кабака целым ведром водки. Велели они напечь им в дорогу яиц – напек; да полопали всю сметану, да поели почти все запасы, которые заготовлены были на целый год, – и за щеку клали, и с собой набрали. Уехали наконец, слава Богу!
А вот и Евгений с большой бородой – резолюции на прошениях стихами писал; к семинаристам на рекреациях приезжал с пряниками. В лапту с ними играл и ставил такие свечи (так высоко прямо бросал мяч палкой), что никто не мог его лучше шибнуть. Не прочь был и от городков: подберет полы, снимет рясу и, как теперь вижу, колотит палками по городкам.
Вот Виталий с толстым лицом: служить не любил, певческий хор запустил, никуда не выезжал, мало кого принимал, по епархии не ездил, умер от водяной.
Владимир – певчих любил и служить любил, в дьяконах поощрял хорошую выходку. Сам из себя был такой сановитый, красивый, волоса каштановые, рясы голубые бархатные. Служил долго и торжественно; протодьякон у него что хотел, то и делал: большой был человек при архиерее и алчный. Нашему брату тяжело при их объездах было, ездили все по бойким и богатым местам. Проповеди любил Владимир сказывать и исторгал ими слезы, а когда напечатал их – в чтении были слабы: произносить умел. Едет когда из монастыря в город, по всем церквам звон идет – любил торжество и благолепие. Отъезжал в другую епархию – многие плакали по нему, а духовенство отшествию его радовалось.
Павел: ничего про него припомнить нельзя; отъехал в Сибирь, а на другой день въехал новый владыко, вот этот – очень похож на портрет.
Вот и он вживе сам – отворил дверь и остановился в дверях, на пороге.
Как увидел священник его, «правящего право слово истины», так тут же, где стоял, пал в землю. Сделав еще шаг, опять поклонился в ноги, и в третий раз также скоро, не поднимаясь и не поправляясь. Волоса все упали на лицо.
Слышится грозный голос:
– Поди сюда!
Дал владыко благословение. Поцеловал старец руку. Рука – архиерейская, настоящая: мягкая, пухлая, розовой водой пахнет. Стали перебирать эти руки янтарные четки, которые тихо и приятно шелестели. Стал он, выслушав просьбу, говорить:
– Твоя вина. Твое опущение. Небрег о храме. Не умел внедрить в сердца прихожан чувства благотворительности. Плохой пастырь. Не могу одобрить.
Горечь приступила к сердцу священника. Хотел говорить – язык не послушался.
Строгий, резкий голос опять послышался ему, а четки в руках владыки все играли.
Панагию на груди архиерей поправил и опять говорил:
– По приходам яйца собирать. Печеный хлеб телегами вывозить. У купцов сахар выкланивать попадьям на варенье – все на себя. А о доме Господнем нет рачения: и ста запустение на месте святе. Кем это сказано?
Перебрал ответчик в старческой памяти подходящий ответ на вопрос, не нашел, повалился опять в ноги: пощадите немощную старость, изношенную память.
Понравилось.
– Встань! Говорил ли поучения? Возлюби Господь благолепие дому своего.
– Творил все по силе моей! – удалось-таки выговорить священнику.
– По епархии в объезд поеду – поверю. А теперь полагаюсь на твою священническую совесть.
Обратился владыка к прошаку и его подозвал:
– Намерение твое похваляю: благую часть избрал. Помоги немотствующим, нерадивым и небрегущим.
При последних словах даже кивнул головой в сторону священника.
Сказал маленькое поучение и благословил вновь обоих, промолвив в заключение:
– Теперь ступайте с миром!
Чрез несколько дней священник наведался к секретарю: разрешение вышло. Да еще что-то понадобилось: повременить-де еще надо. Но старик был зверь травленый: он привез с собою мешочек крупы, сотню яиц, горшок топленого коровьего масла, бурак со своим медом. По дороге он заходил в городской винный погреб, где купил бутылку рому ямайского.
Те из продуктов, которые были послаще и подороже, пошли на потребу и усладу секретаря консистории. Яйца и несколько медных пятаков ушли на ту голодную братию, которая, небритая и неумытая и хорошо непроспавшаяся, стоит голодной ордой в передней консисторской комнате и в той, где скрипят перья и нехорошо пахнет и за которой находилась комната секретаря и присутствие.
Секретарь велел приходить, назначил время, приказал приводить и прошака с собой. Оба отправились в консисторию, пристроенную в монастырской стене, но разбитыми загрязненными окнами смотревшую наружу, на большую дорогу, на которой начинался дальний путь нашего странника. По обтертой и исшлепанной кирпичной лестнице поднялись они наверх, в консисторию: священник в сотый раз на своем горемычном веку после получения когда-то своей ставленой грамоты, мужичок в первый раз в жизни.
Свежего деревенского человека на первых порах поразило в передней непонятное дело. Несколько немытых и небритых ребят суетились около чего-то, которое то показывало между ними свою голову и плечи, то скрывалось из глаз. Суетня кончилась восторгом ребят и появлением в руке одного из них синего платка и в нем пирога, из которого сыпалась гречневая каша. Ребята быстро, с волчьей жадностью, разорвали на части пирог; синий платок исчез в кармане одного из них. Нечто оказалось священником либо дьяконом, быстро бросившимся из передней на лестницу и на улицу без палки и шапки: консисторские поспешили отобрать все, что могли. Недаром про присутствия эти такая слава.
Невольно передернулись плечи зрителя при виде всего этого, и заботливо сложились черты на лице, как бы в чаянии подвергнуться тому же испытанию и при готовности перенести его, если только за одним этим стоит дело. Ребята, однако, по-видимому, удовлетворились. Разорвавши и сглотавши пирог, разбрелись они в разные стороны.
Секретарь новоприбывшего священника велел позвать к себе прямо. Вызвал он и его товарища, дал ему наставление с указанием на то, что вручаемая книга – большая святыня; посоветовал завернуть ее в чистый лоскут и спрятать за пазуху; свел его в присутствие, выпросил ему благословение у присутствовавших членов и отпустил вместе с батюшкой. В прихожей ринулся и на них один молодец прямо грудью, но предварительно спросил о том, зачем приходили и о чем просили. Получив ответ и увидев сборную книгу, махнул рукой и отмахнул ею же другого товарища, выглянувшего из-за дверей отекшим лицом с тупым, но сластолюбивым взглядом.
Батюшка сказывал потом, что секретарю он сверх деревенских запасов дал немножко денег, объяснив при этом, что без подмазки-де и колесо скрипит и плохо вертится, пожалуй, того и гляди загорится. На постоялом дворе, где они ничего не потребили, а извозчики сытно и много ели, товарищи распрощались. Священник не только крепко благословил своего спутника, но крепко и горячо поцеловал его и даже прослезился.
Книжка выдана была на год и на разные губернии, даже на обе столицы: недаром батюшка похвастался своим приношением и говорил о несмазанных колесах.
Неловко было на первых порах в новой роли: как в ней и ноги переставлять и куда идти? Словно бы хомут какой на шею надели. Но эти впечатления только на первых порах – по пословице: «Первую песенку, зардевшись, спеть». Он и спел ее, лишь только очутился на первом базаре, спел, подражая тем прошакам-сборщикам, которых где-то прежде видел и когда-то слышал. «Порадейте, православные», – спелось в первый раз так ладно, что самому стало любо; и пригнуска откуда взялась, и вышло совсем наподобие того, как коростель-птица во ржи кричит. А главное: выкрик останавливал кое-кого из прохожих и не звучал на базаре напрасно: давали деньги, давали яйца, чайку дали. Так говорил и советовал батюшка: съестное дадут тебе на потребу твою; памятуй то, что два вас ходят: один живой человек, которому есть хочется, другой, и все ты же, это – который на церковь Божию сбирает. Так и люди разумеют; иной, пожалуй, и сам про то скажет.
Встречи с людьми подобного же занятия, встречи, неизбежные при первом выходе в бойкие торговые места и в людные селения, несомненно, отметят дорогу, выучат распознавать колеи и рытвины и отыскивать прямые и нахоженные тропы. Зависти, тайных недоброжелательств, подвохов и подкопов между подобного рода конкурентами не бывает; монахини ходят даже по трое, по четверо вместе. Бывает лишь то, что монахи смотрят на простых сборщиков свысока и стараются не смешиваться с ними в толпе; а во всем прочем у всех одна участь, одни испытания и широкая торная дорога во все стороны. Иди вперед, иди, сколько понесут ноги; там впереди – добро. Но его пока еще не видно.
Глава IV
Темные свинцовые тучи нависли на небе, и сыпался из них тот неустанный настойчивый дождь, который бывает только осенью, когда дорожный человек, обиженный им до последней нитки и раздраженный до отчаяния, не рассчитывает уже на то, что вот тучи перемежатся, и если не солнышко, то ветер посушит намокшее платье, а думает о том, как бы добраться до первого жилья и не у солнышка, а у родной матери – горячей печки просить помощи и защиты. И всегда в таких случаях, на пущую беду, вздумается это гораздо раньше, чем предстоит к тому возможность, и затем минуты удлиняются в часы, и одна верста кажется несравненно больше целого десятка их.
Каково чувствуется и думается нашему путнику, идущему пешком в то время, когда и обогнавшая его тройка с почтой едва выдирала ноги из расплывшейся грязи, встряхивая по временам колокольчиком? Налипшая глинистая грязь на лаптишки набрала в попутном лесу осыпавшейся листвы и еще крепче обессилила ноги, когда пришлось им выбираться с полевой тропы на худой чрез овраг мост, также залитый грязью и пригодный лишь к тому, чтобы околотить и очистить о перила его отяжелевшие ноги. Да и с очищенными ногами не лучше – на свежей глине, которая лоснится по тропе, как зеркало, ноги скользят и разъезжаются врозь, а в спине и плечах жгучая боль усиливает прежнюю, уже раньше нахоженную истому. Вот и деревушка виднеется, низенькая и черная, словно приниженная к земле тяжестью вылившегося воздушного моря – рукой бы до деревни подать, а дойди-ка! Вот налилась такая лужа, что обходить надо. На обходе бешеный ручеек вырвался из нее и покатил во всю шаловливую мочь, кажется, без конца; перепрыгнуть его не берет сила: ноги давно как свинцом налиты, а на той стороне залысилась колдобинка – поймаешь на ней леща и ребер не сосчитаешь.
– Ох, донеси, Господи! Только бы как на задворье попасть – вон и бани, знать.
Собаки не лают, и бродячей коровы не видать: все в затуле. Один странный человек в беззащитной обиде от осенней распутицы и ненастья. По деревне грязь еще вдвое гуще и невылазнее.
– Пустите Христа ради погреться.
Назяблый голос дрожит из простуженного горла и сиплым звуком врывается в первую избу на околице.
– Войди, добрый человек, тепла нам про тебя не жаль. Обсушись, обогрейся.
– Видно, велика твоя неволя – накось! – есть ли на тебе сухая нитка?
– Ты, дедушка, не мочи тут, дождя нам в избу не надо, а клади все свое на печь.
Сильно натопленная печь пышет таким жаром, что и вдали от нее чуется стариковым костям та отрадная теплынь, о которой за час тому и мечтать не смел наш странник, а теперь для него в ней единственное спасение и угрева.
Старик потянулся, поохал, лаптишки распустил, и слов нет, кроме одного: «Спаси вас Бог».
– С поштой сельской, что ли?
– Нет, родимые люди, со своей, с нуждой.
– Велика нужда, надо быть!
– Своя нужда небольшая. Велика нужда церковная – так бы надо говорить вам.
– Сбираешь? Со сборной, значит, памятью?
– Не сбирал еще, только вышел.
– Наш приход ты хоть и не пытай! Вовсе в нужде живем, в такой нужде, как вот и ты же теперь весь в воде сидишь. Что господа из Питера сошлют, тем и церковь наша жива. Поп лошадьми торгует, дьякон с гряд капусту продает: и возами, и сотнями – как кому; пчел водит, медком поторговывает. Дьячки… чем они живы, и само-то веденье наше сказать не сможет. И детвы у них на ту беду. И, Господи! Сенька-пономарь стал уже бабам гадать на псалтири. Как-то ее на ножницах прилаживает, разопрет ножницы, повесит и качает ее, псалтирь-то. А вскроет да прочитает по псалтири-то, ладно у него выходит. И предсказывает. Бабы ему – которая яиц, которая брусники…
– Есть у нас неподалечку Спас-Угол, село. Спас-от батюшка у них на сосне проявился. Много народу приходит болящего. Целение подает. Прежде чудеса делал; по деревням икону носят, и в нашем селе гостит когда. В селе том попам хорошо. Попадья намеднясь проехала, словно барыня, и шляпку городскую на голову надела. Все вот Спасы-то прошли – хорошо бы тебе у них на паперти постоять! Поп Мартын – мужик покладистый, слова бы тебе не сказал, пустил бы постоять.
Между тем на столе появилась большая деревянная чашка, каравай, солонка, жбан с квасом. Никто не приказывал, сама хозяйка молча слезла с палатей, молча прошла за перегородку, отворила заслонку, нащупала ухватом горшок, вынула, налила, поставила, поклонилась и остановилась у косяка, подгорюнившись.
– Садись-ка, добрый человек, отведай. Не ждали гостя – не паслись, а что есть.
– Берешь ли точивом-то? У меня холста новины кусочек остался; прими Христа ради.
– Отопри-ка сундук, вынь пятак, что сдачи на базаре дали. Отдай, баба, с новиной твоей вместе.
– Яичек на дорожку-то захвати. Дай-кось сюда кису-то твою, я тебе хлебушка положу в нее.
– Молочка бы ему принесла. Не хочешь ли? Яишенку ему состряпайте.
Затрещало сухое полено – лучину щеплют, затрещала лучинка – сковородка нагревается, налили масла, завизжало оно отчаянным визгом – яйца вылили. Стала яичница-верещага, глазунья, исправница тож, мать – покровительница странников на всяком месте и во всякое время. Придумал ее народ, спознавший нужду переселений и странствований, и за великую ее и неоценимую службу в качестве спорого и дешевого кушанья никогда и никому предложить ее не скупится: не купленая снедь, курочка напиталась, ходя кое-где по задворьям, на Божьем продовольствии и нанесла этих яичек.
– Вот, батюшка-странничек, покушай горяченького да сказывай, что видел, что слышал. Больно мы странных захожих людей любим: живем в лесу, молимся пню.
– Сказывает про чудеса Божьи бывалый человек, в голове словно что зашевелится, на сердце слаще меду станет. Помоги тебе Господи с нашей легкой руки!
– Назад пойдешь, сделай Божескую милость, яви свою любовь: не обходи двора нашего.
– Мы тебе за то, чем прикажешь.
Обогрелся странник и повеселел, не столько от теплой избы, жаркой печи и вкусной яичницы, сколько от ласковых слов, от первого спопутного привета.
– И в самом деле затеял ты, должно быть, хорошее дело, когда тебя все ласкают, а бабы даже завидуют тебе. Первый встречный лаской встретил – земская в том помощь неопытному новику. Как вышел, так и «Бог на помощь»! Теперь и путь-дорога – словно укатанная и несмелые ноги – точно смазаны, ходчее пойдут на неизвестное дело.
Думал прямо на волчье стадо попасть, а вышел прямо-таки на свет Божий, народ православный. Почин был страшен, а вот он каким задался. Про худую дорогу и про ненастье думать привычному трудовому деревенскому человеку в голову не приходит. Лихих людей велит опасаться житейский опыт, а они перед тобою и двери настежь. Теперь с легким сердцем и в мокрых лаптях можно путь править.
Опять дорога. Опять несмолкаемый, докучный дождь, бедовые тропы, лихие беды. И от собак не отмахаешься, и волчьего воя послушаешь, и лихой человек надсмеется.
– Монашеское ты дело выдумал, на полях-то у тебя в деревне не сами ли пироги-то растут? Эдакие-то ходили – исправник изымал, всех в острог посадил.
– Да ведь то греки, сказывали, – заступится болезный человек.
На брань озорного человека ответа нет. Один ответ, как учил батюшка, как сказывают в церкви по Евангелию, – молчание с кротким терпением в сердце и без упреков на поносителя. Не учить вышел, а как бы сторонкой, бочком, успеха ради пройти мимо этих строгих учителей. Иной сердце срывает от своих напастей домашних; другой подсмеивается от веселого нрава на бездельях: «Всем на здоровье!» Велика хитрость на первых порах воздержаться, а потом само собой дело скажет, что смиренному и приниженному просителю крепче верят и больше дают. Сегодня перетерпел, завтра не отгрызался, день за день и угомонилось кипучее сердце. Отмалчивание в привычку вошло, а привычка все переносит – так и сказано.
Другим вздумается кстати при встрече с прошаком порассказать друг другу про худые дела сборщиков, про утайку денег, про плутни, какими они выдумали обходить шнуровую книгу, и т. п., дурному человеку можно и урок взять, кое-чему выучиться, – благочестивый прошак наш, хотя понял, что этот разговор затеян на его счет и намечен ему прямо в глаз, погнушался в сердце худым делом и еще крепче утвердился в необходимости в чистоте и правде довести до конца свой подвиг и с крепостью выдержать все испытания.
– Сами более яйцами собираем, да разумен староста – измыслил продавать их после литургии, в церковном притворе. «Нет тебе у нас места!» – говорил священник спопутного села, у которого прошак попросил позволения постоять у выходных дверей.
– Я бы, батюшка, только ту крупицу взял, которая от старостиных сборов осталася.
– И крупица та подлежит алтарю. Если принес деньги в церковь – обетные то деньги. Не положил – значит в мечтаниях суетных мысли погружены были, не заметил просящего и забыл положить. В другой раз принесет. Не предуготовано тебе места в храме нашем – не торжище. Что Господь сотворил с таковыми во Храме Иерусалимском?
– Ну, спаси тебя Бог! Прости великодушно, я так попытал. Шел мимо, звон к утрени слышу, попытаюсь, мол. Прости меня, грешного: рассердил я тебя глупым спросом перед обедней-то.
Отмолился прошак зауряд со всеми; ни блюдечка, ни книжки не вынимал из-за пазухи. После обедни, чтобы вконец очистить совесть, одним из первых подошел он под благословение сердитого священника и опять попросил не памятовать огорчения и отпустить его с миром.
С тем разошлись и расстались оба.
– Мир ти, старче. На благое дело я скорый помощник. Не оставайся празден во храме нашем, возьми от изволящего на нужду вашего храма. Ступай за нашим старостой, когда пойдет он за сбором. У нас тут за ним вдова-дьяконица Иоанна Предтечи на блюде для сбора носит. Ступай за ней и собери даяния, – говорил прошаку второй священник в другом месте. – Не мне устранять, – продолжал он, – чтобы ты во зло не употребил религиозный обет и пожертвования христиан. Совесть твоя пред лицом Всевидящего ока, да благословит тебя Оно.
Прошак приформился: туго середь груди опоясался запасным новеньким кушаком, надел кожаные личные сапоги, книжку сборную обернул лоскутком тафтички с нашитым мишурным крестом. Лысая голова его во время обедни, когда прошуркала приспущенная сверху лампадка перед пением «Причастна», беспрестанно кланялась, словно плавала среди голов, смазанных до лоску топленым маслом и наполнявших церковь до последнего нельзя. Новому человеку охотно подавали, не разбирая того: на колокол ли он просит, на неугасимую ли лампаду, на построение ли нового храма или починку старого; а может быть, где-нибудь проявились новые мощи – так на раку либо на покрывало.
Не обходил прошак на пути и монастырей, которые нет-нет да и выбелеют в лесу на богатом приволье, при всяких угодьях, в стороне от большого тракта, но на своем хорошо проторенном и всему краю известном. В монастырях настоятели на благословения не скупятся, памятуя, что нет из них ни одного, из которого бы не вышло на Святую Русь монаха с послушанием «сборной памяти».
Попадая на праздники, обставляемые всегда большими сходами и съездами народа, прошак становился в целом ряду других, ему подобных. Успевал он собирать и на больших, длинных и широких монастырских крытых и расписных переходах, и у часовен, выстроенных у св. колодцев или на местах, прославленных местным угодником: здесь «он лапотки плел и продавал прохожим и тиим удовлялся», тут «благословенную им просфору прохожий человек уронил, собака хотела есть, но огонь, исшедший из просфоры, опалил собаку»; в третьем месте угодник утомился до кровавого поту от сердечной молитвы – и явилась ему Матерь Божия с апостолами. После церковных служб толпы богомольцев обязательно посещают эти места: в колодцах пьют воду, в других купаются, умиляются духом и с умягченным сердцем щедры на милость, подают не только на подставленные блюдечки, но бросают деньги на дно самих источников. В непраздничные дни в монастырях известных и уважаемых всегда находятся молельщики, и всегда с подаянием. Нет лучше монастырей на эти доброхотные дачи, ввиду того что приезжает люд разночинный, преимущественно купечество, а не одна только заплатанная сермяга, сама живущая на медные деньги. К тому же монастыри сумели с древнейших времен обзавестись большими ярмарками, из которых, как известно, самые богатые не имеют иного происхождения, кроме подобного схода на молитву к св. месту, а потом, кстати, и для обмена залишков на недостающее и крепко нужное (все эти Коренные, Макарьевские, Нижегородские, Крестовские, Ильинские и т. п. ярмарки).
На ярмарке хорошо прошакам по рядам, по трактирам ходить; тут купец подает по воле и поневоле: либо от барыша, либо на барыш.
– Прими Христа ради! – говорит вслух.
«Может, копейка-то эта взыграет рублем!» – думает про себя и в начале ярмарки не решается отвечать прошакам сухим поклоном и не говорит: «Не прогневайся!»
Ярмарками сборщики подаяний на церкви заручаются всего вернее и щедрее; тут даже и науки никакой не надо и сноровки не требуется.
– Прими Христа ради!
По ярмаркам прошаки гудят как шмели, наладив напев в октаву и толкаясь в одно время в различных местах без разбору: и там, где пробуют лошадей среди плутов-барышников, вооруженных кнутами, – на конной; и там, где туземная мещанская голь приладила обжорный ряд и кормит ярмарочных гостей вареным горохом, вареным судаком, из жесткого полена превращенным в нечто податливое на зубы и съедобное, и поит можжевеловым квасом.
Не ходят прошаки лишь в те места, где засела нищая братия над своими тарелочками. Затем ничем уже не стесняются: и в красных рядах ходят, и в людных притонах кланяются и купцу бородатому, и барину усатому. На ярмарках самые просьбы их высказываются резче и грубее, самые поклоны короче, пение посмелее – точно они тут главные хозяева.
В самом деле, невозможно вообразить себе ни ярмарки, ни торга, ни даже базара, где бы не было этих лысых и смиренных стариков.
В летнее время, в жаркие дни, лысым головам прошаков большие испытания.
– Голова болит, как свинцом налитая.
Впрочем, в эти времена прошак около сел и лесных монастырей не держится, а старается выбрести в ближний большой город, из которого хотя и выбирается жертвователь вон, за город, но народу живет все еще так много, что подставлять лысую голову под солнечный припек небезвыгодно.
– Вот подвезу! – кричит лихой почтовой ямщик с обратной тройкой. – Привезу я тебя в такое-то место, где всего тебя золотом обсыплют.
Привез баловень-шутник на почтовую станцию, одиноко поставленную середь поля или на проталине в глухом лесу, нарочно для нее вырубленной, именно потому, что от предыдущей станции до нее двадцать с небольшим верст, а не тридцать.
– Присядь, дедушка, на телегу-то, – предлагает дальше по пути проезжий мужичок, сваливший кладь в указанном ему месте и едущий назад порожним. – Мне очень по душе, как экого человека довезти приводится, садись!
Присядет он и сам в ту же пустую телегу и с простодушием, с откровенностью и готовностью сумеет подсказать, где по соседству можно на сбор надеяться, где базар, где ярмарочка, где чудотворная икона, где новый колокол подымают, и народ соберется туда непременно во множестве, и на богатых тароватых купцов укажет охотно.







