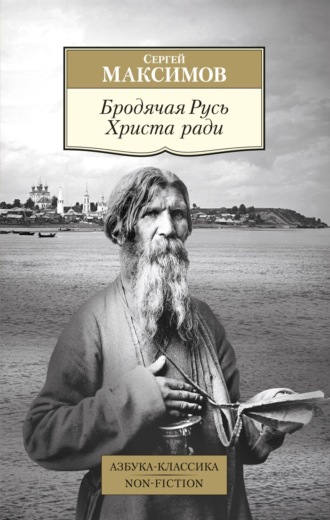
Сергей Васильевич Максимов
Бродячая Русь Христа ради
– Ребяткам этим хорошие деньги платят: рублей по сорока в год. Большим работникам выделяют больше 50 руб. Ряда, впрочем, по успеху. Он уж так и смотрит, кто больше выпрашивает, тому больше выделяет, меньше сбирает – больше 30 руб. не даст. Сам он редко выходит, а охотливей поверяет вечером работников своих. Всего его обшарит, всего прощупает, разденет донага, наизнанку выворотит и опять постукает да посмотрит. Этого работники не скрывают – жалуются здесь на это самое.
– А как выделяют церквам, на которые просят? Надо спросить в полицейском управлении – там-то и дело пишут: «Взыскать с такого-то 40 руб., добрать на таком-то 60». Один целых сто рублей не донес. Редкий из них полнотой-то доносит. Только одни богатые этого побаиваются: им своя честь дорога. И на это у нас, по таким их делам, такое слово есть: подкубрить – значит совсем надуть.
– А как на них смотрят соседи? Могу смело сказать: нехорошо. Горела раз ихняя слободка. В наших городах на эти несчастные случаи бывает большая суматоха и беда, если ночью случится. Наши все от мала до велика спасать бегут. Бегут, спрашивают: кто горит? «Кубраки», – говорят. «А, кубраки!..»
– Да с этими словами кто рукой махнул и тише пошел, а кто и назад вернулся. Очень-то не спешили. А на другом пожаре, надо сказать, один некубрацкий дом уцелел, когда кругом все кубрацкие дома сгорели. Сам я слышал, как все потом говорили: «Вот милость Божья на праведного, гнев его на грешников».
Большого почтения и похвалы им от нас нет: не за что. Даже евреи их попрекают и осуждают, а у них один сказ: так отцы наши делали.
– Зачем кубраку грамота? – продолжал отвечать на мои вопросы руководитель мой. – Хозяину одному она в пользу: надо уметь прочитать, что запишут, счеты писать. Хозяев много грамотных. Простому кубраку грамота, могу сказать, враг. У этакого прямой ответ при учете: затем я подаяние и не записал, потому что грамоте не разумею. Поди ищи с такого!
Надо их изводить, надо их изводить. А как их изведешь? Пробовал на них ходить войной один хороший исправник (покойный Ив. Ив. М–ч), да они сами ему сказывали: «Не советуем – нас-де много, ты, мол, один. Пустимся хлопотать – все по-нашему будет. По белу свету ходим не спуста – друзей наживаем». Один тут ему, покойнику, и побасеночку такую так-то ловко подвернул (бойкие они у нас все, и на язык вострее людей не найти): «Был, – говорит, – у нас городничий, и не так чтобы очень давно. Пришел к нему еврей. Он его ударил в висок и положил на месте. Испугался его высокородие. Смотрит в окно, а мы по улице ходим с товарищами, как бы-то надо сказать – во свидетелях. Выслал солдата – меня зовет. Пришел: вижу тепленького – лежит. Вижу живого – хуже савана, холодней мертвого. „Экое, – говорю, – горе“. А лежит он, ваше высокородие, надо быть, в обмороке. „Да“, – говорит. „Понимаю, – говорю я, – ваше положение: на наших глазах человек умереть может“. – „Нехорошо, – говорит он, – это для меня“. Слушаю, мол, и понимаю, завтра поутру свидетели будут: случился удар – помер; сами видели вот так, как теперь окно это самое видим. Поездил я по деревням – сейчас нашел, что обещал и что было надо. Вот какова наша кубрацкая сила!» Надо бы говорить «совесть», потому что вот он и ложную присягу не прочь принять…
Главная, впрочем, сила кубраков заключается в следующем.
По сведениям могилевской консистории, 51 человек, ходившие с книжками в 1865 году, собрали 7969 руб. 83 коп., то есть каждый принес по 156 руб. 27 коп. 42 человека, собиравшие в 1866 году, доставили консистории 10 512 руб. 83 3/4 коп., то есть принесли каждый еще больше (по 250 руб. 30 коп.) – велик соблазн!
Отходя от этих цифр, можно судить о полном сборе кубраками денег, и едва ли во многом ошибаются ближние их соседи, полагающие приблизительно, что каждый кубрак выхаживает в год до тысячи рублей. Вот и опять соблазн, едва ли одолимый при весьма многих и сильных поощрениях!
Равным образом все уверены (и доказывают множеством наглядных примеров) в том, что легкое и неправедное стяжание не идет им впрок: они не делаются богатыми, сшибаются на вине и загульном пьянстве, столь обычном явлении в белорусской жизни и в белорусской стране, заставленной шинками с ловким продавцом и подносчиком. Хозяйства их запущены. Прежде занимались они землепашеством, теперь совсем бросили. Замотавшись и навязавши на себя петель, они, как в беличьем колесе, от пропитых на кубрачестве денег опять лезут за добычей средств тем единственным им ведомым путем сбора подаяний: обманом и задержкой про себя тех сумм, которые даны на церковь; мало того, для многих самые сборные книжки сделались источником спекуляций, особенно с тех пор, как в последнее время начали затруднять и суживать кубрацкие пути к наживе. Книжки, выправленные счастливыми, стали своего рода выигрышными билетами с большой премией, когда получателями принесены были из могилевского банка на мстиславскую биржу. Вместе с книжкой начали покупать еще право, сверх оплаты предварительных издержек, возмещая последние щедрой рукой (как спекулировали продажей на охотников поддельных книжек, то есть прошнурованных, но в исходящий журнал не записанных).
Из этого можно судить, насколько и в самом деле прибылен промысел и сколько группируется данных для того, чтобы все промышленники сбились в тесный круг, в своего рода общество или артель, где все должны играть в одну руку и вставать друг за друга плотной стеной. Общественное недовольство с некоторым оттенком нескрываемого презрения к ним и их ремеслу еще больше сплачивает их между собой и объединяет в известного рода силу, борьба с которой представляет уже некоторые трудности и препятствия.
– Если не выдавать им вовсе книжек, – толкуют местные ревнители правды, – то бедность церквей и настоятельные нужды (не для роскошного, а для приличного только вида) всегда вызовут надобность в помощи таких людей, которые были бы посредниками между нуждающимся и готовым помочь. Форма готова – зачем ходить далеко? Наймешь охотливого и умелого, выправишь ему книжку сам, чтобы избавить его от излишних расходов и на церковь получить больше, – и пошлешь. Все же что-нибудь и принесут – принесут, несомненно, а и что-нибудь, ввиду нужд заветшалых деревянных церквей наших, много значит.
– Однако посланники эти, – возражали мы, – ходят с такими вредными товарищами, каковы: обман и своекорыстие…
– Некоторые, говорят, про всякий случай запасаются монашеским платьем (поддерживали и подкрепляли нас). Один в Петербурге сказывался монахом с Афона из монастыря, который погорел, и 60 братий осталось в одних рубахах. Случился наш мстиславский при этом, узнал в монахе кубрака и уличил его.
– У них в слободке и сейчас можно встретить такого, у которого очень круглая борода выросла (в наших местах такие редко попадаются); указывают на него, что он-де и ризу надевал, и молебны певал, где это требовалось, и тому веровалось. Но все это слухи, требующие подкрепления.
Тем не менее лучших слухов, хороших рассказов про них не слышно, а все такие возмутительные – про плутни и вранье, в которых можно утешаться лишь одним, что они топорного, грубого дела и нехитрого вымысла: сметливый и толковый может сейчас догадаться.
На меня, на ловца этих сведений, набежал зверь сам без привады, явившись (по возвращении моем в Петербург из восточной половины Белоруссии, как раз на второй день) с блюдечком, книжкой и рассказом о несчастном городе, в котором-де сгорело 12 церквей.
– Какой же этот несчастный город?
– Мстиславль.
– Да там, кажется, и всего-то семь церквей – я там был.
– Не вы ли это с Иваном-то Ивановичем на Девьем Городке были?
Вот и знакомый даже, который нисколько, однако, не сконфузился и, признавшись таковым, не торопясь повернулся и направился к двери, не пожелал даже и подаяния.
Как теперь помню его чугунное, отекшее лицо с красными и ясными, так называемыми «чертами из жизни» на носу, – не пьяный, но с крепкого похмелья и последствиями его, не позволявшими, стоя к нему близко, с ним разговаривать.
Это ли достойные звания и чести адвокаты за церковную нужду и представители такого подвига, который на Руси считается святым? Неужели нет иных способов заменить их, этих паломников, отживших свой век и переродившихся из овцы в волка? Неужели наш век, облегчивший пути сообщения и сокративший дороги для пешего хождения, не даст иных средств на замену древнерусских? Несомненно, главным образом то, что добрая доля причин, поддерживающих кубрачество, все-таки заключается в неграмотности деревенского люда и в предрассудочности городских жителей – словом, основывается на тех подпорах, которые достались от предков, сильно подгнили и готовы рухнуть при первом решительном и смелом натиске.
Не выходя из того же Мстиславля, в котором две сотни кубраков в сотню лет не только не построили каменных церквей, но и не зачинили четырех наличных деревянных, – мы находим определенный ответ на вопросы.
В 12 верстах от этого Мстилавля лежит давний Пустынский Успенский мужской монастырь, два столетия находившийся во владении монахов униатского базилианского ордена. По соединении униатов монастырь заветшал и близился к совершенному упразднению: собственных средств вовсе не имел, расчет на бедный народ был плохой! «Православного русского купечества, которое отличается усердием к храмам Божиим, совсем нет; все рынки, все оборотные капиталы страны, все более доходные оброчные статьи, все промышленное и торговое движение края в руках евреев, которые, привившись к православному русскому туземному населению, имеют в виду одне свои выгоды, и где помещики-поляки, которые хотя и благоговеют к находящейся в этом монастыре святыне, но по нерасположению своему к православной вере не оказывают поддержки существованию обители».
Стоило явиться в монастыре догадливому, энергичному архимандриту, стоило ему попасть на одно из современных средств распространения известий посредством печатного слова через газеты – и монастырь узнать нельзя. Я видел кругом его огромную, в окружности на целую версту, каменную ограду, каменный двухэтажный братский корпус, каменные службы, две деревянные, на каменном фундаменте гостиницы, большую каменную, крытую железом церковь, большое двухэтажное каменное здание, также с церковью посередине; переделывалась третья церковь. Работы эти все были начаты лишь в 1863 году, и, смотря на результаты их, нельзя не дивиться значительным капиталам, собранным в столь короткое время.
По адрес-календерю знакомился настоятель с именами богатых русских купцов и посылал им письма. Получив приношение, он спешил отправлять жертвователям литографированную икону Пустынской Богоматери. Присыл денег усилился. На эти деньги из монастыря стали отправлять книжки: монастырскими тюками завалена бывает мстиславская почтовая контора. В нескольких десятках тысяч разлетелось оттуда печатное «Извещение» (которое лежит теперь перед нами и из которого мы выбрали несколько строк, помещенных выше в кавычках).
Извещение давало отчет жертвователям о произведенных работах, о неоконченных, необходимых и предполагаемых, а между тем денежные присылы на имя «Анатолия с братиею» не иссякают.
Нужно ли прибавлять еще что-нибудь ко всему сказанному?
Тем не менее на днях я встретил опять кубрака, по обыкновению в заветном мундире – в синем русском армяке с большим отложным воротником. Певучая речь, искусственный, испещренный словесами от Писания разговор, резкое «г» да смягченный звук «ы» в «и» его выдает. Впрочем, по последним приметам, это, может быть, не кубрак, а лаборь (одного дела слуги, но не одного поля ягоды в буквальном смысле этого слова, то есть один белорус, другой малоросс). По черным волосам можно отличить второго от белокурого первого. Поле, взрастившее кубрака, лежит на северо-востоке Белоруссии, близ границ Белой Руси с Великою; место родины выходца лаборя на юго-западе Белоруссии, близ ее границ с Малороссией в Гродненской губернии Кобринского уезда, главным образом местечко Янов. Как белорусский Мстиславль заразил примером Дубровну, так и малороссийский Янов увлек примером деревню Мотоль (того же уезда), из которой также выходят лабори, но меньше и реже.
Глава III
Лаборь – тот же кубрак. Мудрено найти различие между ними, зато сходных черт не оберешься. Сначала – о первых, потом о вторых.
Источник происхождения слова «кубрак», вероятно, завалилось где-нибудь в архивах; слово «лаборь» любят производить от латинского labor («труд, трудник»), хотя у малороссов название это превратилось в «лобырь» и местами просто в «лодырь», что по-великорусски уже совсем нехорошо, а впрочем, очень пригодно, потому что лодырем зовут человека, который в одно и то же время и шатун, и плут (см. словарь Даля).
Может быть, в цветущие времена Польши, столь искусившейся в знании латыни, народилось это слово для отличия людей этого рода, – мудреного в том нет уже и потому, что с давних времен в Польше jus patronatus – право подаяния – давалось только известным церквам по выбору и по протекции, в расчете на благотворительность православных русских. Так, в 1510 г. это право получила королева Елена Ивановна на Троицкий монастырь в Вильне; в 1522 году Федько Хрептович получил его на Лаврентьевский монастырь. О том же просил Василий Михайлович Сангушко для церкви Св. Василия во Владимире-Волынском. Связь и зависимость лаборства от панства была свежа и ясна, даже в последнее время. Промысел этот ими поощрялся как их собственная доходная и оброчная статья.
Известно, что при недавнем расчете с крепостным правом в Северо-Западном крае оказалось громадное большинство батраков и бобылей, то есть тех несчастных, которые обезземелены, и при них – значительное число владельцев, пользовавшихся доходами с тех самых земель, которые, несомненно, могли принадлежать лишь крестьянам, только их кровавым продолжительным и настойчивым трудом могли быть отвоеваны у девственных лесов, отбиты у непролазных болот, а в Полесье даже и от воды – те острова и оазисы, которые стали потом пахотными полями. Не только у мелких, но и у крупных владельцев велся обычай отнимать суму у нищего посредством отрезков земель на самого пана многоразличными способами. Между последними наичаще практиковался простой сгон с земли осиротевшей семьи в том случае, когда умерший отец оставлял вдову и малолетних.
Первая пускалась на произвол судьбы в чине и звании бобылки, а малолетки отдавались в другие семьи и жили весь век свой на чужой земле под именем примаков и батраков. Всякий повод не упускался из виду, всякая случайность была на руку для тех, которые силились увеличить объем своих владений, не жалея мужика. Конечно, чем хуже была земля, тем случаи эти были чаще, поводы разнообразнее, способы обезземеления безжалостнее, поползновения настойчивее.
В Янове и Мотоле земля песчаная и неблагодарная; всякий выделенный кусок – лакомый кус. Захотел последовать примеру соседей – ступай, сделай милость, на все четыре стороны.
Земля между тем прирезывалась ко владельческой, переставала считаться и быть крестьянской.
При таком выгодном промысле можно и оброк наложить высший – выдержат, можно и книжку выхлопотать. Не удастся в консистории – попа заставляли выдавать не фальшивую, но незаконную. Многие были уличены в том и отданы под суд (у иных еще и до сих пор дела эти не кончены), да об этом католические паны мало думали и православных мало жалели. Отсюда все православные яновцы – лабори, отсюда с древнейших времен ни у одного из них не бывало больше 2–3 десятин земли (на двор). Всю эту землю обрабатывали у них наемные рабочие, которым платилось гораздо больше, чем пан помещик налагал на самого лаборя оброку.
Яновский лаборь так уже себя и понимает, что быть ему безысходно прошаком и скитальцем, а потому и пускает в дело другой прием, новый. Когда прознает про церковную нужду и сдержит это известие в тайне про себя, он идет к священнику той бедной церкви и сам навязывается с услугами, бесцеремонно торгуется; не отказывает в денежном задатке, не останавливается на обещании выдела из заработков тому, кто укажет для него путь и снабдит правом.
Таким образом, кубрак – мещанин, лаборь – крестьянин, и в списке фамилий с юго- и западнорусским оттенком бо́льшая часть показанных нами (выше) в крестьянах – выходцы из Янова или Мотоля[7]. Впрочем, они чаще шатаются по ближайшим местностям: в Минске, Гродне, Вильне, забираются в Жмудь и собирают по всей Ковенской губернии, не обходя и хат католиков. В этих случаях сборщикам на православные церкви по самому ходу дела приходится подражать кубракам – прибегать поневоле к ложным россказням, к хитростям и бесхитростным обманам и надувательствам. Простаков и на таких немудреных хитрецов в тех глухих странах – непочатый лес. Лаборь должен лишь уметь говорить по-польски, а затем он уже сумеет наврать, что пришел из далекого Рима, от самого наисвятейшего Папежа, для сбора на новый костел, который будет выше и больше всех на свете.
Сумеет лаборь и поторговать священными предметами в виде наичаще встречающихся у католиков штофиков, в которых бывает заключен маленький, из фольги алтарик. Не задумываются яновские лабори принимать на себя вид ксендзов, одеваясь в белые комешки (рубашки костельные) и служа суппликации. Где надо и того требуется, лаборь не откажется и поколдовать – отробыть зробленное (то есть отчурать заколдованное, изгнать из дому нечистую силу), полечить святой водой или частицей животворящего древа. Слыхали многие, как они уверяют простаков: «Знаем, что у Бога на небе делается, нам это все открыто».
Одни лабори[8] надували баб тем, что выдавали себя за лекарей головных болей. Когда приходили больные, один яновец снимал с бабьих голов наметки (длинные куски холста), другой прибирал их в мешок. К головам простоволосых и простоплетеных баб прикладывался потом кусок какого-то дерева под видом животворящего, а к рукам лаборей прибавлялся еще новый предмет на обмин и продажу в соседство к тем, которые пожертвованы на церковь и которыми лабори, подобно кубракам, также торгуют и продают, не доходя до родного Мотоля или Янова. Приходят же домой всегда два раза, также к Пасхе и к Петровкам; в первом случае для Великодня, во втором – по той причине, что в летнюю пору поживиться нечем – все на полях, и все без денег: нечего и не у кого уже попросить. Зато летом Янов тем и отличается, что, когда везде происходят изнурительные полевые работы, в нем царствуют разгул и веселье. Лабори на этот случай ухитрились даже обзавестись своим оркестром, у яновцев и капельмейстер свой – Адам Фрак по имени.
Другие выдавали себя за апостолов и советовали крестьянину Брестского уезда Гоголюку служить Богу пророчеством и учить людей покаянию, обещая им в случае непослушания несчастие, именно: смертельную болезнь сначала на любимых животных – свиней, потом на необходимых – коров, а наконец, и на самих людей. На кладбище под новым крестом указали и то место, где избранный пророк мог найти грамоту на посланничество. Доверчивый хохол отдал им все свое денежное имущество, а остальной скарб они сумели ночью выкрасть сами и скрылись. Обманутый уверовал в слово их до умопомешательства: бросил хозяйство, стал бродить по деревням, всех проклинал…
Третьи под видом ксендзов из Рима, врачующих болезни, выманили в Виленской губернии у старухи-польки, страдавшей неизлечимой болезнью, больше тысячи рублей для нового костела в Риме, но попались: вернувшийся домой сын старухи поймал лаборей и предал суду.
Четвертые… впрочем, нужно ли приводить новые случаи обманов и следить за всеми проделками лаборей? Довольно сказать: двуличность и здесь, как у кубраков, идет рядом с наружным благочестием. И эти волки в овечьей шкуре умеют класть большие кресты с заброской с плеча на плечо и с вывертом при переносе руки ото лба к животу.
Тот же автор, о котором я упомянул и к которому обращался за справкой, говорит: «Религиозность яновцев и приверженность их к своей приходской церкви достойны замечания. Редкий из них позволит себе во время путешествия говеть, исповедоваться и причащаться где-либо на стороне. Напротив того, всякий считает своей священной обязанностью возвратиться к этому времени домой и исполнить свой христианский долг на родине, в своей приходской церкви. В заутрени и обедни, если яновцы дома, церковь всегда бывает переполнена народом. Даже в будни, если есть богослужение, народа в церкви бывает очень много. Церковным празднествам яновцы стараются придать всевозможную торжественность. Во время пасхальной заутрени они устраивают вокруг церкви костры, плошки и, приготовив множество факелов из смоленых канатов, сопутствуют с ними крестному ходу. Сорокоусты и поминовение усопших родственников составляют у яновцев священные времена. В поминальные дни родственники и знакомые считают своим непременным долгом помолиться за усопшего на обедне и почтить память его поминальной трапезой. Такая трапеза устрояется в том доме, где жил усопший» и т. д.
Вот пока результат сношений с великороссами и посещения России, очень резко, впрочем, выделяющийся в среде народа северо-западной полосы России, где повсюду церковь заменяет в воскресенье шинок.
– Кто это поехал? – спрашивал тот же автор крестьянина-подводчика.
– Лаборь.
– А как же ты узнал его?
– Бо шапка с козырьком, – отвечал мужичок.
Итак, еще приобретение, по кубрацкому примеру, и с присоединением полушубка с ременным кушаком и сапогов с длинными голенищами вместо неизменных и повсюдных белорусских каверзней и лаптей.
Нельзя упустить также и того обстоятельства, что лаборская изба – уже не хата: в ней настлан дощатый пол и в углу поставлена печка с трубой. Словом, лаборская изба не курная с копотью, а белая, и притом такая, где все стены, словно в староверской молельне, увешаны образами. Но по причине близкого соседства католических стран святитель Николай висит с Антонием Падуанским – любимым святым всего края; с иконой новгородского Знамения Богоматери – св. Розалия с пламенеющим сердцем и т. п.
– Неужели и только? – спросит читатель.
– Поищем еще, но предупреждаем вперед, что иных приобретений уже очень немного.
Выделяется простое, но характерное для того края отличие: лаборь учтив и льстив, при встрече снимает шапку и кланяется. Вместо убивающей всякого свежего человека замкнутости туземца лаборь словоохотлив и, как бывалец и проходимец, предусмотрителен и осторожен: сразу узнает, с кем говорит и имеет дело и как надо говорить. Говорит он витиеватым языком, отборными словами – «речь проникнута своего рода диалектикою и, во всяком случае, скромна и умна. Все лабори, в силу закона своего происхождения, конечно, говорят по-русски, но, так же как и кубраки, два языка знают»[9]. Добросовестно в этом случае, по крайней мере, то, что они в сознании нечистоты своего промысла принуждены прибегнуть, подобно столичным мазурикам и всероссийским офеням, под покров ширм, не особенно благовидных, но по временам пригодных и местами удобоприменимых.
Жены кубраков и лаборей, за отсутствием мужей обязанные исполнять их должность по ведению хозяйства, превратились в бойких и расторопных баб. Они резко отличаются от своих землячек, именно более подвижным умом и находчивостью и той очень характерной в крае особенностью, что всякая крестьянка там только продает (да и того сделать толково не умеет), а яновская крестьянка и продаст, и купит.
Если эти оба мастера, под разными именами играющие в одну руку, и успели совсем обменять тяжелый земледельческий и ремесленный труд на легкий и веселый промысел, то тем не менее они сумели и выделиться среди своих соседей. Маленькие хозяйства свои они ведут в чистоте, порядке и с приметными удобствами. На дворе у них чисто, в избах светло и опрятно. Перед иконами по-купечески горят лампадки, столы всегда накрыты белыми и чистыми скатертями, везде прибрано, подметено и подскоблено, как бы для приема большого начальства или какого-нибудь дорогого гостя и как бы в намеренный контраст с другими – некубраками и нелаборями. Как в избе, так и на дворе и на гумне. В этом отношении они очень напоминают степенных, скопивших копейку торговых мужиков Великой России и уже не сохраняют за собой никаких черт одноплеменных с ними белорусов или малороссов. Шатание по белу свету и по чужим людям сделало свое дело – совершило наружное превращение.
Кубрак и лаборь, на простоте и доверчивости набожного народа укрепившие свой промысел, поддерживают его и в то время, когда последовали ограничения, запрещения и тому подобные препятствия.
Имеется распоряжение, чтобы «выдачу сборных книг по возможности ограничить и строго придерживаться существующих постановлений. Производство сборов в С.-Петербурге для церквей прочих епархий разрешать не более ста лицам, и притом тем, которым выданы книги от их епархиальных начальств, руководствуясь в этом случае правилом, для заграничных сборщиков постановленным, то есть дозволять сбор тогда только, когда нормальное число их неполно или по выбытии кого-либо из получивших таковое дозволение».
Местные епархиальные начальства (могилевское и гродненское) сделали также своего рода распоряжения в видах устранения всяких злоупотреблений религиозными обетами и пожертвованиями христиан. Так, между прочим, «не выдают книг без предварительного заявления о нуждах известной церкви местного благочинного, если же окажется, что какая-либо церковь действительно нуждается в починке или перестройке, то выдают книгу только прихожанину той церкви, на которую имеет быть производим сбор, за надлежащим посвидетельствованием местной полиции о благонадежности и добросовестности сборщика».
Обычай, унаследованный от древних паломников и низведенный в новейшие времена до промысла офеней, таким образом, теперь надломлен. Но он все еще живет и действует, энергически хватаясь за разломанные доски и разорванные снасти разбитой ладьи.
В бытовом море многообразной русской народной жизни мы видим, таким образом, одно крушение, но зато перед нами выплывают новые лодки с другими пловцами. Всмотримся и в них и что увидим – расскажем сейчас.
Эти встречные пловцы и ходоки по всему лицу земли русской – подлинные, без обмана.







