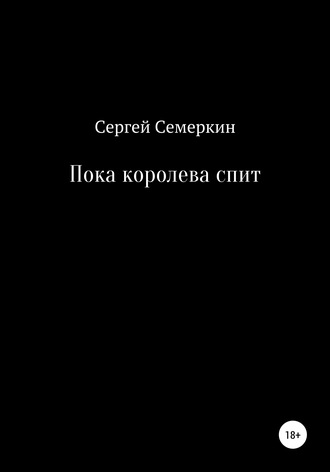
Сергей Владимирович Семеркин
Пока королева спит
Магистр
Вот он – взобрался по верёвке на колокольню, оглянулся, посмотрел мне прямо в глаза, раскачал язык Векового колокола и ударил в него… Бом-м-м! Давно я так не орал и так тяжело не вырывался из липкого кошмара. Моё лицо лизала Блонди, пытающаяся спасти хозяина. Я погладил овчарку.
– Всё хорошо, Блонди, уже всё прошло… всё хорошо… – она обрадовалась тому, что хозяин пришёл в себя, и завиляла хвостом.
– Ну, пойдём, погуляем… – и я сделал то, что никогда не делал, зашёл с овчаркой к якобы своим любимым кошкам. Как радовалась Блонди, гоняя их по залу, и как трусливо прыснули сиамские бестии по закоулкам дворца…
На шахматной доске я заметил, что королева сделала очередной ход в нашей партии. Если отбросить всё невозможное, то останется всего один вариант – она управляла кошками, чтобы передвигать фигуры. Вот ведь ведьма! А если сжечь суку… Возможен бунт. От голода люди будут пухнуть, но не начнут революцию, отключи им телевизоры – и это перенесут. Но если сжечь труп королевы, то вот тогда начнётся бессмысленная и беспощадная резня… Что за народ мне достался? Была бы у него одна шея, так бы и задушил!
Видимо, я так истово выражал свой гнев, что прибежавший смотритель кошек, бросился от меня, сверкая лопатками под камзолом…
Не верю в совпадения. Если ночью снится кошмар, и я вижу того, кто ударит в колокола, а днём глава контрразведки приводит ко мне того самого убийцу, что ловко продырявил моего двойника… нет, мы многого не знаем про Вселенную. Таких совпадений не бывает! И я заплатил полную меру за ликвидацию человечка, чей портрет нарисовал с моих слов придворный художник.
Рука убийцы взяла деньги и взяла рисунок. А мне как-то легче стало дышать… Лица под капюшоном было не видно, но один рыжий локон всё же выбился на свет…
Королева
К нам присоединилась Майя, теперь четверка обрела себя. Мы стали целым, сохранив индивидуальность. Но… Зачем вам знать подробности о сне какой-то там королевы и всех её гостей? Уж лучше я расскажу о реальности, то есть о том, что происходило с Боцманом. К нему уже спешила Марта…
– Ваша величество, а кто она такая и какое место занимает в плане вашего пробуждения? – спросила Эльза про Марту, за которой мы наблюдали.
– Она самая большая наша врагиня.
– А почему она помогает… (Эльза долго не могла обозвать своего супруга как-нибудь нейтрально) …ему? – глаза молодой мамаши давно были на мокром месте.
– Потому что ей так хочется. Понимаешь, по большому счёту ей по барабану: разбудят меня или нет, но до моего пробуждения она творила некоторые дела, требующие моего постоянного сна, ибо я не буду закрывать на них глаза наяву, и в силу этого она вроде как не на нашей стороне. Более того, она именно этим своим равнодушием и определяет себя глубоко в лагерь наших противников. Если бы она нам мешала – она бы нам помогала и наоборот. Ей же все равно и теперь Боцман может погибнуть, а может опоздать ударить в колокол, а может… короче говоря, варианты его возможного будущего стали занимать много места и мне их теперь очень трудно просчитывать. Наших совместных усилий может не хватить для того, чтобы направить его на путь… (я не люблю слово "истинный") на путь ко мне.
– Может, тогда помочь ему там? – Эльза всхлипнула.
– Тебе пора кормить ребенка. Боцман и Марта там, где должны быть, и мы им помешать быть там не можем, как они не могут помешать нам, – я обняла её. – Эльза, для тебя сейчас главное это детёныш! Как думаешь назвать?
– Не знаю… – она разревелась и от этого проснулась.
– Помогите ей! – приказала я, и тут же Александра с Майей отправились догонять Эльзу.
Ползунки
Но недолго мы радовались победе над шершнями. К нам пришёл страх в образе лопотуньи. Точнее она была похоже на лопотунью, она лопотала с нашим лопотуном как настоящая лопотунья и даже боролась с ним на ритуальном подиуме, но это была не лопотунья, она светилась не так. От страха мы все забились в гнездо и дрожали, сбившись в кучу. Выставили жала ко входу и дрожали. А ещё мы вдруг вспомнили, что эта лопотунья-не-лопотунья ужасно похоже на ту, что обучала нас, то есть на Огненную. Тогда становилось непонятно, кто есть кто и когда кто кем был, от этого страх наш бурел и множился. И стало ещё безнадежнее…
Лишь Шим смог выбраться и даже напал на страшилище. Этого никто не видел – он сам потом рассказал. Но не лопотунья отмахнулась от его жала своим и… нам было жалко ставшего безжальным Шима. Он долго болел, но остался в тонком мире, хотя некоторые из нас были готовы посмотреть в его глаза последний раз. Слава Облакам, он выздоровел и не лопотунья покинула пещеру нашего лопотуна. Иначе нам пришлось бы бросить это хорошее для гнезда место. Первый раз после её ухода мы немного опасались включать Волшебную сказку – а вдруг она где-то спряталась и только этого и ждёт? Боязно. Но всё-таки включили. И волшебная сказка сняла тревоги.
А потом к нам прилетел Вдрук – а это та ещё оса, путешествующая из прошлого в будущее и обратно – и начал нас лупить. И орал при экзекуции: «Проснитесь осы! Вы что, так и не поняли – это ваше коллективное бессознательное!» Я защищал Инну, да и она тоже выставила жала и не давала себя просто так лупить… не сразу Вдрук успокоился и улетел в своё место обитание, бросив нам слово «осы» с обидной интонацией… а он сам разве не оса?
Боцман
Оказывается, у лени тоже есть свои преимущества – ночью на лагерь напал отряд… бродячих муравьев – а это не серая гвардия, с которой можно и на мечах пофехтовать и арбалетами постреляться, – муравьи снесут любой строй и любое укрепление, они только огня боятся. Но не будешь же ты поджигать свой дом родной с припасами и вещами ради уничтожения одной колонны муравьишек? Вот и в этот раз муравьям дали поживиться частью провианта, а на утро люди уже могли вернуться в свои палатки, шалаши, землянки – мелкая опасность пошла дальше. Мы же никаких муравьев не видели, даже во снах.
– Нам надо расстаться, – Мартушка сообщила это с бухты-барахты, то есть после утренних водных процедур.
– Ты покидаешь меня, чтобы присоединиться к другим моим женам-любовницам, знаю-знаю… – я стал уже к этому привыкать.
– Нет. Ты отправишься на поиски своей сестры.
– С какой стати?
– Потому что так надо… – сказала она точь-в-точь как в свое время часто говорила Майя (которой как бы нет, но мы это ещё проверим).
Есть время разбрасывать камни, есть – медитировать, есть – собирать себя после медитации, а есть – лопать мёд. Короче, всему своё время. Для меня в данный момент наступило время падать на землю большим, ярко-красным кленовым листом, чуть подъеденным гусеницей, с оптимистично торчащим черенком. Падал я медленно по левосторонней спирали, впрочем, левосторонняя она или правосторонняя – зависит от вашего положения, вот для Марты она была левосторонней, а я таких мелочей вовсе не замечал. Когда ты полностью отдался одной силе, пусть это даже банальная сила земного притяжения или по-другому гравитационная сила (относится к слабым взаимодействиям), то на твоё движение будет ещё накладываться трение о воздух, порывы ветра могут тебя закружить в другую сторону или унести в даль или разорвать на части. А есть ещё и свет, что падает на тебя почти незаметно, но если ты успокоишься, то поймёшь – и он давит на тебя, пусть совсем незаметно, но давит. А снизу кузнечик стрекочет, предупреждая: здесь моя территория и кленовые листы должны запрашивать разрешения на посадку. Наивный. У меня есть зелёной пятно – остаток былой роскоши, а значит и право садится туда, куда я хочу, но только не на муравейник и не на нору крота – эти области для меня недоступны – они только для двупятнышковых листков. Опять же чья-нибудь рука или лапа может подхватить меня на лету и не пустить к кузнечику (он-то будет рад, но это уже произвол), а также засунуть между листами, но очень дальними родственниками – белыми, гладкими и правильной геометрической формы, явно они творения тех же рук, что поймали меня в плен. И эти дальние мои родственники сожмут меня со всех сторон и станет трудно дышать… Тогда я буду сохнуть от тоски по ветру, по силе притяжения к земле, по обществу кузнечика и даже по норке крота, в которую я никогда не попаду. И вот я стану похож на своих белых братьев, но не потеряю как они свою первоначальную форму – о нет, они этого не дождутся! Я всё равно буду красным кленовым листом, пусть и высохшим, пусть и не таким ярким как в молодости. Но руки могут меня и не поймать, могут дождаться моего окончательного падения и вот тогда подло ударить сучковатой веткой, пробить мой бок и отшвырнуть в короткий и жалкий полёт в канаву или в другое плохое для листьев место, таким образом руки насмехаются над нами, они мстят нам за их неумение летать. Зависть их сильна и многие мои сородичи пострадали от завистников-пакостников, но так и не утолили непомерной жестокости рук. Но самое страшное для листа – это лежать на земле и видеть, как на тебя падает уголёк, светящийся хищным красным светом, светящийся уголёк на носу тупоголовой бело-оранжевой ракеты, она умеет сама искать цель – легковоспламеняющийся лист клена. Уголек будет корежить внутренности и добьется своего – я запылаю праведным огнём, и обреку на смерть от него своих братьев – я не хочу этого, но по-другому не получится. Мы все сгорим от этой ракеты, запущенной коварными руками – это их самое мощное оружие и они это знают – быстро удаляются и не оглядываются на последствия своих безумств. Их не достанешь нашим совместным костром. А бывает ещё, что кто-то кричит издалека, кричит что-то знакомое, но зачем же отвлекать этим долгим и рокочущим: "Б-о-о-о-цм-а-а-а-н!!!" Так, вроде, звали меня, когда я ещё не был даже листом, я был почкой, позитивной весенней почкой, потенциалом хлорофилла, будущим преобразователем энергии в материю, кудесником пространства-времени. Зачем эти руки меня трясут? Опять руки, они не дают спокойно даже лежать на приятно холодной земле. Вот садюги! Они добились своего – я перестал быть образцовым кленовым листом, падающим со своего родимого дерева.
– Ты чего? – спросила почему-то бледная Марта.
– Ты похожа на лист, но у тебя мало прожилок – это плохой признак, тебя может сорвать даже слабый ветер…
– Хватит бредить! Поднимайся с холодной земли, а то я тебя ногой ударю.
– А рукой?
– Рукой уже била, всю ладонь отбила! – сообщила она.
Вроде, эти слова вполне прилично на мелодию ложатся: била, била и отбила!
– Ты… это… песню напиши и посвяти мне – вот.
– Вставай!!!
– Всегда готов, – я поднялся с земли, на которую совсем не помню, как опустился.
Есть пути и есть дороги, мы выбираем путь и идём по нему дорогой дальнею, краями нехожеными, через буераки, завалы, овраги, бедламы, джунгли, топи, болота, пески, барханы, речки и речушки, а также селевые потоки, лавины, обвалы, смерчи, тайфуны, торнадо, вихри. А я шёл по обычной пыльной дороге на восток (это был даже не наезженный тракт). Где-то далеко-далеко впереди, может быть, ждала меня Мур… А скорее всего, совсем не ждала, а вероятнее всего зовут её уже совсем не так, а как-нибудь по правильному: Сестра в просветлении, Подруга дней моих медитативных, Дружбан по психо-кармическому тренингу, Дочь чистых чакр великого учителя Ухо-Горло-Носа, Весталка девятьсот девяносто девятого воплощения Бога или ещё как-то позаковыристее. Я надеюсь, что хоть говорит она на нашем языке, а не сразу читает мысли, а потом прямо мне под черепушку запускает свои ответные мыслепослания – я не выдержу долгого вторжения в свою голову – напьюсь до чёртиков или до белочек. С таким грузом мыслей я и шёл на восток, ладно ещё песни не пел, а ведь мог затянуть: "Боцманскую порнографическую", "Гимн старых дев" или совсем уж неприличную: "Девственницы-мазохистки в терновнике".
Пыль дорожная почти как вода: познакомился с одной пылинкой и уже вроде как на "ты" с песчаной бурей – так можно рассуждать в кабинете или перетирать подобные пустые слова между солёными сухариками в пивной. А когда пылишь не первую версту по дороге, которая когда-то должна уткнуться в море и напиться из него, а потом свернуться клубком возле него, чтобы уже никуда не вести (или превратится в пунктир морского пути), сразу ей нажираешься и надышиваешься так, чтобы уж о пыли или молчать или ничего не говорить – ты же с ней слился, чего зря базарить?
Сорока лупоглазилась на меня лупоглазилась и застрекотала: мол, идёт по лесу человек и в ус не дует, судя по всему существо для птиц и прочей мелкоты летающей и не способной это делать, безобидное, ибо не похоже, чтобы он мог что-то быстро кинуть и с ветки сшибить. На раззяву тоже не похож, и ничего съедобное или хотя бы блестящее у него не стырить, не объегорить его и на мякине не провести. Обмануть, конечно, можно, но для этого надо превратиться в младую девицу или в двух для надёжности.
Зверьё к пустобрёшке прислушивалось и делало выводы. Лишь муравьи не обращали на стрекот сороки внимания – у них есть другие дела. Кто хвою тащил, кто гусеницу, кто атаковал непрошеного гостя – жука в муравейнике. А раззява он же мимо идёт, чего на него усики обращать?
Снег да снег кругом и под нами снег и над нами он!
Слепил комок, и кинул сильно, да не попал – слеплю ещё.
А сила есть и ум тут нужен, чтобы траекторию свести.
Крути башкой, чтоб не попала, ответка быстрая в тебя.
А коль достанут – что ж на то и снег, чтоб им кидаться.
Видоизмененная вода, кристаллы, соты, твердый наст, и даже лёд прозрачный синий
тут не заметишь даже кручи, той, что сорвётся невзначай, тогда катись на попе быстро.
Смешно тебе – так от души. Не оторваться бы, не сбиться
с тобою выбранного пути.
Ах, как же так, слепые руки, тебя вдруг кинули в овраг, он тут давно, а ты – недавно
так что ругаться будешь там, куда ещё ты не доехал. А тут – тихая благодать.
Что сопли лезут в нос и шарф не греет, какой уж шарф, оставлен он, на безымянном кустике колючем.
Сцепился с ним в полете вниз, он и вырвал свою добычу. Согреется чай им.
Тебе бы чая? ну конечно! сначала лыжи ты обуй, преодолей простора ширь, дойди до цели
и быть может, подруга дней твоих суровых уж ждёт тебя с кипящей чая чашкой, а лучше с чем-нибудь покрепче.
Согрелся? ну так не зазря же женщины на свете есть!
Шут
Клоун висел на дереве, над которым висела радуга, точнее в которое упирался один из её концов. Это было бы смешно, если бы клоун держался за веревку чем-нибудь другим, а не своей шеей. Я поначалу хотел его снять, но когда прижался щекой к ярко-красной штанине, почувствовал проникновение…
«Рассказ мёртвого клоуна»
Алый. Тёплый алый цвет, он к тому же ещё и добрый. Сквозь веки я смотрю на солнце и вбираю в себя тепло алого, он облизывает меня, как большой и шершавый язык любимого пса. С этого всё и началось – я начал смеяться над теплотой, над алостью, над добротой. А больше я ничего вокруг не видел, лишь их. Они во всём. С тех пор я смеюсь над болью и обидой, над голодом и нуждой, ведь и они алые и добрые, добрые и тёплые, тёплые и алые. С таким пороком я мог стать только клоуном, и я им стал. Красный нос, улыбка до ушей, рыжие патлы торчком во все стороны, яркий костюм и ботинки необъятных размеров – всё это было, но не это заставляло всех смеяться надо мной. Антураж нужен только для первого броска в глаза зрителя. Потом толпа -а люди быстро сбиваются в толпы – превращалась в одного сверх-общего-человека, который только и делал, что слушал мой смех во все уши-глаза-нос-кожу. Я упирался руками в поясницу, выставлял свой живот, как беременный барабан, и хохотал, хохотал просто так. Потому что я хотел смеяться. Это было мое внутреннее качество, как вкус арбуза всегда есть в арбузе, даже в гнилом или недозрелом. И почти все люди вокруг смеялись, будучи детьми или взрослыми, служащими или солдатами, рабочими или снобами. Но смеялись всё-таки не все, некоторые клоуны не смеялись, они завидовали. Я отбивал у них хлеб и амбиции. Они не собирали денег там, где выступал я. И они меня сдали серой страже. Намекнули, мол, я – революционер и всё такое. Я даже не знаю что такое революция, но, наверное, и над ней можно посмеяться. Эти подробности я узнал позже, и посмеялся над ними уже здесь. И уж конечно, я смеялся, когда меня арестовали, когда читали приговор, когда тащили на эшафот (сам я идти не мог – уж больно смешно они корячились вокруг меня), когда палач щекотал мою шею веревкой, когда табуретка вылетела из-под ног…
Алый вновь вернулся ко мне. В последний раз.
Я дернулся и оторвался от тела мёртвого клоуна. Солнце светило мне в глаза, я закрыл их. Да, Алый был здесь. Я не снял клоуна с верёвки, ведь он не один гуляет по зелёным холмам и ему не требуется моя помощь. Радуга здесь, а мухи почему-то рядом с повешенным не роятся.
Собрат по смеху напомнил мне один разговор с отцом…
– А знаешь ли ты, какие на свете есть грехи? – спросил меня папаня как-то раз.
– Нет, – я точно не знал, лишь слышал разные версии от разных людей, а отвечать абы как отцу не хотел.
– Многие расходятся во мнении по этому вопросу. У одних грехов десять, у других больше или меньше. Но это – чушь и провокации, а также маразм и профанация. Грехов у человека может быть всего два: уныние и страх. Но они самые коварные, потому что кажутся несущественными.
– А как же ненависть, зависть…
– Не продолжай! – прервал меня он. – Я же говорил про людские грехи. Одна обезьяна может завидовать другой, у которой банан больше и желтее. Опять же иногда у животного возникает желание ради секса с самкой трахнуть соперника чем-нибудь тяжёлым по голове так, чтобы он не поднялся больше. И собственная важность вперемешку с гордостью может застилать глаза: мол, ты самая сильная обезьяна в стаде, самая мудрая, самая красивая и так далее. Хотя я не специалист по обезьянам – может быть, я на них возвожу напраслину. Сын, я же тебе перечислил набор людских грехов. Уныние и страх – эта парочка хорошо маскируется и её трудно вытравить из себя, но некоторым удается. И ещё: не критикуй никого и ничего. Ведь за критикой почти всегда скрывается зависть: он может, а ты нет. А за завистью скрывается страх: он сейчас может и может хорошо, а ты, быть может, уже никогда не сможешь даже плохо. Вот видишь, мы опять пришли к одному из двух грехов. На счёт того, что за страхом скрывается уныние… не знаю. Я до сих пор их разделяю. Истина, наверняка, находится на дне вот этого бочонка медовухи. Медовуха… – он причмокнул. – Какое сладкое слово!
Отец зачерпнул медовухи и выпил. А я выпил немного мудрости – тогда мне это не помогало – я был самонадеян и делил мир на чёрное и белое, уж я-то знал, кого надо ударить дубинкой, а кого – нет. Я был настоящей обезьяной средней волосатости. А отец у меня был крутой в лучшем смысле этого слова, но понял я это очень много съеденной малины спустя.
И мама вошла в мою голову через прокрутку воспоминаний. Мама. Я возводил карточный домик и уже почти достроил его из двух колод, как одна из нижних карт дрогнула – мой труд рухнул. Это мама слишком громко молилась и одна мысль, отлетев от неё в поисках Бога, свалила мою карту. Тогда я на это обиделся. Это было ещё до того, как я начал разговаривать с растениями во второй раз…
А однажды на день рождения я подарил ей розу без шипов. Я загодя посадил красную розу и уговаривал её не растопыривать шипов, я обещал защиту от опасностей мира. Она поверила и выросла без шипов. А мама после этого случая стала выращивать кактусы…
Я нёс ей эликсир долгой жизни, но опоздал. Когда я пришёл, она уже была не здесь и не сейчас. И только записка на столе: "Ты никогда не станешь волшебником, стань хоть порядочным куском сам знаешь чего". Я знал, мама никогда не ругалась. А дерьмо она считала бесценным продуктом не за его свойство удобрять землю для кактусов, а за то, что дерьмо не имеет цены. Я выпил эликсир сам и, ставя флакончик на стол, заметил мелкую верёвочку (тогда я ещё невнимательно относился к окружающему и разделял вещи на крупные и мелкие). Но это была не просто верёвочка, это был чёрно-белый пассик, который мама часто теребила в руках как четки без зерен. Только теперь он стал серым. И я понял причину: его разорвали и, повернув, соединили, чёрное слилось с белым и две поверхности пассика превратились в одну. Пассик никогда больше не покидал моего запястья… но я подарю его первому встречному, если ему будет нужен простой серый пассик. Хотите, он будет ваш?..







