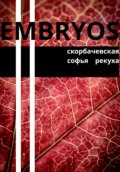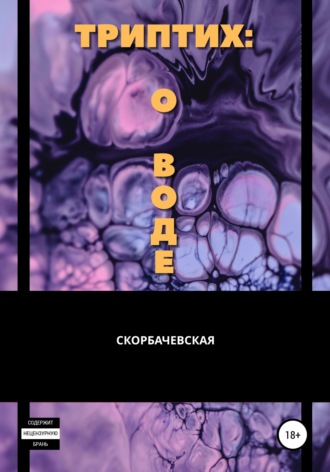
Скорбачевская
Триптих: о воде
Водка
Тело воспринимается тяжелым мешком с костями, которым трудно передвигать. Ходячий полуфабрикат, недавно размороженный. Морозильный иней еще сверкает на коже, но постепенно туша возвращается в первоначальное состояние убитого животного. Вот только прежним этот полуфабрикат никогда не будет – он уже полуфабрикат.
Еле хватает сил закрыть входную дверь на ключ и дойти до кухни. Слабо светит лампа, окна плотно закрыты. Ее рука крепко сжимает край столешницы, голова опущена. Она стоит будто подстреленная и подвешенная.
«Она снова пьет».
Лениво обегаю ее взглядом, глазницы чешутся, и я больше не сдерживаюсь.
– Ира?.. – зову свою пантеру, нуждаясь в помощи. Но она не смеет мне помогать, ласкать, утешать. Губы предательски дрожат: теперь мне по-человечески хочется стать слабым.
– Что с Глебом? – хрипит жена, пряча лицо под черными паучьими лапками. Я вижу только ее подбородок.
Подхожу ближе.
– Ир… – мой голос срывается на дрожащее блеяние, – они не спасли его.
Я произнес это вслух, теперь уже не отвертеться. Тупая тишина душит нас обоих, снова интуиция предвещает что-то страшное.
Она шумно выдыхает, тянется к бутылке и наливает половину стакана. Похоже на воду, но это не вода. Это моя жена, и я ее прекрасно знаю.
– Если бы не твоя беспечность и сучья натура, наш ребенок был бы жив, – заводит монотонную, травящую мозг речь. – Если бы не ты, придурок, у моего сына не было бы перелома позвоночника.
Женщина выпрямляется, и я вижу родное лицо, ожидая долгожданных эмоций, но ничего нет. Красная помада окрасила кривые зубы, немного размазалась от водки. Она продолжает говорить такие чудовищные слова, при этом не повышая голос ни на тон:
– Если бы не твоя вытраханная до дыр память, ты бы оставил их дома и сохранил бы нашим детям жизнь.
Я сжимаюсь от ее черствого голоса, но какая-то импульсивная дьявольщина выскакивает наружу:
– Вот только твой ребенок жив, а мой… – запинаюсь, теряя всю уверенность. Выдыхаю, захлебываясь в накатывающей панике, но пути назад уже нет, —…мой ребенок…
Я не в силах продолжать. Мозг ломается изо всех сил, только бы защитить меня.
– Ты снова делишь их на «мой» и «твой»?! – орет жена, швырнув в меня колющий взгляд, пробирающийся сквозь паучьи лапки. Страх пробегается ежиком по спине. – Даже сейчас, когда вопрос касается жизни и смерти?! Урод.
Ира обзывает меня так… по-настоящему. С таким неприкрытым отвращением, что мне хочется расплакаться, но вместо этого сознание окутывает всеобъемлющий страх и почему-то волна страсти. Плохой страсти – ведь я знаю, что сейчас будет.
– Встал на колени, – она диктует, выпивая еще один стакан водки залпом. – Быстро.
Не смею произносить ни слова против.
– Мне стыдно признавать, что ты мой муж.
Ира заводит красивую, но неприятную речь таким гипнотическим голосом, что мои колени дрожат. Я знаю этот голос. Она наливает полный стакан водки. Зажмуриваюсь.
– Ты разочаровал меня.
Жена присаживается на корточки и резко плещет мне в лицо спирт. Я испуганно выдыхаю, дернувшись, и чувствую ее ладони.
– Умойся, – злобно шепчет, растирая по моему лицу водку. – Смой с себя причастность. Хотя бы символично смой.
Она дает пощечину, и моя голова покорно отмахивается в сторону. Потом в другую. Я задыхаюсь, мне жарко… Щеки раскалены.
– Встань, посмешище, – пренебрежительно говорит Ира, дергая меня за рукав вверх.
Поднимаюсь с колен, ноги трясутся. Дыхание сбито, а глаза открывать боюсь.
– Пожалуйста…
– Что ты мямлишь?! – гаркает жена, и слышится звон удара по стеклу.
– Ира, пожалуйста.
Я снимаю мокрую футболку и дышу через рот. Снова на грудь выплескивается водка, и капли текут вниз, забегая под ремень. Нос щекочет терпкий запах спирта, знакомый… Почему-то вспоминается… Мне было шесть, температура под сорок, бабушка остервенело растирает всего меня водкой. А я горю, как подожженный… как сейчас.
Ира стремительно подходит ближе, кладет обе руки мне на плечи и со всей силы, скопив всю свою обиду, ненависть и удовольствие, врезает мне острым коленом в пах.
Я корчусь. Электрический хвостик мгновенно пробегает от мозга до таза, и я тону в облегчении.
***
Сменив трусы, Степан укрывается на балконе. Садится в мохнатый стул, уже ослабевшими пальцами выуживает из пачки сигарету и тянет в рот.
– Я ж, вроде, бросил курить…– вслух замечает он и чиркает зажигалкой. Затягивается и погружается в успокоение. – Надеюсь, ты там и не судишь меня.
Мужчина смотрит в небо, искренне веря, что его сын сейчас наверху. Он ангел. Он его маленький ангелок, который ни в чем не виноват. Степан вспоминает его щечки, невинный смех и плутовские глаза, когда он что-то затевает. Глеб был замечательным нежным ребенком, заслуживающим более хорошего отца, чем имел.
– Я не хотел, солнышко…
От дыма глаза слезятся и краснеют. Это только от дыма.
– Клянусь, я не хотел так… – Мужчина плотно сжимает зубы и растирает один глаз кулаком.
«Вадим».
Степан застывает на секундочку, и его тут же застилает жгучий стыдливый румянец. Все горло, грудина горят, будто он наглотался острого перца.
Одновременно по телу растекается такое сосущее, обволакивающее чувство. Гадкое и вялое, оно что-то шепчет. Мужчину словно втягивает внутрь себя пузырь с мутной водой – он не слышит ничего, кроме своих мыслей, выцеживающих последние жизненные силы. В этой холодной мутной воде он как бы сжимается в бронированную цисту и замирает, переживая неблагоприятные условия внешней среды.
Но этот процесс духовного разорения настолько сладкий, вялотекущий и манящий, что Степан где-то на островке сознания чувствует блаженную негу.
«Умойся».
– Хм!.. – хмыкает мужчина, рвано потроша сигарету между пальцев. Он чешет волосы, раздраженно одергивает руку. Шепчет в никуда, готовый кричать от ненависти к своей слезливости. – Я так больше не могу…
И не смог.