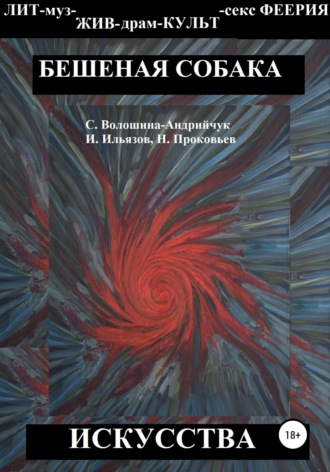
Светлана Сергеевна Волошина-Андрийчук
Бешеная собака искусства
Акт III


Композиции Искана № 1 (inFR flag Pat 65×81); № 106 (Vivi Pier 60×40)
Сцена 3. Мастерская. Мур Руж
Она. Крик петуха, скрип двери, лай собаки, которые может поразительно искусно воспроизвести скрипка, никогда не будут признаны произведениями искусства. Произведение искусства лежит «по ту сторону» сознания и с утратой влечения к нему бесследно исчезает.
Лай стихает
Он. Опять Кандинский?
Она. Да. А тебе что, надоело?
Он. (молчит, сосредоточенно рассматривает этикетку на емкость с Fairy) Fairy просрочен. Но кисти мыть можно (взбалтывает Fairy).
Она. Может быть, и я тебе надоела? И живопись, и картины?
Он. Никогда (вновь взбалтывает).
Она. Я понимаю, точка принадлежит к узкому кругу привычных явлений, голос её тусклый и робкий. (Мечтательно и задорно) Тем не менее, точка, вырванная из своего привычного состояния, набирает разбег для рывка из одного мира в другой, где она свободна от субординации, от практически-целесообразного.
А уж, если рядом с ней появляется очень тонкая линия, к примеру, золотая или серебряная… (примеряет воображаемое украшение), точка становится плоскостью (выразительно смотрит на него).
Он. (перестаёт взбалтывать) Что ты хочешь?
Она. Не хочу оставаться точкой на пустом фоне.
Он. Озвучь мне свой интерес!
Она. Конечно же, Франция! Париж! Ох, я бы там покрасовалась на какой-нибудь Эйфелевой башне. На этой линеарно-точечной конструкции. Стыки и болты там являются точками! А чем я хуже! Но мне подойдёт и пейзаж. Я займу там подобающее место.
Он. Хорошо. Как тебе Лазурный берег?
Она. Это мой любимый цвет… У нас будет лазурный пейзаж! Что будем рисовать?
Он. Пирс в Каннах рядом с кафешкой MOURE ROUGE.
Она. Прекрасно. (подходят к конструкции) Ах, как бьётся сердце, как я люблю этот творческий момент! Вот она плоскость холста… По сути, это живое существо. Художник «оплодотворяет» эту сущность…
(он хихикает)
Она. Что смешного?
Он. Клянусь Аллахом, никакой эротики у меня в голове за мольбертом не бывает: живопись слишком сама по себе меня захватывает, чтобы отвлекаться, и сам процесс мне заменяет всё.
Она. (строго) Вернёмся к пирсу. Где, ты говоришь, это находится?
Он. Рядом с кафешкой MOURE ROUGE, и никто из моих знакомых не знает, что этот МУР означает (шутит) moure – mon amour – Moulin moure – «Красная мельница»!
Она. Ты же клялся Аллахом, что никакой эротики!
Он. А если получается немного эротично, то тем лучше, тем оно жизненнее, если об абстракции можно так выразиться.
Она. Понятно. (требовательно и строго) Ощущаешь «дыхание» холста? (он вслушивается) Это надо чувствовать неосознанно…
Вот напряжение к небу (показывает на верхнюю грань), напряжение к земле (показывает на нижнюю грань). (Смягчаясь) «Право» – вход внутрь – это движение домой (заходит внутрь конструкции).
«Лево» – выход вовне – это движение вдаль.
(берёт ткань и вытягивает её в глубину сцены; ткань выходит за пределы конструкции в форме пирса)
С ним человек удаляется от обычной среды, освобождается от тяготящих привычных форм, которые сковывают его движение в почти окаменевшей атмосфере, и все глубже и глубже вдыхает воздух. Он идет к «приключениям» (в конце фразы она оказывается на краю «пирса»)… Странник! (кричит и машет ему рукой) Так что там пирс?
Он. (кричит в ответ) Он рядом с кафешкой MOURE ROUGE – «Красная мельница»!
Она. Не отвлекайся на красный цвет. Продолжай в лазоревых тонах.
Он. На Лазурке деревянные пирсы нынче редкость, в Каннах их всего два. Пирс Виви на Мур Руж один из немногих оставшихся старых причалов из брёвен. Потом на нём фонарь в конце поставили, но я фонарь не признаю и написал пирс без него.
Она. (осторожно ступает по пирсу, ощущая его призрачность, говорит восхищённо) Дорожка водяной глади, словно из сновидения, где метафора или образ может воплощаться буквально! На твоей картине дорожка приобрела конкретные очертания дощатого пирса, на котором отразилась игра света и воды!
Музыка
(она снимает туфли и длинное лёгкое верхнее платье, чтобы не замочить их в этом воздушно-водном пространстве; сходит с пирса, словно на воду, и кружится вместе с летящим по воздуху платьем)
Она. Жаль, что ты не нарисовал фонарь. Я люблю фонари! Это свет!
Он. (берёт фонарь, идёт к ней) Я буду фонарём, одиноким странствующим фонарём. (становится на краю пирса, как фонарь, смотрит вверх)
На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.
Она. (смотрит на отражение в воде, присаживается у подножия «фонаря»)
На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.
И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радует привет!
Он. (читает дальше)
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.
Он. Этот сонет Бунина – аналог идеальной геометрической абстракции.
(они садятся на пирсе спиной друг к другу, рядом стоит фонарь)
Мои картины – абстракция, мои тексты – тоже своего рода абстракции, и каждый понимает или не понимает их в меру своей испорченности и иску́шенности искусом искусства. Сам я искусан бешеной собакой искусства.
Я всё делаю не как люди, не как все, по-своему. Мои картины создаются сами из необъяснимой веры в свою звезду. В них нет буквальности. Они – как скэт в блюзе. Они, как вообще музыка: чистые эмоции. Взлёт творческого духа до гусарского градуса, с отмашкой. I was high.
Искусство прежде всего о смысле жизни, о жизни и смерти и о том, что между ними – любви, однако всё проявляется через мириады ситуаций, отношений, событий и через рождаемые жизнью переживания отражается в искусстве, которое в свою очередь будит эмоции.
(встают, медленно идут к берегу по разные стороны пирса, между ними фонарь; они держат его за ручку)
Нигде ни у кого я не учился живописи или вообще на художника, а ошибок в технике живописи делаю мало. Сколько краски экономлю этим! Это между прочим значит, что я ничему не учусь, потому что учатся только на своих ошибках. With every mistake we will surely be learning.
Пригодилось упорство и нежелание сдаваться. Я боялся учиться, боялся чужого влияния, боялся потерять самость, а ещё больше боялся, что учёба отобьёт у меня желание писать, ведь я стал писать, как летать, как песню петь, выплёскивал накопленное. Из ниоткуда всё шло, я боялся, что чуть столкнёшь со счастливого золотого пути, и я в ужасе буду "как все художники в муках рождать картины". Теперь я может бы и согласился поучиться, хотя самому до всего доходить интереснее.
(остановились)
Музыка стоп
С тех пор, как я стал художником, я поступаю по зову души, по своей совести, я стал соответствовать сам себе. Мудрый и добрый папа Сабит мне чаще всего говорил два ёмких слова: Be yourself! Мне значение его наказа открылось до конца только сейчас. Жить безупречно, по собственным внутренним часам – для меня путь к совершенству. Оказалось, что я умел быть художником всегда, это моё естественное состояние, но я не осознавал этого до 59-летнего возраста. У меня был очень долгий путь…
«Не ЦЕЛЬ, но ПУТЬ».
Я пишу только тогда, когда не могу не писать, а не тогда, когда надо подхалтурить-заработать или просто самовыразиться.
(вернулись в пространство конструкции)
Она. (с пониманием) Если верна точка отсчета, если выбранное направление верно, цель не может не быть достигнута.
Он. Один Аллах знает, что верно. Моя бешеная активность всю жизнь вела меня от комсомола в КПСС, во Внешторг, в загранку, в прорабы перестройки, в высокое кресло зама гендиректора Ассоциации экспортёров СССР, в грантососы Маргарет Тэтчер, в юристы-международники, в коллекционеры, в друзья Ренэ Герра, и, наконец, в художники. Я просто ловлю кайф от всего, что делаю, а если бы я, как все, делал карьеру, не кайфуя, то был бы где все.
Кафе MOURE ROUGE. А не выпить ли нам кофе? Кофе – волшебный напиток: сколько людей родились на свет благодаря приглашению «На чашечку кофе…»
Она. Нет, лучше шампанское.
Он. Пожалуйста (рисует два бокала).
(они сворачивают листы и пьют воображаемое шампанское)
Она. О чём ты задумался, Странник?
Он. Вспомнил нонконформистские шестидесятые моего детства. Как играли с одноклассником в шахматы или морской бой.
Я по вечерам в 9 классе бегал трусцой из Тирасполя в Бендеры на пару с моим корефаном Сашей Круцем. К полуночи на обратном пути отдыхали на нагретых солнцем старых могильных камнях придорожного еврейского кладбища и смотрели на мохнатые звёзды, романтика!
Я ездил искупаться в море и «прошвырнуться» по Дерибасовской – ну как из любого подмосковного города "за 100 км" ездили школьники в Москву.
Я продукт еврейской местечковой тираспольской культуры, генов татарских баев, крови графьёв Ганских, СССР, КПСС и комсомола.
Она. А ещё Ренэ Герра твой крёстный отец.
(смеются)
Он. (произносит тост) Ренэ Герра, пожалуй, самый для меня уважаемый человек. Считаю его своим крёстным отцом как живописца, и он не возражает. Мне никогда не хотелось стать художником, мне захотелось после того, как меня стали подзуживать. Ренэ Герра взялся с жаром и напором воина-горца (Guerra) поучаствовать в соблазнении меня на художество – и быстро меня победил.
Но без этих открытых и широки пространств, без Каннского залива, неба, холмов, прогулок по Круазетт, я может и не стал бы художником, или стал бы, но не геометристом.
Ни одной картинки за свою жизнь я не нарисовал, в школе имел тройку по рисованию.
И вдруг… Юный живописец пятидесяти девяти лет от роду садится в Мерседес и едет во французский аналог советского магазина ШКОЛЬНИК на отоварку. Там он набирает масло, холсты, кисти и дозаполняет корзину ШОБ С ПОГОНОМ всякой живописной мелочёвкой.
Однако «юному живописцу» такой отоварки показалось мало и ломанул он за триста пятьдесят километров в Милан за мольбертом – бешеной собаке семь вёрст не крюк.
Он. И однажды таки подошёл в ужасе к холсту и за два часа сделал картину маслом "Рассветозакат с моего балкона в Каннах". И понеслась!
Она. (поизносит тост) За твою первую картину, Странник, которая родилась на каннском рассвете!
Музыка
Она. Искушение четвёртое – «Странник и Первоэлемент»: искушение Бытием.
Лай и вой собак

Антракт

Коллаж «ТОЧКА – основа МИРОЗДАНИЯ»
Акт IV


Композиции Искана № 27 (50×70 grading blue olive violet + tiangle yellow)
Сцена 4. Метафизика. Музыка. Монако
(Они вытягивает ткань из конструкции, раскладывают её ровным прямоугольником)
Он. Опять… бешеная собака.
Она. Похоже на вой брейгелевских собак. Это охота.
(она уходит на этот звук, словно под влиянием какой-то силы; он смотрит вслед, потом надевает шапочку из газеты, берёт валик и водит по ткани)
Он. С чем бы ни спал, сниться будет стрёмное подхалтуривание маляром на Производственном комбинате Торгово-промышленной палаты СССР в Кунцево, где я в 80-ых красил стенды для советских выставок за рубежом. (Я же гастарбайтер-молдаванин из Тирасполя!) Рука во сне просит германские валики, двухгаллонные бадьи американского акрила, малярный скотч МММ (который Minnesota Mining & Manufacturing истинный Scotch tape) в ассортименте, стальную рулетку в сантиметрах и дюймах, никелированный отбивочный угольник, кювету, которая сейчас называется лоток (не для кошек, хотя под кошек он тоже годится) и рублёвый чёрный нал без ведомости. Эх, где те многоквадратнометровые поверхности? Сейчас я бы на них разгулялся!
(садится, пьёт кефир)
Я убеждённый, отъявленный и оголтелый автодидакт, мне преподавание – как красная тряпка для быка, вместо рисунка я владею геометрией, а вместо живописи – навыками маляра-альфейщика! Да, я ОТКАЗНИК! и проказник… Я молдаванин! Я набил руку красить от забора и до обеда. Я выдаю лучшие образцы малярного искусства.
(возвращается она; на ней джинсы, рубашка, шейный платок – по моде 1970-ых)
Она. Странник, ты звал меня?
Он. Я думал о тебе.
Она. Сегодня я как-то непривычно себя ощущаю. У меня какой-то другой характер. (Осматривает себя) Мне страшно.
Он. Ничего удивительного. Сегодня – ты в моём сне, в моём подсознании. Ты мне снишься.
Она. Какие у тебя странные сны, Странник… Чем ты занимаешься?
Он. Малюю, сэр! В сущности, я молдаванский маляр-гастарбайтер: просто крашу.
(По-разному складывает и деформирует ткань) А по сути, я визуально соотношу коллективное сознание с реальностью, пропуская его через своё личное сознание. Я работаю с пространством на холсте и через него – со временем, но делаю это не в реальности, а в вымышленном мире – в зеркале моего холста. Я предельно обобщаю окружающую меня реальность – до символа, и манипулирую ею на холсте.
Она. (осторожно касается ткани) Я вижу там тебя…
(начинает звучать музыка, её звук постепенно нарастает)
Музыка SMOKIE «I'll meet you at midnight»
Он. (кидает взгляд на ткань) Это я студент. В 1973 я поступил в Инъяз Мориса Тореза. Учился на переводческом, изучал английский и шведский. Четыре года я жил в общежитии – это казарма, кабак, бордель и храм науки в одном флаконе и ещё осиное гнездо стукачей. По воскресеньям все по пиву, а я на весь день в Третьяковку, 15 копеек вход. Я был такой белой вороной.
Она. Какая музыка…
Он. Вдохновился со Smokie с бобинных магнитофонов сорок лет назад. Это моя любимая песня.
Она. О! Я встречусь с тобой в полночь на Елисейских Полях. Под лунным светом!
Он. Лично я от музыки вдохновляюсь и просто от НИЧЕГО или изнутри себя.
Она. (начинает танцевать и подпевать)
I'll meet you at midnight
Under the moonlight
Он.
Но Жан-Клод и Луиза-Мария
Никогда не встретятся.
Она. Представляю, как вы тусовались под эту музыку в 70-ых! (Ему) Жан-Клод – студент университета!
Он. Я от тусовок и пьянок скрывался в музеях. Я отсмотрел километры холстов и подхалтуривал гидом Интуриста по Третьяковке и музеям Кремля. Я всю жизнь околачивался в храмах искусства.
Я в общежитии однажды художественную композицию сделал – над кроватью, заправленной армейско-больничным колючим шерстяным одеялом, на стене: ржавая колючая проволока (как лагерная) и на шипах осенние листья красиво наколоты. Это называлось: СВОБОДУ ЛУИСУ КОРВАЛАНУ! Я в школе был председателем Интерклуба! (и таки очень был!)
Она.
I'll meet you at midnight
Under the moonlight
Он.
Но Жан-Клод и Луиза-Мария
Никогда не встретятся.
Она. Почему ты не танцуешь? О! Слова звучали как музыка! вечер их встречи был теплым от смеха!
Он. Последний раз я плясал семь сорок в 98-м под пальмами в Испании.
Она. Ну станцуй семь сорок!
Он. Это был редчайший случай. Я вообще не танцую и не пою. В школе у меня была тройка, по «пению», а моя любовь сказала, что с моим голосом только из туалета кричать.
Я в классе был серой мышкой, ничем не выделялся, от этого у меня до сих пор комплекс, который приводит к стремлению обойти одноклассников хоть на финишной прямой, и оно мне удалось.
Она. А ты самолюбивый…
Он. (в запальчивости) Что не дано от природы по школьным меркам, к тому и стремился.
За шесть лет собрал коллекцию – 100 виниловых пластинок, почти 1000 сидюков аудио, купил аппаратуру и слушал. Академическая классика, джаз, рок и авангард.
Она.
Я встречусь с тобой в полночь
Под лунным светом.
Он.
Но Жан-Клод и Луиза-Мария
Will never be
Will never be
Какие небесные и тупые риффы и ещё более тупые и заряженные патронами земной жизни рифмы.
Она. (закрывает уши) Will never be! Will never be!
Откуда столько цинизма, ты чем-то не доволен?
Он. Нет, я вполне доволен жизнью. Настолько, что пишу под похоронные марши свои радостные композиции, и мне музыка не мешает, а заряжает оптимизмом под Funeraiiles (harmonies poetiques et religieuses) Листа и под скерцы и попсовую похоронку Шопена.
Она. Нет, я больше не могу. Не надо. Мне очень страшно. Я не вынесу больше этих мёртвых горизонталей, дай хоть одну вертикаль, давай вернёмся к солнцу!
Он. Но я не умею управлять сном, а мы с тобой в его реальности.
Она. Вспомни что-нибудь светлое, радостное, солнечное.
Он. Я не могу ничего вспомнить, я просто сплю.
Она. Я помню. Я помню, как вы познакомились с Ренэ Герра!
(ткань окутывает их, как две эфемерные фигуры)
Она. (говорит медленно и плавно, как во сне) Ты сидел на телефоне, выясняя, как одеться. Но все были одеты «никак» и под жару! Дневной приём проходил на открытой террасе на свежем воздухе, без закусок – чисто коктейль.
Он. (начиная припоминать) Я надел cocktail shirt и чёрные брюки.
Она. (показывает на воображаемых людей) Ренэ Герра в светлом костюме, его брат Алэн в темном, хозяин аукциона слева в профиль в сером костюме и с бокалом.
Он. (припоминая) Это момент, когда хозяин нас только-только познакомил…
(она скидывает с себя ткань, выходит на середину и меняет тон)
Она. (словно ведёт репортаж) Лето 2013 года. Презентация одной международной арт-институции в здании самого знаменитого отеля Монако – Отель де Пари на площади казино Монте-Карло.
Среди гостей – господин Герра, русист и славист, заведующий кафедрой славянских языков, почетный академик Российской академии художеств. Долгие годы Ренэ Герра поддерживал русскую эмиграцию, был литературным секретарём Бориса Зайцева, русского писателя-классика Серебряного века.
Ренэ Герра был рад познакомиться с нашим соотечественником господином Искандером, которого представили как коллекционера.
Он. (говорит больше для себя) Господин Герра, в Вашей коллекции несколько тысяч картин, а в моей не более 200, из них половина – московские нонконформисты, их ещё называют шестидесятниками, и почти все их работы – на бумаге. Не считайте меня очередным монакским коллекционером-олигархом!
(сидит, погрузившись вглубь себя, говорит, словно забыв об окружающих)
До конца так и не понял, почему я собираю. Собираю других людей и эпоху, чтобы понять себя. Причин больше в подсознательном, чем в том, что я могу понять и объяснить. Тут скрытые мотивации, подавленные фобии, загнанные в бездонные глубины; тут протест против условностей; неосуществимая жажда безграничной свободы; тут недовольство повседневностью; тяга к запретному; стремление к невозможному; прекрасные мечтания и многое другое.


