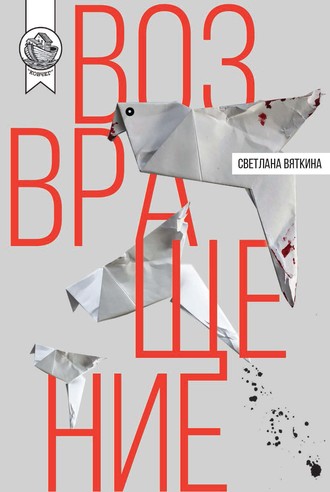
Светлана Вяткина
Возвращение
По совету отца младший Назаров поступил на юридический факультет. Родители были рады этому, и остаток лета семья провела на взморье в Майоренгофе.
По возвращении в Москву началась совершенно другая жизнь.
В новом, с иголочки, мундире Юрий каждое утро благоговейно входил в «святилище науки» – главный корпус Московского университета. Его переполняла жажда знаний. В мечтах о будущем он уже видел себя известным государственным деятелем, влиятельным вельможей.
Юридический факультет держался на авторитете и славе прошлых лет. Но сейчас все самое талантливое и передовое было загублено постановлением министра просвещения Кассо от 11 января 1911 года, лишавшим университет автономии. Градоначальник получил право вмешиваться в университетскую жизнь, а профессора и доценты стали такими же чиновниками, как учителя гимназий, разве что ходили в статском, а не в мундирах.
Вначале Юрий прилежно посещал и конспектировал лекции. Потом, как и прочие студенты, стал довольствоваться учебниками. Кроме нацеленных на карьеру белоподкладочников, большая часть студенчества была настроена либерально, если не сказать революционно. Молодежь увлекалась социализмом как учением о справедливом общественном строе, считая, что за ним будущее. Почти все негласно изучали труды Маркса, Энгельса, Плеханова и других социалистов. За идеалы свободы и демократии на баррикадах недавней революции студенты тоже проливали свою молодую кровь. Когда на фабриках и заводах бастовали рабочие, учащаяся молодежь, проявляя солидарность, примыкала к бунтовщикам. Никакие меры министра Кассо и полиции не могли сломить их решимость бороться «за лучшую жизнь в России». Не действовали ни угрозы исключения из университета, ни аресты, ни ссылки.
Юрий Назаров не примкнул ни к одной из политических группировок, потому что не мог разобраться в вопросах, которые будоражили его товарищей. Он ходил на дебаты, устраиваемые социальными активистами, читал политические и экономические статьи в толстых журналах, брался даже за «Капитал» Маркса, но не осилил его. Под влиянием общих настроений он в конце концов согласился: общественный строй в России «прогнил» и «должен быть изменен», необходима «буря» – революция. Юрий знал о французском эксперименте установления республики, и, в общем-то, этот вариант его устраивал, особенно тем, что преобразования не должны были коснуться материального положения его семьи, только-только вставшей на ноги.
В одном из деревянных переулков Самотеки, в скромной квартирке мелкого торгового чиновника Филимона Артемьевича Галкина собралась компания студентов по случаю дня рождения сына Галкина – Сергея. В тесной гостиной хозяйка угощала молодежь пирогами, а хозяин – наливками собственного приготовления.
Юрий Назаров выделялся среди гостей ухоженностью ногтей, щегольской прической и мундиром из дорогого сукна.
После тостов за здоровье «новорожденного», его родителей и «присутствующих здесь дам» спели Gaudeamus igitur, «Дни нашей жизни», «Повеяло черемухой».
Общее веселье остановил сам виновник торжества.
– Товарищи, – начал Галкин, – с каждым днем наша жизнь становится все невыносимее. Судите сами, на троне расселся невежественный Гришка Распутин, царица этому потрафляет, а наш венценосный только молится да мощи открывает. В министерских креслах сидят заплесневелые идиоты, как и во главе многих губерний. В Думе – бесконечная болтовня и свара. Одним словом, кругом отсталость и гнет. Власть сосредоточена в руках жандармов и охранки…
– Когда же, наконец, с этим будет покончено? – резко прервала его коротко стриженная курсистка.
Ответить взялся старшекурсник Холин, слывший знатоком экономики:
– Русский народ нищий, потому что вечно зависит от зарубежного капитала. Почти вся наша промышленность и торговля в руках иностранцев. Товары в основном привозные, начиная с посуды и кончая шампанским, духами, одеждой, детскими игрушками. Пройдитесь по главным улицам Москвы и Петербурга, посмотрите на вывески – сплошь немецкие фирмы. Та же картина и в других городах. Богатства Кавказа, Урала, Сибири, Донбасса в руках иностранцев. Фактически мы – колония.
– Разве у нас нет своих, русских, капиталистов? – спросил Назаров.
– Как же! – скривился Холин. – Русская промышленность! Жалкая кучка эксплуататоров, зависящих от иностранной валюты. Русским остается лишь преклоняться перед Западом и безропотно уступать свои богатства, а самим смиренно молиться и паломничать по монастырям, ведь мы – Святая Русь. «Смирись, гордый человек!» – призывал Достоевский. Ну хорошо, мы смирились и теперь торгуем селедками, водкой, керосином да спичками. И это в богатейшей стране!
– Мы стоим накануне войны с Германией. Воздух пропах порохом, – вступил в разговор студент Александров, происходивший из семьи военных. – И новую войну запросто можем проиграть, как провалили Японскую кампанию, ведь генералы-то остались те же: бездарные прибалтийские бароны да наши пьяницы.
Раздались голоса:
– Какой же из этого выход?
– Нельзя сидеть сложа руки!
– Только новая революция может спасти Россию! – горячился Галкин, выглядевший прекомично, как все учительствующие в хмельном кураже. – Да, только социализм способен преобразить страну политически и экономически. Пора сбросить эксплуататоров – и своих, и чужих! А сделать это должны мы – молодежь. За светлое будущее, господа!
Все подняли фужеры и чокнулись.
– И ты за это пьешь, Назаров? – поддел Юрия Холин.
– Почему бы мне не выпить?
– Неужели пойдешь с нами на баррикады?
– Понадобится – пойду.
– Даже если у тебя отнимут дом?
– Дом не мой, а моего отца.
Гости одобрительно загалдели:
– Правильно!
– Вот так сказанул!
– Молоток!
– А много ли у вас опасности, молодой человек? – неожиданно встрял сидевший сбоку, уже изрядно набравшийся Филимон Артемьевич.
Назаров, снисходя и не желая обидеть хозяина дома, пожал плечами:
– Да кто ж ее считал.
Раздались смешки, но старшего Галкина ответ вполне устроил, и он мирно заснул, прислонясь к этажерке.
Встала курсистка и с большим чувством продекламировала «Буревестника». Ей горячо аплодировали.
Всякий раз, уходя отсюда, Юрий чувствовал смертельную тоску, несмотря на то, что уходил пьяным, накачавшись наливками Галкина-отца.
Мощные колонны портала Большого театра тускло отражали свет январской ночи. Излучение газовых фонарей поглощал морозный туман. Перед входом в театр образовалась длинная вереница собственных выездов и частных извозчиков. Накрытые заиндевевшими попонами лошади мирно дремали, а кучера, сбившись в кружок, травили анекдоты, время от времени похлопывая друг друга по наваченным спинам.
В зрительном зале, под светом хрусталя, на красных бархатных креслах шелестели шелками, веерами и программками представители московской знати. Никто не томился в ожидании спектакля, потому что демонстрация себя и разглядывание других входили в программу вечера. Для многих мужчин посещение театра было не только светским развлечением, но и возможностью встретиться с нужными людьми, а для дам – блеснуть бриллиантами, туалетами, мехами.
В нагретом воздухе витали ароматы дорогих духов. Капельдинеры в парадных ливреях, как монументы, застыли в величественных позах. Ровный гул зрительного зала разрывали резкие звуки настраиваемых инструментов, доносившиеся из оркестровой ямы. На третьем ярусе и балконе, под самым куполом, совершенно иная публика – там галдели студенты и курсистки. Во время спектаклей галерка особенно бурно выражала свое отношение к игре актеров: то криками «браво» и аплодисментами, а то свистом, топаньем ног и воплями «позор».
Семья Назаровых расположилась в правой ложе бенуара. С ними был и Шумский. Ольга Александровна была ослепительно хороша в новом дымчато-сиреневом платье, к которому муж купил жемчужное колье. Марике тоже сшили новое платье, а Юрий был в студенческом мундире. Брат и сестра рассматривали публику в бинокли, обмениваясь критическими наблюдениями. Наконец поднялся занавес. Давали «Лебединое озеро». Одетту танцевала любимица публики Екатерина Гельцер.
По окончании балета родители отправили детей домой, а сами пошли ужинать на Арбат – в «Прагу». Шумский только что вернулся из Питера и делился впечатлениями:
– При дворе по-прежнему одна пошлость. Влияние Распутина растет. Он не только лечит гипнозом наследника престола, но и раздает за взятки выгодные места, даже министерские портфели. Царица чуть не молится на него.
– Но что же государь? – недоумевал Николай Николаевич.
– Все раболепствуют перед Распутиным. Чиновники и финансовые дельцы кутят с ним в шантане «Вилла Родэ», а придворные дамы из салона графини Клейнмихель и вовсе почитают за святого. Дошло до того, что они купают сорокалетнего «старца» в ванне.
– Что-то не верится, – усомнилась Ольга Александровна.
Шумский прищелкнул языком, дескать, рад бы сообщить что-то хорошее, да нечего.
– Неужели в доме Романовых некому навести порядок? – поддержал жену Назаров.
– Кто ж наведет его? – вздыхал Шумский. – Кирилл – пьяница, Димитрий – пьяница, Михаил после женитьбы отошел от дел, Великий Князь Николай Николаич как будто наиболее вменяемый, но очень уж недалек… Россия нуждается в сильной руке…
– Ну а вы, Государственная Дума, представители народа! – напустилась на Шумского Ольга Александровна, словно он был в ответе за все неурядицы двора Его Величества.
– А Дума-то из кого состоит? Из черносотенцев во главе с Пуришкевичем да полусотни попов, поющих «Боже, Царя храни». Из соглашателей-октябристов вроде Гучкова, из небольшой группы трудовиков – тайных революционеров, ну и нас – кадетов. А что мы можем при таком парламенте? Разноголосица ужасная, каждый тянет одеяло на себя.
– Что же спасет Россию? – озабоченно спросила Ольга Александровна.
– Только революция! И она не за горами. Чаша терпения переполнена. Новая революция все сметет на своем пути, а также и тебя, Николай, если ты думаешь отсидеться в стороне.
– Что ж мне, в вашу партию записаться? – хмыкнул Назаров.
– Почему бы и нет. Будущее в России принадлежит кадетам. В наших рядах весь цвет интеллигенции – ученые, промышленники, финансисты.
– Ты тоже так думаешь, Ольга? – он посмотрел на жену.
– Видимо, Анатолий Александрович прав, – ответила она, встревоженная новостями. – Что тебе мешает быть либералом, ведь ты уже не помещик.
– Я даже не знаю их программы.
Шумский, как обычно, пошел навстречу:
– Наша цель – конституционная монархия, наподобие английской. Царь царствует, но не управляет. Это соответствует твоим англоманским вкусам, не так ли, Николай? Михаил Александрович – лучший кандидат на трон. А далее – либерализм во всем. Тезис, растяжимый, как резина.
Шумский напряг пальцы и широко развел руки, словно тянул резину. Все наконец улыбнулись.
– Ну, хорошо, уговорили, – махнул рукой Николай Николаевич и сделал легкий взмах.
– Человек, бутылку лирпа!
Когда лакей разлил по бокалам шампанское, Назаров с нарочито-комической торжественностью провозгласил, поклонившись жене:
– Поздравляю вас, мадам, с новорожденным кадетом!
Ольга Александровна только что прочла письмо от младшей сестры, извещавшей о болезни их матери.
«Как это не вовремя, все в одну кучу!» – корила она невесть кого.
Вошел Николай Николаевич.
– Ольга, я нашел у подъезда какой-то ключ. Не твой? – он положил его на стол, и она сразу же узнала изящный никелированный ключик от американского замка в доме Шумского.
– У меня нет таких ключей, очевидно, кто-то из твоих клиентов обронил, – нашлась она, но на душе стало еще невыносимей.
Николай Николаевич, заметив слезы на лице жены, присел рядом и заговорил сразу обо всем, лишь бы отвлечь ее от грустных мыслей:
– Я давно вижу, Оленька, тебя что-то томит, но поверь, дела идут хорошо. С легкой руки Анатоля клиентура растет. Сегодня я получил юрисконсульство у известного водочного магната Буянова, поставщика двора Его Величества.
– Смотри, чтобы этот замоскворецкий купчина тебя не надул. Я слышала, он большой плут.
– Ну-у, надуть меня непросто.
– В таком случае поздравляю…
– Что же тебя тревожит? Какая-нибудь неприятность с детьми?
«Сама судьба велит, – отвердела вдруг Ольга Александровна. – Он сам напросился…»
Собравшись с духом и оперевшись на невесть откуда взявшуюся жестокость, она решила сейчас же во всем признаться и разом покончить со своим двусмысленным положением.
– Николай! – голос прозвучал глухо, и ей самой он показался чужим. – Я давно собиралась тебе сказать… нет сил терпеть это и дальше!
Она поймала удивленно-вопросительный взгляд мужа, и ее решимость мгновенно улетучилась. В его глазах был испуг и вместе с тем столько любви и преданности, что она упала к нему на грудь и разрыдалась.
– Что с тобой, милая? – вконец растерялся Назаров.
– Мама больна, а я здесь… Пришло письмо от Любы… – она показала рукой на конверт, лежащий на столе.
– Успокойся, Оленька. Утром я посажу тебя в поезд. Мы тут справимся, не переживай. Не плачь, родная, врачи спасут твою мамочку.
На другое утро Ольга Александровна уехала в Нижний, но к ее приезду мать уже скончалась.
На благотворительный базар в пользу приюта для сирот в колонном зале Дворянского собрания съехалась вся Москва. В цветочных киосках и за длинными столами, уставленными безделушками для лотереи, а также за буфетными стойками бойко торговали дамы высшего света. Веселая, нарядная толпа с трудом протискивалась через галереи.
За одним из столиков группа женщин продавала шампанское. Бокалы, к которым прикасались их губки, ценились дороже. Под смех и шутки на подносы сыпались золотые червонцы и кредитные билеты.
Назаровы тоже участвовали в благотворительной акции: Ольга Александровна продавала цветы, а Николай Николаевич, в визитке, вместе с другими мужчинами помогал откупоривать бутылки.
Неподалеку от них за отдельным столиком сидела красивая декольтированная блондинка – жена банкира Бутылкина. Николай Николаевич подвел к ней сына.
– Нина Петровна, разрешите представить моего наследника. Можете называть его просто Юрий. Поручаю его вам.
Младший Назаров в студенческом сюртуке выглядел очень юно.
– Приятно познакомиться, – Нина Петровна протянула белую, унизанную кольцами руку, которую он почтительно поцеловал.
– Вы будете разливать шампанское, – сказала она.
– Слушаюсь! – весело козырнул Юрий.
Встав за ее спиной, он ловко открывал бутылки и наполнял бокалы.
Ольга Александровна инстинктивно почувствовала исходившую от блондинки опасность и краем глаза следила за сыном. Ей не понравилось, что Николай Николаевич познакомил его с банкиршей, и она шепотом упрекала его.
– Оленька, мальчик вырос, – отмахнулся Назаров.
Шампанское у Нины Петровны покупали нарасхват. Мужчины требовали, чтобы она пригубляла каждый бокал, и щедро платили за это. Такая же игра была и за другими столами. К концу базара Нина Петровна опьянела, но ей это шло: глаза блестели ярче, а голос стал низким и томным. Она посмотрела на часы.
– Пора домой, а мужа нет. Обманул! Все мужья такие. Как хотите, но придется вам, Юрь Николаич, провожать меня домой. Я живу на Петровке – близко. Дойдем пешком, если вы не устали. Откровенно говоря, у меня немного кружится голова, пришлось выпить лишнего ради бедных сироток!
– Пожалуйста! Мне будет приятно, – ответил Юрий.
Они шли по ночной Москве, весело обсуждая ярмарку.
– Там было столько красавиц, вам кто-нибудь понравился?
– Если начистоту, я заметил только одну.
– Кого же?
– Вы и сами могли бы догадаться.
– Ах, мальчик! – она погрозила пальчиком в перчатке, но Юрий поймал ее руку и, расстегнув застежку, поцеловал запястье.
– Вот мы и дома, – сказала Бутылкина, якобы «не замечая» его ухаживания. – Завтра в шесть часов приходите к нам обедать. Я познакомлю вас с мужем.
Ровно в шесть вечера Юрий звонил в дверь Бутылкиных.
Банкир оказался рябым невысоким мужчиной с большой головой, к тому же значительно старше своей жены. Он радушно поздоровался с Юрием и пригласил его к столу.
В богато обставленной просторной комнате сидело около дюжины гостей. Нина Петровна усадила Юрия подле себя. Она весело и непринужденно разговаривала со всеми, но кончик ее туфельки то и дело скользил по ноге гимназиста, и от этих прикосновений его бросало в жар. Обед затянулся, было выпито много вина. Потом поехали в кабаре «Летучая мышь», где снова пили шампанское и смотрели развлекательную программу Балиева. После на извозчиках двинули к «Яру». Там ужинали в отдельном кабинете, опять пили шампанское и слушали цыган, исполнявших свои надрывные песни. Под утро всей компанией ели щи в трактире на Арбате. Бутылкин платил за все.
Юрий вернулся около семи утра и проспал весь день. Вечером он снова обедал у Бутылкиных. Банкир приветствовал его как старого знакомого.
Кроме хозяев, за столом сидели подруга Нины Петровны Ирина Ионовна и сумской гусар Гурин. Опять много пили. По окончании обеда хозяин извинился перед гостями и уехал по делам. После его ухода разговор почему-то разладился, словно банкир был душой компании.
Нина Петровна встала и скомандовала Юрию:
– Идемте! Я покажу вам квартиру.
Через гостиную и кабинет мужа она провела его в спальню.
– Вот наш альков, видите, он весь в зеркалах, даже на потолке.
Это чтобы я могла себя видеть со всех сторон. Муж говорит, что я – нарцисс. Вы любите нарциссы, мальчик?
Назаров понимал, куда она клонит, только не знал, с чего начать. Она сама выключила свет и легла поверх покрывала:
– Я хочу, чтобы вы стали настоящим мужчиной.
Что ж, мужчиной так мужчиной…
После, поправляя прическу, она заявила:
– Я никогда не изменяю мужу, имейте это в виду.
Юрий неуклюже молчал, хмель совершенно выветрился. Когда они вернулись в столовую, ни подруги, ни гусара уже не было.
– Ваши гости, наверное, обиделись, – сказал Юрий.
– Как бы не так! Они в будуаре беседуют, – подчеркнула последнее слово Бутылкина.
Было ясно, что у дам друг от друга секретов нет.
С этого вечера Юрий лишился свободы и воли. Он часто обедал у Бутылкиных, посещал с Ниной Петровной театры, концерты, балы. Друзья и знакомые банкирши называли его «мальчиком» и «пажом», что ужасно задевало самолюбие гимназиста. Женщины злословили, но многие молодые люди завидовали ему. Банкир был по-прежнему любезен с ним. Догадывался ли он о шашнях жены, поощрял ли молчанием ее прихоть, оставалось загадкой. В семейных домах, куда Юрия приглашали раньше как перспективного жениха, он больше не появлялся. Точно так же он прекратил общение с товарищами по университету. Да и учебу почти забросил.
Ольга Александровна была в отчаянии, она даже хотела ехать объясняться к Нине Петровне.
– Это не женщина, а какая-то тигрица, – возмущалась она.
Даже Марика насмехалась:
– Эта баба Юрку скоро сожрет, останутся только пуговицы от мундира.
– Я нашел тебе выгодную любовницу, – «воспитывал» сына Николай Николаевич, – а ты, дурак, по-настоящему влюбился. Рассиропился, как Тангейзер в гроте Венеры. Учти, Тангейзер-то сумел освободиться от чар. Не забывай, «тетя Нина» годится тебе в матери. Ну ладно, завел любовницу, а учебу зачем бросать? Хочешь окончить университет стариком? За вечного студента даже дура замуж не пойдет.
Все эти упреки и насмешки не действовали на Юрия. Он продолжал отношения с мадам Бутылкиной и считал себя при этом самым счастливым человеком.
Однажды, придя домой на рассвете, он нашел на своем столе письмо от Натали Донцовой. Юрий давно уже перестал ей писать. Да и о чем? Распечатав конверт, он пробежал глазами записку: «Дорогой Юра! Пишу вам в последний раз. Чувствую, что вы в моих письмах больше не нуждаетесь, как и в моей дружбе. С большой нежностью вспоминаю чудесное время, когда мы понимали друг друга. Желаю вам счастья! Натали».
Вспомнилась милая девушка, греза его юности, пробуждавшая возвышенные чувства. Он ей бесконечно благодарен, но ведь прошло столько времени. Он уже не знал, любовь это была или обычное преодоление детства. Натали права: им нечего сказать друг другу.
Нина Петровна Бутылкина праздновала именины.
Было много гостей, квартира утопала в цветах и шампанском. В зале танцевали под рояль, а в кабинете хозяина шла напряженная игра в «железку». Около пяти часов утра дом облетела весть: банкир Бутылкин выиграл у купца Ползунова четырехэтажный дом на Тверской. Среди гостей начался ажиотаж, все поспешили в кабинет, чтобы поздравить хозяина. Бутылкин с видом победителя снисходительно принимал поздравления.
Напротив, опустив всклокоченную голову, сидел проигравшийся в пух и прах Ползунов. Его бледное лицо казалось маской, даже потухшая папироса в углу рта не шевелилась. Бутылкин великодушно обратился к Ползунову:
– Желаете продолжать игру? Может, хотите отыграться?
– Я знаю, что не отыграюсь, – хрипло ответил Ползунов. – Да у меня и нет больше ничего, кроме жены и детей.
– На жен и детей не играю, – развел руками Бутылкин и закурил папиросу. – Итак, игра окончена?
– Окончена.
– Вы не отрицаете, что проиграли мне дом?
– Нет.
– Свидетели игры, – обратился Бутылкин к сидящим за столом игрокам, – запомните это заявление. – Моя жена, – обратился он к Ползунову, – уже сообщила по телефону вашей супруге, что вы заночуете у нас. Сейчас пять часов утра, вам нужно отдохнуть. Днем у нотариуса мы официально оформим дело. Согласны?
– Да.
Ползунов встал и, пошатываясь, как пьяный, вышел из комнаты.
Бутылкин начал подробно рассказывать гостям о ходе игры. Ему внимали с подобострастным восхищением. Неожиданно раздался выстрел. На какой-то момент все приросли к своим местам, затем бросились по коридору к уборной. Дверь была заперта изнутри. Лакей взломал ее. На бело-голубом кафеле лежал мертвый Ползунов с простреленной головой. Рядом в луже крови валялся его револьвер.
Пользуясь общим замешательством, Юрий бросился в переднюю, быстро оделся и выскочил на улицу. Он почти бежал, захлебываясь утренним воздухом и слезами. «Покончено с пажами, кутежами, купцами, их женами! Какая же я скотина! Боже, какая скотина! Господи, прости меня…»
На Театральной площади, отдышавшись, он свистнул извозчика.
Марика повзрослела как-то враз. Никто не заметил, когда и каким образом милая озорница превратилась в гордую красавицу. Наивную непосредственность сменила надменная самоуверенность, словно она уже имела какие-то тайные знания и жизненный опыт. На самом деле не было ни того, ни другого. Унаследовав от матери красоту, а от отца ироническое отношение к жизни, она выросла умной, волевой и весьма язвительной девицей. Чувствительность Марика презирала, сама никогда не плакала на людях и высмеивала это в других. Она не разрешала себе женских слабостей, а когда сердилась, то повышала голос и отпускала колкости. Впрочем, она была еще в том возрасте, когда девичий гнев умиляет и кажется забавным. Науками она не интересовалась, но по инерции училась хорошо, уделяя наибольшее внимание иностранным языкам, дабы считать себя культурным человеком. Русскую литературу Марика в грош не ставила, считая ее «занудным поиском души в кишках». Тургеневских женщин считала «психичками», один Базаров, по ее мнению, чего-то стоил. Читала она в основном французские романы и вообще преклонялась перед Западом. «Вот где умеют жить!» – вздыхала юная галломанка.
Себя Марика относила к так называемой «золотой молодежи» и дружила только с девушками из состоятельных семей. Она любила танцевать на балах и флиртовать. Ей нравились кавалеры с хорошими манерами, умеющие делать остроумные комплименты. Их внутренний мир Марику не интересовал – ей достаточно было своего.
В один из зимних вечеров в гостиной Назаровых праздновали шестнадцатилетие Марики. Собралась молодежь. Гости попросили ее спеть, и она села к роялю.
Глядя на сестру, Юрий вспомнил, как всего пять лет назад, в Благодатном, Марика с двумя подружками упросили его покатать их на лодке. В легких летних платьицах и соломенных шляпках они старались держать себя как настоящие барышни. Когда ему надоело ублажать обнаглевших пигалиц, он стал раскачивать лодку на середине реки, чтобы они испугались и запросились на берег. Девчонки и впрямь захныкали, а обидевшаяся на брата Марика прыгнула в воду. Юрий сиганул следом, так как не был уверен, что она хорошо плавает. Такая вот она, «Марика с комарика», как он дразнил ее в детстве.
Под собственный аккомпанемент низким, как у матери, голосом она исполнила модный романс Вертинского:
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль,
Никого теперь не надо вам,
Ничего теперь не жаль.
А вдали диакон седенький
За поклоном шлет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон…
Когда прозвучал последний аккорд, раздались аплодисменты.
– Сколько таинственной муки и шарма в этом романсе! – воскликнула одна из девушек. – Спой еще, Марика!
Марика снова запела:
Где вы теперь? Кто вам целует пальцы?
Куда ушел ваш китайчонок Ли?
Вы, кажется, любили португальца,
А может быть, с малайцем вы ушли?
В последний раз я видел вас так близко,
В пролеты улиц вас умчал авто.
Я видел вас во сне в притонах Сан-Франциско,
Лиловый негр вам подавал манто…
– Прелесть! Еще, Марика! – восторгались барышни.
– Вертинский неподражаем, – снисходительно соглашались их кавалеры.
– Это русский Пьеро!
С большим чувством Марика спела «Бал Господень», «Кокаинетку» и «Нежного принца с Мальтийских островов».
– Вы знаете, – сказала одна из девиц, – моя мама так увлечена Вертинским, что не пропускает ни одного его выступления. Она даже послала ему в подарок фамильную икону старинного письма.
– Как на это отреагировал кумир? – не очень-то вежливо фыркнул Юрий.
– Представьте, очень мило. Он послал маме надушенную записку, в которой благодарил «маленькую, глупенькую женщину за трогательный дар».
Раздались голоса:
– Прелестно!
– Очаровательно!
– Вполне в духе нашего Пьеро.
– Ты изумительно передаешь Вертинского, Марика! Я могла бы тебя слушать и слушать, – говорила разгоряченная краснощекая барышня. – Вам нравится Вертинский, Бобби? – обратилась она к одному из гостей.
Бобби – манерный молодой человек, затянутый в моднейшую визитку, с тонкими усиками, тростью и моноклем, отвечал, растягивая слова:
– О, да! Он истинный певец нашего сумеречного времени. Особенно люблю его «Кокаинетку» и «На бульварах распятую». В его песнях есть тонкий аромат греха.
– А по-моему, – продолжал портить общую атмосферу Юрий, – эта кокаинетка – препаскудная баба, и юным девушкам не пристало вздыхать о ней, как и о прочих de perversion des femmes[8], забавляющихся с лиловыми неграми.
– Юрь Николаич, вы безнадежно отстали и ничего не понимаете в современной поэзии, – прервала его лучшая подруга Марики Бетси.
– Ты права, Бетси, у нашего Юры примитивный вкус, – сказала разозлившаяся на брата Марика.
В гостиную вошел Николай Николаевич об руку с близкой к дому Назаровых известной певицей. Вслед за ними шла Ольга Александровна.
– Ну что вы поете! – обратился Николай Николаевич к гостям. – Уши вянут слушать. И это молодежь, ценители красоты! Предлагаю послушать настоящую музыку. Аглая Александровна сейчас споет нам несколько романсов Рахманинова.
Назаров сел за рояль. Аглая Александровна, полная брюнетка в зеленом шелковом платье, спела прекрасным, чистым сопрано «Островок», «Весна идет», «Не пой, красавица, при мне».
Гости восторженно аплодировали.
– Теперь судите сами, где высокое искусство, а где пошлость и кривлянье. Но мы не собирались вам мешать. Развлекайтесь, дети.
Николай Николаевич увел «стариков» в свой кабинет, где они охотно расписали «пулечку».
– Родителям не понятна тонкая игра настроений, – сказала Марика. – Бобби, вы обещали нам почитать Северянина. Пожалуйста, прочтите «Berceuse осенний».
Бобби вставил монокль и начал читать, завывая:
День алосиз. Лимонолистный лес
Драприт стволы в туманную тунику.
Я в глушь иду, под осени berceuse,
Беру грибы и горькую бруснику.
Кто мне сказал, что у меня есть муж
И трижды овесененный ребенок?..
Ведь это вздор! Ведь это просто чушь!
Ложусь в траву, теряя пять гребенок…
Поет душа, под осени berceuse,
Надежно ждет и сладко-больно верит,
Что он придет, галантный мой Эксцесс,
Меня возьмет и девственно озверит…
Монокль выпал и повис на шелковом шнурке. Публика была в восторге. Затем он прочел стихи Бурлюка, в которых воспевалось «девичье лоно».
– Теперь Бодлера! – кричали барышни.
Бобби по-французски, грассируя, гнусавя и закатывая глаза, прочел стихотворение «Падаль» из цикла «Цветы зла».
– Гениально!
– О, еще, еще! – кричали ему.
– Не могу больше, устал, – капризно сказал Бобби, вставляя монокль.
– Концерт окончен, будем играть в фанты! – объявила Марика.
Она взяла вазу с заранее приготовленными билетиками, свернутыми в трубочки, и обнесла гостей. Каждый взял записку и вслух прочел «задание». Например: пройти на четвереньках по комнате, подлезть под рояль и прокричать петухом, быть исповедником грехов, рассказать о своей первой любви или анекдот. Под общий хохот все исполняли свои номера.
После фантов играли в «пропажу».
Одному из юношей завязали глаза, а Марика в это время спрятала за корсаж свой платок. Молодой человек, когда с него сняли повязку, должен был его найти. Когда он приближался к Марике, гости кричали «тепло», а когда удалялся – «холодно». Окончанием игры должен был служить возглас «горячо», но он, конечно, так и не прозвучал. Под общий смех Марика вынула из-за корсажа «пропажу», а молодому человеку назначили штраф: помяукать, полаять и поблеять под столом. Все это он исполнил с большим мастерством, чем привел компанию в восторг.
Марика раздала гостям карты «Флирт цветов», и все стали соревноваться в искусстве делать комплименты и объясняться в любви от имени цветов.
Так развлекались до самого ужина.
В час ночи, проводив последних гостей, Юрий сказал:
– Не пойму, почему девицам из семей нашего круга нравятся песенки про наркоманов, проституток и сутенеров.
– Юрка, ты подлец! – Марика выбежала, хлопнув дверью.
Ольга Александровна выразительно посмотрела на сына, как бы напоминая: давно ли сам был таким же; а Николай Николаевич пожал ему руку:
– Слава богу, ты начал взрослеть.
– Я к вам, Николай Николаич, на сей раз по сугубо личному делу, – говорил водочник Буянов, входя утром в канцелярию Назарова.
Он уселся в предложенное кресло. Назаров угостил купца сигарой. Оба закурили.
Буянов был водочным королем России, поставщиком двора Его Величества, в каковые попал, дав хорошую взятку коменданту дворца, а тот убедил кого надо, что водка Буянова лучшая в мире.
Купец славился в Москве своим распутством, о нем рассказывали анекдоты, один скабрезнее другого. Внешне он походил на героев пьес Островского: с гладкой прической, напомаженным пробором, небольшими закрученными усиками, какие часто встречаются у лакеев и парикмахеров. Зато носил дорогие английские костюмы, большую жемчужину в галстуке и бриллиантовый перстень на указательном пальце правой руки, который часто выставлял вперед во время переговоров с партнерами. Этот указующий перст знали многие.


