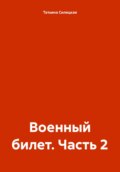Татьяна Александровна Силецкая
Военный билет. Часть пятая
Иногда чашу весов истории, вернее Божьего суда, перевешивает один поступок, который никто и подвигом тогда не называл.
Глава пятнадцатая. В Ленинграде кончились кошки…
Пытка голодом – одна из самых страшных, изуверских пыток. То, что испытали ленинградцы нельзя даже сравнить с «классической» казнью путем оставления без пищи, например, при замуровывании в стену замка или культовым отказом от пищи в языческой Греции. Те, безусловно, тоже же жуткие мучения по сравнению с блокадным голодом имели краткосрочный характер.
Те далекие приговоренные к голодной казни (в основном предатели и злодеи, совершившие тяжкие преступления) не подвергались дополнительным мучениям – низким температурам, обстрелам, страхом за детей, которые умирали от голода, могли быть похищены и съедены. В очереди за хлебом или просто на улице могли отобрать продовольственные карточки, что равнялось смерти. Карточки не восстанавливались ни под каким-либо предлогом.
Моя бабушка оставляла дома детей двух и четырех лет и была высока вероятность, что вернется она к разбомбленному дому…
Поэтому даже в самый страшный голод передвигалась по городу как можно быстрее. Эта привычка бегать, а не ходить осталась у бабушки на всю жизнь. Существовала еще одна весомая причина ходить быстро. Медленная походка, как признак слабости, привлекала внимание грабителей, отнимающих продукты или карточки…
В конце октября 1941 года случаев людоедства и трупоедства (и то и другое каралось смертной казнью по законам военного времени) в блокадном Ленинграде еще зафиксировано не было. Но нападения с целью отобрать карточки или продукты происходили.
Если не было бомбежки или обстрела в Ленинграде стояла тишина. Исчезли звуки жизни – не стало птиц. Все реже мяукали кошки и лаяли собаки. Собачье и кошачье мясо стало обыденным блюдом на столах блокадников – единственным поставщиком животного белка в рационе рядового ленинградца…
«Из архивных дневников ленинградцев. Дневник ученицы 7 класса»:
«20 октября 1941 года.
Теперь отлично понимаю, что такое голод. Раньше я не представляла это ощущение. Меня немного тошнит, когда я ем мясо кошки, но так как я хочу есть, то противное кажется вкусным. Да и одна ли я так голодаю? Кто в этом виноват?
…Сегодня осколками бомбы разорвало на куски мою подругу Аню М. Жаль ее. Мы часто дежурили вдвоем ночью в школе на чердаке. Она так мечтала увидеть конец войны…»
По другую сторону блокадного кольца в это время беспокоились о тонкой и ранимой психике немецких солдат и офицеров.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«24 октября 1941 года.
Во время инспекционной поездки начальника оперативного отдела штаба группы армий «Север» в 18ю армию во всех посещаемых частях ему задавался вопрос: как поступать, если Ленинград изъявит желание сдаться, и как поступать с голодающим населением, которое будет стремиться выйти из города?
Создалось впечатление, что войска сильно обеспокоены этим. Командир 58й пехотной дивизии генерал-майор Альтрихтер подчеркнул, что в своей дивизии он отдал приказ, полученный до этого свыше, о применении оружия, чтобы в корне пресекать такие попытки.
Он полагает, что подчиненные ему войска выполнят этот приказ.
Но не отразится ли это негативно на нервной системе солдат при новых попытках выхода населения из города, когда им вновь придется стрелять в женщин и детей, а также в безоружных стариков? У него имеются сомнения на этот счет».
Очевиден самый «гуманный» и щадящий нервную систему гитлеровских солдат выход из этого положения – всеобщее умерщвление голодом населения изолированного города.
Фон Лееба также расстраивало сокращение убийства населения Ленинграда путем обстрелов артиллерии и бомбежек.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«25 октября 1941 года.
Поскольку дальнейшее наступление на Ленинград к его ближнему рубежу окружения прекращено из-за отвода сил, то город не может сейчас эффективно поражаться огнем небольшого количества дальнобойной артиллерии. К тому же крайне ограничен запас боеприпасов.
Исходя из этого, не следует ожидать большой эффективности от артиллерийского обстрела.
Спорной представляется возможность достижения этого и за счет авиации. Пример с таким мегаполисом, как Лондон, подтверждает это».
«Из архивных дневников ленинградцев»:
«29 октября 1941 года.
Раздался вой сирены. Трамвай остановился. Пассажиры дружно побежали в укрытие, и я поковыляла вслед за всеми (автор дневниковой записи была ранена осколком в ногу 18 октября 1941 года на оборонных работах). Самолеты с черными крестами плыли у нас над головой. Грохотали зенитки, выли двигатели, падали и взрывались бомбы, горели пожары.
Наступил вечер. Но от разбушевавшегося огня было светло. Стало страшно. Возникла паника. Бежать было некуда: с одной стороны горящий завод, с другой – здание Арсенала и Нева.
Люди метались в поисках спасения. Тем временем самолеты развернулись и пошли на новый заход. Отчаянно били зенитки. Нужно было бежать, но силы оставили меня.
Я начала спотыкаться, страшно болела нога.
Вдруг какой-то парень, сжалившись надо мной, подхватил на руки и потащил за собой. Мы спрятались в маленьком павильончике общественной уборной.
Наконец-то немецкие летчики сбросили последние бомбы.
Самолеты развернулись и, набрав высоту, двинулись на свою базу. Им вслед завыла сирена, извещавшая об окончании налета.
Люди чуть отдышались и пошли по своим делам». (Н. О-ва – труженица блокадного Ленинграда)
Враг еще не перерезал сухопутные пути, ведущие к Ладожскому озеру, а запасы продовольствия в Ленинграде стремились к нулю.
Дело было в непредсказуемости Ладоги. Осенью 1941 года штормы на озере не утихали и снабжение города резко сократилось.
Из стенографической записи рассказа первого начальника Ледовой дороги Монахова В.Г:
«Ладожское озеро очень бурное, особенно в осенний период. Осенью обычно бывают такие сильные штормы, которые не дают возможности баржам пристать к пирсам.
Баржи, которые производили перевозку из района Кобона – Шельдиха, с восточного берега на западный, в район Коккорево – Осиновец, разбивались волнами».
Из книги Абрама Бурова «Блокада день за днем»:
«20 октября 1941 года.
Запасы продовольствия в Ленинграде катастрофически тают. Осенняя непогода затрудняет перевозку по Ладоге.
То, что доставляют в осажденный город несколько десятков транспортных самолетов, равносильно капле в море.
23 октября 1941 года.
Начавшаяся полоса осенних штормов окончательно прервала судоходство по Ладожскому озеру. В этот день шесть барж с грузом для Ленинграда оказались выброшенными на берег».
Фельдмаршала фон Лееба не оставляла забота об усилении страданий жителей Ленинграда.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«25 октября.
На Ладожском озере у противника имеется около 100 грузовых судов и барж общим тоннажем 25 тонн.
Ориентировочно, около 5000 тонн можно было бы потопить. При ежедневном рационе питания в 400 грамм это равно 2,5 миллионов порций еды.
Это является причиной необходимости наступления группировки немецких войск со стороны восточной оконечности шлиссельбургского выступа в сторону Волхова, так как таким образом будет прерван подвоз противником грузов к Ленинграду».
В тот момент 400 грамм «ежедневного рациона» это ленинградская норма выдачи для взрослого человека по рабочей карточке, а детей при потоплении транспорта на Ладоге фон Леебу удалось бы погубить в два раза больше. Их норма составляла 200 грамм блокадного хлеба.
Глава шестнадцатая. «Приговор приведен в исполнение».
Редкая средневековая осажденная крепость избегала наличия внутренних врагов и предателей. В двадцатом веке эта участь не обошла и блокадный Ленинград.
Городские власти, части НКВД, милиция, добровольные дружины были организованы и помнили о потенциальной внутренней опасности.
Бунта, восстания, массовых беспорядков, стихийной агитации в городе не происходило.
Первостепенная задача Гитлера – свержение советской власти, развал государственности провалилась. Наоборот, в это страшное время народ принял навязанную ему большевистским переворотом, по-сути незаконную, и в целом безбожную власть, принял как свою и воевал не только за Родину, но и за свою власть, за свои порядки, свое мироустройство. Гитлеровская пропаганда призывала бить комиссаров, а комиссар шел в атаку рядом с бойцами и сражался плечом к плечу. Стояли насмерть части НКВД, не очень популярные в народе. Городские власти ничего не скрывали от населения, не давали пустых обещаний и не покидали города. Воевали, как простые солдаты сыновья самого верхнего эшелона власти. Наш народ, с его обостренным чувством справедливости имя Иосифа Виссарионовича Сталина принял как символ. Шли в атаку «за Родину! За Сталина!». Это было честно и искренно. Мой дед и оставшиеся в живых фронтовики, которых я знала (и поверьте, эти мужчины ничего и никого не боялись), относились к Сталину с уважением, хотя им тоже было что предъявить. У многих из нас есть родовые обиды, но нельзя плевать в прошлое, нельзя плевать в последние слова, погибших в бою…
Если же говорить об открытом убежденном «классическом» враге, ждущем «немца», то такие «элементы» существовали. Но процент их в миллионном городе был ничтожен.
Из спецсообщения Управления НКВД СССР по Ленинградской области и городу Ленинграду от 6 ноября 1941 года № 9746» (выборочно):
«Последние дни перед празднованием 24ой годовщины Октябрьской Революции распространяется мнение, что к 7 ноября война будет закончена взятием немцами Москвы и Ленинграда…
1.Контрреволюционная группа из бывших людей, возглавляемая бывшим бароном Штакельбергом, готовится к приходу немцев и в этом направлении проводит антисоветскую работу…
2. Родственники белоэмигрантов Зайцевых – Бочагова и ее муж Соколов (сын бывшего директора царскосельской гимназии, в данное время командир взвода 26 полка связи) группируют вокруг себя бывших офицеров царской армии и командиров Красной Армии…
3. Контрреволюционная группа, возглавляемая художником Быковым, ставила перед собой задачу создания повстанческой фашисткой организации «Нацист».
Организация должна была оказывать вооруженную помощь немецко-фашистким войскам войскам для захвата Ленинграда.
4. Контрреволюционная группа из бывших людей в составе:
Жукова С.В. – начальника мастерской Райжилуправления Дзержинского района;
Жукова А.К. – сына полковника царской армии, бывшего служащего германской концессии «Мологолес» и другие – ставила своей задачей оказание помощи немецкому командованию путем деморализации тыла, распространения провокационных слухов…
5. Ликвидирована контрреволюционная организация «Русская партия», которая ставила своей задачей оказание помощи немцам в захвате Ленинграда и активное участие в органах фашистского городского управления.
Осуществлению вражеских замыслов помешал их арест.
Начальник управления НКВД ЛО комиссар государственной безопасности 3го ранга Кубаткин».
Исходя из текста, «тайные общества» (если таковые существовали не только на бумаге) никакого практического урона нанести не успели. Возможно, их «вредоносность» и боеспособность были сильно преувеличены. Скорее всего, произошла «утечка кухонной информации», а может быть в очередной раз прошлись по «бывшим».
Во всяком случае, прямой реальной связи с внешним врагом и фактов его руководства этими организациями установлено не было.
К этому моменту гитлеровцы уже не были заинтересованы в бегстве ленинградцев из города. Задача противника была проще и страшнее – тотальная смерть населения от голода.
Листовки врага уже не призывали к бегству из города или спокойному принятию неизбежной оккупации. Пропаганда среди гражданского населения была нацелена на запугивание, в посланиях чувствовалась неприкрытая злоба и ненависть.
Накануне празднования годовщины октябрьского переворота немецкие самолеты высыпали на Ленинград листовки такого содержания: «6-го доедайте соевые бобы, а 7-го приготовляйте гробы» (чувствовалась нехватка поэтов в стане врага).
Настоящий же внутренний враг наносил более страшные удары.
Пока поставки продовольствия – скудные, не способные насытить население, но способные поддержать его жизнь, поступали регулярно, деятельность точившего город изнутри врага была не заметна. Но в начале ноября1941 года обнажились последствия его злодеяний.
До конца октября 1941 года бушевали штормы на Ладоге и по водному пути были прекращены доставки продовольствия. Девятидневный перерыв в снабжении, как ни странно, не должен был бы оказать такого страшного удара по населению города. Уже в сентябре 1941 года вышло Постановление Военного Совета Ленинградского фронта «О дополнительных мероприятиях по снабжению населения». Было учтено и переведено в категорию продовольственного сырье пивного производства; отменено «двойное» снабжение – по карточкам, отовариваемым отдельно и в ведомственных столовых, приняты другие меры.
Нехватку полноценного зерна и муки восполняли введением в хлеб крахмала, жмыха. Из хлопкового жмыха получали молоко. Весь технический жир был учтен и перерабатывался в пищевой. Талоны на мясо отоваривались колбасой «растительного происхождения». «Мясные изделия» готовили из свиной кожи, перемалывались кожаные сумки, ремни, промышленные кожаные ремни от текстильных машин. С 20 октября 1941 года в примеси блокадного хлеба стали включать льняной жмых, отруби, овсяную, солодовую муку и муку из затхлого зерна. (Использование затхлого зерна в пищевых целях ранее было запрещено). С 13 ноября 1941 года в хлеб стали добавлять целлюлозу – клетчатку из древесины.
Но в первую очередь было сосчитан и учтен каждый мешок, каждый килограмм, каждое зернышко. Но и сам путь «каждого зернышка» к потребителю должен был бы находиться под строгим контролем. Пока строгим был только учет. Согласно учетным документам в городе к концу октября 1941 года, должен был оставаться запас продовольствия. Но запас хлеба оставался только на бумаге.
Ленинградцы столкнулись с тем, что значительное количество булочных было закрыто, а на дверях висели объявления «Хлеба нет».
В художественных произведениях, иногда довольно впечатляющих, обычно виновником подобного выступает злостная банда, связанная с немцами и предателями Родины. Банда вступает (или не вступает) в сговор с работниками торговли, массово печатает карточки, а хлеб уничтожает, чтобы вызвать бунт в городе. Так или иначе, детонатор – «враг извне». В реальности все было проще, наглее и поэтому страшнее…
Приведу два документа того времени.
Документ первый. Как объяснялась торговля по поводу нехватки хлеба в магазинах.
«Управление торгами по торговле продовольственными товарами г. Ленинграда № У- 01-2040 от 25 октября 1941 года.
Народному комиссару торговли РСФСР Павлову.
Комиссией управления продторгами в октябре месяце сего года были проведены опытные проверки в хлебобулочных магазинах Ленхлебторга для установления фактической усушки по хлебу и процента потерь при его реализации.
Каждая проверяемая партия хлеба подверглась пятикратному взвешиванию в течение 24 часов.
После каждого взвешивания хлеб изолировался и опломбировался с проверкой количества буханок.
При испытании были учтены все факторы, влияющие на усушку хлеба.
Одновременно от того же хлеба из общей партии, привезенной в магазин, проводилось
наблюдение за реализацией хлеба с учетом количества полученных хлебных талонов по каждой проверяемой партии и количеством полученных отходов.
По материалам испытания каждой партии установлено, что потери при сушке колеблются от 0,67 до 1,3 процента.
Причины колебания:
1. Различная температура мякиша от 14 до 19,5 градуса.
2. Различная относительная влажность помещения.
3. Различная влажность хлеба.
4. Различные условия хранения хлеба в отношении вентиляции изолированного помещения.
Надлежит отметить, что в практических условиях хранимого хлеба в магазинах не в изолированном состоянии, как проводилось при испытании, а общих подсобных помещениях, где циркуляция воздуха свободнее, потери при хранении будут больше.
Суммируя материалы по обоим отрезкам работы по усушке при хранении и при реализации, общий процент потерь составляет 0,91 усушка + 0,62 процента реализация, общие потери составляют минимум 1,35 процента.
Сопоставляя изменения условий работы в сравнении с довоенным временем, влияющие на увеличение естественной убыли, а именно:
1. Замедленная реализация (увеличение преходящих остатков).
2. Переход исключительно на весовой товар.
3. Переход исключительно на ржаной хлеб.
4. Повышение влажности выпекаемого хлеба.
5. Добавление примесей в муке 38-40 процентов, не содержащих клейковины, а потому быстро отдающих влагу при хранении.
6. Отпуск покупателю мелким развесом.
Считаю необходимым увеличить норму естественной убыли на весовой ржаной хлеб – 0,75 процента к обороту.
Начальник управления продторгами г. Ленинграда Коновалов». (ЦГАИПД. Ф. 4000.Опись 20)
Оказывается, дело было в том, что заложенный процент естественной убыли не соответствовал новым условиям. Более всего в приведенном тексте удивляет первая причина естественной убыли – «замедленная реализация» или «преходящие остатки». Раскроем секрет товароведческого оборота: «увеличение преходящих остатков или замедленная реализация в торговле – это наличие неликвидных товаров на складе, которые не выкупаются и не приносят прибыли. Такие товары замедляют оборот и увеличивают расходы на хранение».
Какие же «неликвидные», не пользующие спросом и одновременно увеличивающие убыль хлеба товары могли находиться в булочных блокадного Ленинграда?
Разумеется, такое объяснение не могло быть принято городскими властями на веру. Были проведены выборочные, а затем и масштабные проверки торгующих организаций.
Из «Приказа отдела торговли исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся № 133» (приводится частично):
«Произведенной активом профорганизаций, контрольно-инспекторским сектором отдела торговли исполкома Ленгорсовета, с участием районных отделов торговли, проверкой установлено в ряде торговых предприятий и предприятий общественного питания города Ленинграда преступное отношение к делу организации снабжения потребителей.
В магазине № 9 Василеостровского РПТ (директор Кашинцев А.С.) запрятаны товары с целью самоснабжения: кофе фасованный – 37 пачек, печенье «Крекер» – 50 пачек, папиросы – 125 пачек, яйца 35 штук и 1750 помидоров.
В магазине № 36 Василеостровского РПТ (директор Бахрак) по актам снятия натурных остатков за время с 18 июля 1941 по 25 октября 1941 года была обнаружена недостача: хлеба – 964 кг, яиц – 3251 штука, мяса 135,7 кг, масла – 16 кг, кондитерских изделий – 97,8 кг, мыла – 171,5 кг.
Виновные до настоящего времени не привлечены к ответственности.
В магазине № 82 Октябрьского РПТ (директор Соколов) продавщица Широкова систематически допускала обвес потребителей: на 1 кг конфет соевых – недовес 13 г, на 200 г сахарного песка – недовес – 12 граммов. На масло животное не предъявила талонов продовольственных карточек на 3 кг 133 граммов.
В магазине № 2 (директор Климочкин) того же РПТ наклейка товаров продовольственных карточек производилась на дому.
В магазине № 49 Выборгского РПТ (директор Сикачев) 7 ноября 1941 года по накладной № 8387 с базы поступило 25 кг конфет «Мишка на севере», из которых 15 кг было продано своим знакомым и работникам магазина.
В магазине № 1 того же РПТ (директор Федорова) был обнаружен в шкафу с грязной спецодеждой один ящик шоколадного драже весом 7 кг неоприходованного. Кроме того, при наличии шоколада «Золотой якорь», «Спорт» весом 94 кг, шоколад в продажу не был выпущен. Продавщица этого же магазина Быстрова отпустила дворнику магазина Иванову 475 граммов масла без вырезки талонов из продовольственной карточки.
Из-за неправильного хранения в магазине № 4 Смольнинского райпищеторга (бывший директор Иванов) было испорчено 190 кг масла кокосового.
В магазине № 27 Ленинградской конторы «Гастроном» (директор Герчиков) в продаже отсутствуют при их наличии в кладовой: дробь шоколадная – 5 ящиков, фруктовая помадка – 24 ящика, карамель «Ананас» – 12 ящиков, пряники «Ассорти» – 3 ящика, печенье «Смесь» – 1 ящик, развесное какао – 3 ящика, вино емкостью 0,5 литра и 0,75 – 51 бутылка.
Кроме того, из-за несвоевременной продажи (!) покрылись плесенью гуси и куры общим весом 70 кг.
На базе закрытых учреждений Петроградского РПТ (директор Литвиненко) преступно хранятся продовольственные товары: русское масло (топленое масло, которое при надлежащем хранении не портиться в течение трех-четырех лет. Прим. автора) в бочках находится на полу без настила на два сантиметра в воде; в кладовой без стеллажей лежали шпик, копчености, масло сливочное, сметана.
Снятием натуральных остатков на 9 ноября 1941 года обнаружена недостача: свинины – 13 килограммов, шпика – 4,5 килограмма, сахарного песка – 2,9 килограмма…»
Проверка также установила, что детские дома, больницы, ясли подавали заявки на получение продовольственных товаров, завышая фактическое наличие детей или больных.
Конечно, не все были преступниками, но выявили жуликов уже после того, как они своими деяниями унесли сотни, если не тысячи жизней. И если кражу, продажу «налево», обман несчастных голодных ленинградцев нельзя простить, но все-таки как-то еще возможно было хотя бы понять мотивы содеянного, то небрежное бессмысленное «гноение» продуктов сытыми и равнодушными людьми в блокадном городе, на мой взгляд, не лучше людоедства.
Как много сил и самих жизней было отдано за то, чтобы доставить это продовольствие в голодающий город – враг и осенний шторм топили баржи; водолазы пытались его спасти, погружались в ледяную воду Ладоги и доставали мешки с мукой со дна озера. По свидетельству первого начальника Ледовой дороги генерал-майора Василия Георгиевича Монахова груз, поднятый со дна водолазами был вполне пригоден для пищи: «Мука смачивалась, получалась небольшая корочка, которая не пропускала воду».
Высококалорийные грузы доставлялись самолетами, за которыми тоже охотился враг и не все долетали до Ленинграда. Но эти люди знали, что переживают ленинградцы и забывали о собственных жизнях.
Из блокадного дневника ленинградской школьницы:
«Мою бедную Сильву (собаку) украли и съели. О кошках говорят как о лакомстве (но, увы, их нет). Мама болеет, стала, как тень. Она все старается для нас, а сама недоедает. Я стараюсь ее поддержать. Неужели она не выживет?»
Из документальной книги Павла Николаевича Лукницкого «Ленинград действует»:
«Голод, холод и тьма. На днях брат с помощью дворника зарезал нашу любимую собаку, зырянскую лайку Мушку». (Неделю назад перед этим событием отец писателя уверял, что никогда не позволит убить и съесть любимую собаку – пришлось).
Давно ли еще невозможно было представить себе, что будем питаться собачиной! Теперь все предрассудки отброшены. Видел вчера среди объявлений о продаже вещей и такое: «Куплю хорошую собаку-овчарку. Инженер такой-то». Прочитав объявление, усмехнулся. К чему такая точность: овчарку, да еще «хорошую»? А чтобы не предлагали маленькую! Кошки стали самым лакомым блюдом ленинградцев, но мало счастливцев, которым удается раздобыть собаку или кошку!»
Из блокадного дневника инженера службы движения Октябрьской железной дороги»:
«В Ленинграде подвоза продуктов нет. Запасы иссякли, и мы считаем за счастье кусок жмыха. В Ленинграде голод! Неприятель рассчитывает взять нас голодом. Недавно получил письмо от сестры, где она жалуется, что живут плохо: едят только картошку и хлеб!
Я рад письмам. Они сюда попадают с большим трудом на самолетах. Но это письмо возмутительно! Мы рады жмыху, мы начинаем пухнуть от голода, а там им не нравится картошка и хлеб! О, если б они знали, как мы жаждем картошки и хлеба!».
Из книги «Дела и люди Ленинградской милиции» группы авторов, составитель А.Т. Скилягин:
«Огромную работу зимой 1941-1942 года проделали сотрудники ОБХСС. Ими был выявлен и разоблачен целый ряд хищнических групп в торговой сети райпищеторгов и в тресте хлебопекарной промышленности города. Работниками милиции за короткий срок у расхитителей было изъято более 6 тонн муки, 200 килограммов крупы, 43 килограмма соли, 77 килограммов масла,248 килограммов мяса, более тонны картофеля, 1000 пачек папирос, 107 кусков мыла».
Из рубрики « В военном трибунале». Газета «Ленинградская правда» от 13 декабря 1941 года:
«Заведующий кладовой одной из столовых Ленинграда Р-ко В.Ф. и руководящий повар этой же столовой Ш-ев по договоренности со старшим бухгалтером районного треста столовых С-вым А.В. систематически в течение двух месяцев расхищали путем уменьшения порций выдаваемых обедов и запутывания отчетности продукты питания.
В результате разных воровских комбинаций ими было похищено большое количество мяса, хлеба, сахара и других продуктов питания.
За эти преступления С-ов, Ш-ев и Р-ко приговорены трибуналом по закону от 7 августа 1932 года к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение».
Глава семнадцатая. Усть-Тосненская наступательная операция.
«Стонет имя твое, Тосна река,
Тосна река, бьют огнем берега,
И поднимается вода от крови дедова полка»
Несмотря на то, что в конце октября 1941 года наступление врага на тихвинском направлении сбавило темп, силы противостояния были настолько не равны, что перспектива взятия Тихвина противником оставалась более чем реальной.
Поэтому войскам Ленинградского фронта не оставалось другого выхода, как пробивать блокаду изнутри.
31 октября 1941 года Военным Советом по директиве Ставки № 002984 от 14 октября 1941 года принято решение о проведении операции, направленной на разгром группировки противника севернее Синявино, освобождение станции Мга и переходу в общее наступление на Тосно.
55 армии Ленинградского фронта, в 329 стрелковом полку 70ой стрелковой дивизии воевал мой дед, было поручено проведение Усть-Тосненской наступательной операции.
Первоначальной боевой задачей 55 армии ставилось очистить берега реки Тосна от противника, захватить переправы через реку, и в дальнейшем, овладев Усть-Тосно, селом Ивановское, селом Покровское, продолжить наступление в направлении Мги на соединение с 8ой и 54 армиями Ленинградского фронта.
Напомню, что Усть-Тосно, села Ивановское и Покровское составляли мощную систему узлов сопротивления противника. Оба берега реки Тосна были оборудованы инженерными оборонными сооружениями и насыщены долговременными огневыми точками. Река Тосна сама по себе являлась естественной оборонительной преградой, и оба ее берега находились под контролем гитлеровцев.
Поскольку боевая задача была поставлена не просто сверхсложная, но и без огромных жертв практически невыполнимая командование предоставило три дня на подготовку, то есть на тренировку частей в условиях максимально приближенным к предстоящему наступлению.
После проведения учений по взаимодействию пехоты, танков и артиллерии части 55 армии 2 ноября 1941 года получили боевые задачи.
70я стрелковая дивизия, в которой воевал мой дед, должна была наступать двумя эшелонами. Первый эшелон совместно с приданными танками должен был обеспечить «безостановочное движение пехоты с криками «ура», захватить реку Тосна и прикрывать огнем с западного берега второй эшелон дивизии, которая будет переправляться на восточный берег, который было необходимо «прочно закрепить за собой. «В дальнейшем 70 стрелковая дивизия выходит на рубеж Кирпичный завод (с запада), западная окраина Ивановская» (Из плана подготовки мероприятий наступательной операции на 3 ноября 1941 года штаба 55 армии»
Штабом 55 армии был разработан «распорядок дня» наступления.
В 8 часов 15 минут 3 ноября 1941 года начинался «период разрушения (пристрелка)». «Пристрелка» длилась три часа. Далее следовали пятнадцатиминутный авианалет и получасовая артподготовка. В 12.00 в атаку выдвигалась пехота, танки и рота автоматчиков.
Из журнала боевых действий Ленинградского фронта:
«3 ноября 1941 года. 55 Армия – части Армии левым крылом в составе: 125, 268, 90 и 70 стрелковых дивизий заняли исходное положение для наступления в общем направлении с задачей овладеть Покровское, Ивановское. В 12.00 части Армии перешли в атаку. К исходу дня 3 ноября 1941 года 70 и 90 стрелковые дивизии подошли вплотную к реке Тосна, продолжая уничтожать оставшиеся огневые точки противника».
Из боевого донесения № 126 Штаба 55 армии:
«Части Армии в центре и на своем левом фланге с утра 3 ноября 1941 года (согласно плана) перешли в наступление с задачей на своем левом фланге выйти на восточный берег реки Тосна и к исходу дня 3 ноября 1941 года достигли:
1) 125 и 268 стрелковые дивизии успеха не имели. Противник встретил их движение из противотанкового рва и с рубежа, что юго-восточнее рва сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем и наступление дивизий свелось к огневому бою»
Половину наступающих частей 55 армии остановил противотанковый ров. Только это очень серьезное, практически непреодолимое препятствие не позволило осуществить полностью задуманное на 3 ноября 1941 года наступление 55 армии.
По просторам интернета несколько лет назад бродила статья «Кому был нужен противотанковый ров?» Основная идея автора, как я ее поняла (могла и не расшифровать, поскольку пишущий задавал больше вопросов читателям, чем давал ответов) заключалась в том, что 55 армия огромными жертвами (соглашусь) из дня в день (абсолютный факт) штурмовала (да) никому не нужный противотанковый ров.
Итак, кому же был нужен противотанковый ров? В первую очередь противнику. Поскольку без взятия этого противотанкового рва нашими войсками было невозможно овладеть западным берегом реки Тосна и переправиться на восточный берег, то есть выполнить первую часть Мгинско-Синявинской операции, направленной на прорыв блокады Ленинграда, умирающего от голода города.
Этот противотанковый ров, который в наши дни еще можно отыскать по еле видимым очертаниям, в ноябре 1941 года станет последним пристанищем для тысяч наших воинов.
Из боевого донесения штаба 55 армии:
«70я и 90я стрелковые дивизии к 22.00 3 ноября 1941 года (по донесению дивизий) выдвинулись к западному берегу реки Тосна, но полностью его не очистили от противника. Усть-Тосно также оставалось в руках противника».