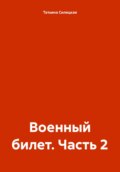Татьяна Александровна Силецкая
Военный билет. Часть пятая
После излечения в госпитале, в связи с состоянием здоровья, был направлен на должность заместителя генерал-инспектора Главного автобронетанкового управления.
Затем были бои за Северный Кавказ, Воронежско-Ворошиловоградская и Воронежско-Касторченская операции, Курская битва, Орловская наступательная операция, битвы за Днепр, Донбас, Мелитополь, Корсунь-Шевченковсая операция и другие битвы, в которых ярко проявился талант и знания Ивана Гавриловича Лазарева. Женой генерала была популярная певица Александра Васильевна Прокошина. Иван Гаврилович всю войну возил с собой патефон и в редкие минуты отдыха ставил пластинки и слушал голос жены. Мать Александры Васильевны вместе с сыном (деверем генерала Лазарева) немцы заживо сожгли в сарае вместе с женщинами и детьми деревни Митинка летом 1941 года. Сын генерала – Владимир Иванович Лазарев погиб в боях за Родину – сгорел в танке. Война не щадила ни бойцов, ни генералов, нанося раны и в плоть и в душу…
Из боевых приказов Ленинградского фронта:
«Приказом по войскам Ленинградского фронта от 13 ноября 1941 года за № 677 командующий 55 Армией генерал-майор танковых войск Лазарев И.Г (Иван Гаврилович) освобождается от занимаемой должности и зачисляется в распоряжение Военного Совета Ленинградского фронта.
Заместитель командующего Ленинградского фронта генерал-майор артиллерии Свиридов Владимир Петрович, освобождаясь от занимаемой должности, допускается к командованию 55 Армией.
Генерал-майор артиллерии Свиридов Владимир Петрович прибыл и с 14 ноября 1941 года вступил в командование 55 Армией».
Глава двадцать четвертая. «Спасибо ленинградцам за помощь москвичам» или «нам нужны пушки»
Генерал-майор артиллерии Свиридов видел, что для обеспечения продвижения войск 55й армии не хватало, прежде всего, должной поддержки артиллерии.
Не хватало шквального огня артиллерии, так называемого «огневого вала», непрерывной контрбатарейной борьбы, без которой было невозможно добиться успеха в войне нового типа, а ее таковой уже признали. Только «ураганный» огонь артиллерии мог предоставить пехоте возможность взятия узлов сопротивления, но такой огонь требовал неистощимого количества боеприпасов.
Из боевых документов 55 армии:
«Оценка противника на левом фланге Командующим от 14 ноября 1941 года:
Продвижение днем (провод войск) почти невозможен. Огневой вал нашей артиллерией держать не можем, а как только прекращается огонь нашей артиллерии – противник открывает сильный огонь по нашим войскам, вынуждая их залечь».
Почему же прекращался огонь нашей артиллерии – единственное прикрытие пехоты? Дело в том, что существовал суточный лимит расхода снарядов, который не зависел ни от продолжительности боя, ни от его напряженности, ни от важности боевой задачи.
Из книги немецкого военного историка, офицера вермахта, генерал-майора бундесвера Эйке Миддельдорфа «Русская военная кампания»:
«Во время маневренных наступательных операций немецкой армии в 1941-1942 году русская артиллерия не могла, по крайней мере, в ходе быстро развивающихся боевых действий, обеспечить превосходство в огне. И хотя в принципе тактика действий дивизионной артиллерии, точнее, необходимость ее тесного взаимодействия с пехотой и танками в Красной Армии хорошо осознавалась, но при ведении боевых действий своего воплощения это не находило».
Более чем осознавалась необходимость взаимодействия артиллерии с пехотой, но если нет снарядов – никакая осознанность не поможет.
Блокадный Ленинград ежедневно выпускал танки, пушки и другое вооружение, все виды артиллерийских снарядов, снабжал всю воюющую страну и первую очередь Москву.
Кризис на Ленинградском фронте происходил в разгар битвы за Москву.
Только за 30 дней ленинградские предприятия отправили на московское направление более четырехсот пушек, тысячу минометов разного калибра и более сорока тысяч бронебойных снарядов. Ленинградские войска получали боеприпасы по «остаточному» принципу и расходовали снаряды строго по лимиту.
Стенограмма разговора Москва –Ленинград «по прямому проводу»:
– У аппарата Маленков. Здравствуйте. Говорю по поручению товарища Сталина, нам очень нужны полковые пушки, 120 мм минометы и 82 мм минометы. Скажите, можно ли сейчас немедля отправить это вооружение по ладожской дороге обратным рейсом машинами и подводами…
Хотелось бы все получить скорее и больше. Нам нужны, конечно, и 50 мм минометы, о них не говорю только по соображению трудностей перевозок, прежде всего, поэтому говорю о полковых пушках, 120 мм минометах и 82 мм минометах…
– Здравствуйте, товарищ Маленков, у аппарата Кузнецов. Переброску полковых пушек, 120 мм минометов автотранспортом по Ладожскому озеру и далее по фронтовой дороге мы решили начать немедленно. Для этого в ближайшие два дня будет организована колонна машин в количестве не менее пятидесяти, которые будут возить вооружение до станции Подборовье, а обратно повезут к нам боеприпасы.
Параллельно с этим не прекращаем отгрузку полковых пушек и минометов, правда, в последние дни в связи с плохой погодой к нам прибывает мало самолетов. Установленная для нас программа по пушкам и минометам будет обязательно выполнена…
– Сколько и в какие сроки вы нам дадите пушек и минометов?
– До 20 декабря отгрузим примерно 100 пушек и 120-150 минометов 120 и 82 мм.
– Шлите возможно больше, чем скорее и больше вышлете, тем быстрее сумеем помочь, у нас только за этим задержка…
– Мы ни в одну из наших дивизий не даем, а все отгружаем вам. Я должен сообщить, что первая декада декабря месяца по производству пушек и минометов у нас прошла неудовлетворительно из-за нехватки электроэнергии, так как мы подбираем все остатки угля и торфа. Вынуждены были законсервировать работу почти всей текстильной промышленности и целого ряда других предприятий – только для того, чтобы обеспечить производство пушек и минометов.
– Есть ли что-нибудь существенное на фронте? Еще товарищ Сталин просит вас наряду с полковыми пушками и минометами также посылать телефонное и телеграфное имущество для дивизий и армии, можно ли это также отправлять по ладожской дороге?
– На фронте существенных изменений нет. Телефонное и телеграфное имущество ежедневно отправляем самолетами, а также кабель.
Постараюсь. Я буду отправлять каждый день шифровками отчет, что мы отгружаем.
– Очень хорошо, у меня все. Все передаем вам горячий привет. До свидания.
– Вам всем также передаю горячий привет. До свидания».
В разгар битвы за Москву Ленинград отправил в столицу более четырехсот полковых пушек, тысячу минометов разных калибров и около сорока тысяч бронебойных снарядов.
В конце ноября 1941 года командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков прислал телеграмму: «Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами».
Возможно, напрашивается вывод, что все боеприпасы «съедала» битва за Москву. Это не совсем так.
Из книги А.В. Бурова «Блокада день за днем»:
«Наши войска начали наступление с целью овладеть Малой Вишерой. Хотя проводилось оно на значительном расстоянии от Тихвина, это первый этап очень важной для Ленинграда тихвинской операции, только освободив дорогу Тихвин-Волхов, можно хотя бы в минимальном объеме снабжать через Ладожское озеро осажденный Ленинград продовольствием, оружием и боеприпасами».
12 ноября 1941 года войска 52й армии не просто начали наступление, а добились значительных успехов. В ходе боев была разбита 126 пехотная дивизия вермахта,
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«12 ноября 1941 года.
В населенном пункте Вишера (южнее Малой Вишеры) попал в окружение разведывательный батальон 126-й пехотной дивизии. Нет возможности направить туда резервы с других участков фронта. Остается надеяться, что 126я пехотная дивизия сама сможет вызволить разведывательный батальон из окружения.
Сохраняется надежда на то, что завтра общая обстановка нормализуется за счет наступления на восточном участке фронта 10го армейского корпуса».
Надежды покойного фельдмаршала не сбылись
Из журнала боевых действий 52 армии:
«Войска армии с утра 12 ноября 1941 года после артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление, и к концу дня вышли на рубеж Барская Вишерка, Пустая Вишерка, Новый, восточная окраина Малая Вишера, южная окраина Красная Вишерка.
Артиллерия в течение дня поддерживала наступление всей армии и производила налеты на Малая Вишера, совхоз Красный Балтик, Глумно, Красная Вишерка.
Авиация производила разведполеты, штурмовые действия. Всего – 57 самолетовылетов.
Уничтожено 535 солдат и офицеров противника.
Наши потери: убито 104 человека, ранено – 456».
Не буду перечислять разгромленную и захваченную технику противника – дело не в этом. Дело в причине успеха – непрерывная мощная поддержка артиллерией с земли и авиацией с воздуха. И боеприпасы не считали и не экономили, потому что отбить у врага Тихвин означало спасти Ленинград от голодной смерти.
Глава двадцать пятая. Фон Леебу испортили настроение.
Победоносное настроение командующего группой армий «Север» было подпорчено действиями войск Ленинградского фронта.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«12 ноября 1941 года.
Противник наступает по всем направлениям.
В полосе ответственности 122й пехотной дивизии (фронт 55 армии Ленинградского фронта) ему удалось вклиниться на очень большую глубину.
Атаки с плацдарма Выборгская («Невский пятачок») частично привели к прорыву наших позиций.
Противник перебрасывает войска на Тихвинское направление, а также с востока на участок пред финским фронтом.
Он атакует растянутые фланги 126й пехотной дивизии и 250 испанскую дивизию
Общая обстановка:
Противник, по всей видимости, считает, что способен изменить ситуацию в свою пользу и сможет прорвать кольцо окружения Ленинграда.
Он стремиться сдержать наступление 21й и 1й пехотных дивизий вдоль берегов Волхова и изолировать участок фронта наших войск восточнее Волхова.
Положение группы армий остается очень напряженным, так как нет резервов».
Возразить невозможно. Командование Ленинградским фронтом подтверждает.
Из журнала боевых действий Ленинградского фронта:
«11ноября 1941 года.
Закончена переправа первого стрелкового полка для 168 стрелковой дивизии, сформированного распоряжением (8й) Армии.
Левобережные части в 10.30 перешли в наступление и к 16.00 ведут бой: 265 стрелковая дивизия на северной окраине Арбузово, опушка леса северо-восток, 20 стрелковая дивизия перешла железную дорогу у южного песчаного карьера; 168 стрелковая дивизия ведет бой за противотанковый ров между песчаными карьерами.
На правом берегу реки Нева производится переправа второго стрелкового полка для 168 стрелковой дивизии, сформированного командованием Фронта.
12 ноября 1941 года. Левобережные части к 15.00 перешли в наступление и к 17.00 левым флангом вышли на линию первой высоковольтной линии, западный берег озера и песчаного озера, отметка 11,6.
Правофланговые части ведут бой на прежних рубежах.
12 ноября. Части 70 стрелковой дивизии, 147 (ударный) стрелковый полк 43 стрелковой дивизии и 59 ударный полк 85 стрелковой дивизии, продолжая наступление, к 16 часам вышли на западный берег реки Тосна от железнодорожного моста до Усть-Тсно. В Усть-Тосно идет бой».
И все-таки сознание фон Лееба не допускает вероятности прорыва блокады Ленинграда изнутри.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«13 ноября 1941 года.
Противник все еще не оставляет попыток и тем самым надежды вырваться из Ленинграда.
Он, возможно, чувствует, что в случае, если ему в эти дни не удастся достичь успеха, то его шансы будут уменьшаться по мере нашего продвижения на нижнем Волхове.
Он будет вынужден признать, что в результате будет ликвидирована любая возможность его доставки в Ленинград подкреплений.
Вследствие этого он и сегодня атаковал большими силами с плацдарма Выборская. Сильные атаки пришлось отражать и 122й пехотной дивизии».
Возможно, я не совсем точно уловила тонкий логический вывод покойного фельдмаршала. Он, что, действительно, считал, что войска Ленинградского фронта идут в атаку от отчаяния, просто пробиваются из окружения, оставляя город, «вырываются из Ленинграда», спасая свои жизни?!
Глава двадцать шестая. Ударные полки.
Не прав был фельдмаршал, ой как не прав, принимая атаки Ленинградского фронта за действия отчаянно обреченных.
В предыдущих главах было рассказано о создании сборных ударных полков 55й армией в ноябре 1941 года. В Красной Армии вспомнили традицию формирования частей «ударников» – «батальонов смерти», «дружин смерти», которая сложилась в годы Великой войны 1914 -1918 годов в царской армии России.
Ударные полки 1941 года – отборные части, собранные исключительно на добровольной основе, для прорыва обороны противника. В РККА и советской армии назывались позже «штурмовыми» частями.
Как бы ни называли эти части, но набирались они исключительно из добровольцев. Какое–либо принуждение запрещено. Так было во время «батальонов смерти», так же продолжилось в 1941 году. Именно на принципе абсолютной добровольности настаивал Верховный Главнокомандующий, и этот принцип соблюдался неукоснительно. Никто не скрывал от бойцов, что потери ударных частей доходят до 90 – 95%.
70я стрелковая дивизия, в которой в это время воевал мой дед Мельников Александр Андреевич, собрала всего 60 человек добровольцев. Для одной из лучших дивизий фронта – удивительно небольшое количество на фоне остальных частей армии. Например, 125я дивизия собрала 534 добровольца, 85я дивизия – 688 человек, в 43й дивизии 901 человек выразили готовность влиться в ударный полк. Дело в том, что Военный Совет 55 армии ранее вообще освободил 70 стрелковую дивизию от предоставления добровольцев «ввиду немногочисленности дивизии и больших ее потерь». Более того, 70 стрелковая дивизия уже выводилась в резерв.
Из журнала боевых действий Ленинградского фронта:
«70 стрелковая дивизия сменена частями 43 и 85 стрелковых дивизий и выводится в резерв Армии».
Бойцы 70й стрелковой дивизии, только вышедшей из боя, на поле которого осталась большая часть их товарищей, настаивают на своем участии в ударных отрядах и добиваются согласия командования. Так сотня бойцов 70й стрелковой дивизии 10 ноября 1941 года была включена в состав 147 ударного стрелкового полка 43 стрелковой дивизии.
Добровольцы знали, что вероятность не вернуться из боя составляет почти 100%, но также почти на сто процентов 70я стрелковая дивизия состояла из ленинградцев.
Так что выводы о спасении собственных жизней нашими солдатами покойный фон Лееб сделал неправильные…
Но понять его можно – с вражьей стороны никто не верил, что Ленинград выдержит и что движет этими людьми.
Последний раз 147 ударный полк 43 стрелковой дивизии, в который «охотником» попал мой дед, упоминается в боевых документах 16 ноября 1941 года. Левофланговые части 55 армии в тот день продолжали вести бой «по очистке западного берега реки Тосна»
Из боевых донесений штаба 55 армии:
«Дивизии продвинулись за день наступления 16 ноября 1941 года на 50-100 метров к железнодорожному мосту.
147 ударный полк преодолел проволочное заграждение, продвинулся на 50-100 метров.
Наличие активных штыков на 16 ноября 1941 года:
55 стрелковый полк – 1160 человек;
7 морская бригада (ОбрМП) – 1495 человек;
125 стрелковая дивизия – 786 человек;
268 стрелковая дивизия – 720 человек;
90 стрелковая дивизия – 269 человек;
70 стрелковая дивизия – 560 человек;
85 стрелковая дивизия – 1043 человек;
От 43 стрелковой дивизии данных не поступило, но ввиду больших потерь состав ориентировочно считать до 600-800 штыков». Сколько бойцов оставалось в 147 стрелковом полку можно только догадываться. Ни 147, ни 59 ударные полки более в документах не упоминаются.
Пора пояснить, кто такие «активные штыки» Красной Армии. Впрочем, это поясняет сам штаб 55 армии.
Из распоряжения Штарма 55 за № 0160:
«Для упорядочения учета личного состава, исчисления активных штыков, вооружения и боевой матчасти, на основе указаний Штаба Ленинградского фронта, Штаба 55 Армии даны своим распоряжением следующие указания всем начальникам штабов, соединений и отдельных частей армии:
1) В число активных штыков включать всех бойцов, с каким бы оружием они не были (пулеметчики, минометчики, стрелки, всадники и т.д.).
В это понимание не входят: повязочные, хозяйственные, санитары, шоферы, ездовые – все кто не принимает непосредственного участия в бою.
2) В число активных штыков включать всех, кто должен идти в атаку с криком «ура».
Глава двадцать седьмая. «Срочно требуется колючая проволока».
13 ноября 1941 года ленинградцы узнали о четвертом снижении норм отпуска продовольствия. Рабочие горячих цехов имели право получить 450 граммов хлеба в сутки, рабочие и инженерно-технические работники – 300 г; служащие – 150; иждивенцы и дети – 150 г.
Моя бабушка со стороны отца – Зинаида Александровна Лапинская как служащая получала 150 грамм, на руках у нее была больная пожилая мать и четырехлетний сын. Итого – 450 граммов блокадного хлеба на троих…
Новость о снижении норм потрясла не только ленинградцев. Забеспокоились и враги, и вот по какому поводу.
Из журнала обер-квартирмейстера 18й армии:
«14 ноября 1941 года.
Срочно необходима колючая проволока, так как Финский залив замерз, и здесь возникла сухопутная линия фронта, через которую теперь может проникать гражданское русское население;
Необходима защита от проникновения беженцев из Ораниенбаума и Петербурга путем открытия огня (с дальней дистанции), так как не может быть и речи об обеспечении их продовольствием. Вопрос лишь в том, где (а не если) эти гражданские лица умрут от голода».
Финский залив действительно замерз, и покрылось ледовой корочкой Ладожское озеро. Но по его льду побежало не голодное «гражданское русское население», а на тихой скорости прошли сначала люди в военной форме, затем проехали сани на конной тяге, а затем начал ходить и автомобильный транспорт. Зарождалась Дорога жизни. Никто так ее никто еще не называл, эти слова появляться потом, а пока это был единственный возможный путь, соединяющий Ленинград со страной, которую будут называть Большой землей…
Из «Приказа по тылу Ленинградского фронта. Об организации строительства Ледовой дороги по Ладожскому озеру мыс Осиновец – маяк Кареджи № 0164 13 ноября 1941 года»:
2. Дорогу проложить по трассе мыс Осиновец – маяк Кареджи с учетом двустороннего движения автомобильного и тракторного транспорта. Ширина проезжей части дороги должна быть не менее 10 метров.
В районе станция Ладожское озеро и маяк Кареджи устроить перевалочные базы, открыть питательно-обогревательные пункты, установить масловодогрейки и пункты техпомощи автотранспорту.
4. К работе по устройству ледяной дороги приступить с 14 ноября сего года, произведя усиление льда путем искусственного намораживания с учетом окончания ее постройки одновременно с ледоставом.
К работе приступить с 14 ноября 1941 года и постройку вести форсированным темпом».
Немцы всерьез такую «авантюру» не воспринимали. Единственное, что могло допустить воображение противника – передвижение по льду пеших колонн.
Из книги А.В. Бурова «Блокада день за днем»:
«Вчера (13 ноября 1941 года) было принято решение о строительстве ледовой дороги, а уже сегодня к Ладожскому озеру выехала оперативная группа во главе с военинженером 3го ранга Б. В. Якубовским.
И хотя по данным воздушной разведки на Ладоге появился лед, разведчики увидели только водную гладь».
Ранним утром 22 ноября 1941 года по тонкому ладожскому льду прошли первые машины, они привезли первые 33 тонны продовольствия для голодающего города. Ничтожная капля для миллионного города, но именно такие капли перевешивали чашу весов жизнии смерти, победы и поражения…
Из стенографической записи рассказа первого начальника Ледовой дороги Монахова В.Г:
«Как только лед стал немного подмерзать и стал толщиной 14 см и больше, я, Лагунов и подполковник Степанов прибыли на лед, организовали колонну автомашин и пустили через Ладожское озеро. Было солнце, но с утра морозило. Машины благополучно дошли до того берега. Было организовано 50 автомашин. Все машины ушли, но вернулись назад только три. Все остальные или застряли на льду, или не могли дойти.
Почему это получилось? Потому что утром был морозец, а часов в 11-12 пошел дождь, наступило потепление, изменился ветер, появились в большом количестве трещины, и лед ослабел. А ведь это была лучшая колонна, были отобраны лучшие кадры.
После того как машины не могли ходить по льду, Военный Совет решил выделить для Ладоги большое количество лошадей. Можаев вынужден был обучать своих бойцов запрягать лошадей. И там, около двух суток возились, пока не обучили запрягать»
Все наладится, и вскоре в отдельные дни по Ладоге будут двигаться десятки тысяч автомобилей. Пока же тонкий неустойчивый лед озера не позволял Ледовой дороге оказать существенную помощь в снабжении Ленинграда.
Ладогу немцы за глубину, размеры и непредсказуемость называли Ладожским морем и поверить в реализацию постоянно действующей Ледовой дороги не могли. Тому имелись основания.
Из стенографической записи рассказа первого начальника Ледовой дороги Монахова В.Г:
«Чем интересен режим Ладожского озера? Тем, что лед имеет устойчивость. В чем эта устойчивость выражается?
Первоначально, когда лед имел недостаточную толщину – сантиметров 30-40, то создавались большие трещины, причем они тянулись до 8-9 километров. Эти трещины были несколько меньше тех, которые получаются, когда вода разрушает лед. Они были сантиметров 15-20 на протяжении нескольких километров, и чем больше в районе такой трещины производится движение, тем больше она разрушается, поэтому трассу или дорогу переносили метров на 150-200 в сторону. Поэтому Ладожская трасса несколько раз переносилась с одного места на другое.
Следующей особенностью льда являлось то, что лед имел в течение зимы три отдельных периода. Первый период – с момента образования льда или ледостава до момента, когда он покрывается снегом. Причем этот период тянется несколько месяцев. Если взять тот год, когда была организована Ладожская ледовая трасса, то такой период шел с конца октября до середины декабря, даже до конца декабря».
Возможно, отсутствие достаточной толщины льда на Ладоге и непредсказуемость начала работы Ледовой трассы повлияло на решение Военного Совета Ленинградского фронта от19 ноября 1941 года снизить нормы выдачи продуктов.
Прошло всего 6 дней с четвертого по счету урезания норм продовольствия. Ленинградцы ждали обратного – повышения норм. Официально ничего не обещали, но ходили слухи, и на «черном» рынке были продукты. Значит, откуда-то они поступают. Так рассуждали жители осадного города. Увы, улучшения не предвиделось…
Из постановления Военного Совета Ленинградского фронта «О снижении норм хлеба 19 ноября 1941 года» № 00409:
«Совершенно секретно
1.Во избежание перебоев в обеспечении хлебом войск фронта и населения Ленинграда установить с 20 ноября 1941 года следующие нормы отпуска хлеба:
Рабочим и ИТР 250 грамм
Служащим, иждивенцам и детям 125 грамм
Частям первой линии и боевым кораблям 500 грамм
Летно-техническому составу ВВС 500 грамм
Всем остальным воинским частям 300 грамм
2. Выдать в третьей декаде ноября 100 грамм сухофруктов и 100 грамм картофельной муки по детским карточкам
3. Во изменение постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 14 ноября 1941 года установить с 20 ноября 1941 года сего года суточный лимит расхода муки и примесей – 510 тонн, из них населению Ленинграда – 310 тонн, Ленинградской области – 31 тонну, войскам Ленинградского фронта – 144 тонны и частям КБФ – 25 тонн».
Ленинград погружался в самую страшную лютую зиму 1941-1942 года. Таких нечеловеческих страданий не переживал ни один город нигде и никогда…