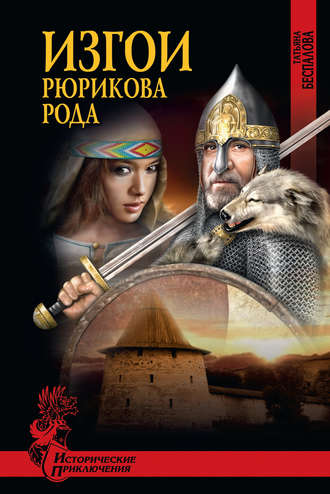
Татьяна Беспалова
Изгои Рюрикова рода
– Быть по сему! – Твердята поднялся со скамьи, отвесил хозяину поясной поклон. – Княгине привет от меня передавай и пожелание…
– Погоди, друже! – черниговский князь выглядел смущённым, отвел взгляд, уставился в чёрное оконце. – Не кланяйся, а сослужи… Я уж сумею отплатить.
– Говори, Владимир Всеволодович! Я рад помочь! За чем дело стало?
– Есть у меня родич дальний. Молодой годами, но старый умом богослов, иконопочитатель. Многим наукам научен, разными языками владеет, женой моей привечаем. Апполинарий Миронег – вот имя сего доброго отрока.
– Отрока? – изумился Твердята.
– Отрока! – подтвердил князь. – Зелен душой мой Миронег, молод, не окреп ещё духом. Потому желаю направить его в Царьград, в риторское училище, дабы постигал там глубину богословских наук и вернулся бы к нам укреплённым большей премудростью. Вижу, сомневаешься в моих словах, Демьян Фомич?
– По пути к тебе встретил я человека, похожего на Миронега. Встретил возле корчмы праздношатающимся…
– Тебе не в тягость будет мой Миронег, – князь возвысил голос и Твердята в тот же миг смирился. – Всем снабжу его. Дам и коня, и денег, и грамоту к царьгородскому патриарху. Забери только его, друже, из Чернигова. И пока не поумнеет назад, на Русь, нипочем не отпускай!
* * *
Посад смотрелся в воды Десны крутыми крышами теремов, тонкой вязью резных подвесов, цветными куполами звонниц.
Площади, поросшие травкой, свежая зелень палисадников, заборы – всё знакомое, виданное и всё чужое совсем. Эх, вовсе другие над этой речкой небеса. Эх, снова увела его беспутная судьба из Новгорода. Снова покинул купец родные стены, на этот раз твёрдо зная, что назад уж больше не вернётся.
Более суток не отпускал от себя купца черниговский князь. Более суток расспрашивал и сам рассказывал, стараясь наскоро наверстать года, проведённые в разлуке, пока наконец не разрешил по городу побродить, на субботнее торжище полюбоваться. Вот и пришёл купец на черниговский посад, ведя золотого жеребца в поводу. В тот час солнце давно уж перевалило за полдень, и чистые июньские небеса изливали на городок свежую синь, щедро сдобренную зноем.
Черниговцы уж и расторговались, и наигрались, и по домам успели разойтись. На базарной площади остались лишь самые упрямые. Возле кузни, под соломенным навесом толпился народец. Там Твердята приметил златогривую кобылу, смиренную Касатку – подарок для Елены. Тут же топтался и боярин Никодим Каменюка, твердятова надёжа, глава его дружины.
– Касатку перековал, – важно заявил Никодим Селиванович. – Скот накормлен и обихожен, люди при деле, товар в сохранности. Когда тронемся к Переславлю?
– Чем скорее – тем лучше! – Твердята слушал речь Каменюки вполуха. Его внимание привлекла площадь на посадском торжище. Высокий шест, украшенный лоскутами разноцветной материи, и женщина под ним. Женщина казалась высокой и тонкой. Она стояла спиной к лесине. Лицо – смуглое, глаза – яркие, блескучие, будто самоцветные камни. Она могла бы называться красавицей, если б не глубокие шрамы, покрывавшие частым орнаментом её щёки и лоб.
– Половецкая княжна? – изумлённо пробормотал Твердята. – Откуда она здесь?
– Господин знаком с обычаями степных жителей? – спросил низенький вертлявый человечек в расшитом яркими узорами полукафтанье. Рукава его одеяния – широкие, отороченные дорогим куньим мехом – казались крылышками, которыми их обладатель то и дело взмахивал. Сам человечек – низкий, юркий – вертелся вокруг Колоса так, словно каждую минуту был готов пуститься в пляс.
– Кто таков? – сурово спросил Каменюка.
– Земятка, – ответило вертлявое существо. – Торговый человек, местный уроженец.
– Работорговлей промышляешь? – хмыкнул Демьян.
– Да какая там торговля! – Земятка скроил плаксивую гримасу. – Который уж день его преподобию бабу в услужение торгую, и никак не сойдемся в цене.
Земятка махнул широким рукавом. На противоположной стороне торжища, в широкой тени навеса для скота, бродил человек в просторной рясе, рыжеволосый, бородатый, нелепый.
– Его преподобие – праведной жизни человек. А имя его… – Земятка понизил голос до шепотка. – …Апполинарий. Не сказать, чтобы совсем дурак, но простоват, никак в толк не возьмёт, что дешевле чем за семь гривен я её не продам. Не могу!
– Апполинарий Миронег? – уточнил Твердята.
– Он! – отозвался Земятка.
– Почто же вы простого смерда священническими почестями одариваете? – возмутился Каменюка. – Разве этот… человек рукоположен?
– Откуда ж мне знать? – смутился Земятка. Торговый человек опустил нос к земле, надвинул шапку пониже, спрятал глаза. – Миронег – родич князя… – пробормотал он.
Твердята рассматривал женщину, а та прикрыла глаза. Видно, в грёзы погрузилась. Твердята не мог отвести взгляда от шали цвета сохлых степных трав и силился угадать, во сколько же кос заплетены её волосы. Вокруг столба, прикованные к его основанию цепями, мотались несколько пленников мужеского пола. Твердяту они не заинтересовали. Навидался купец степняков, наторговался, навоевался. Но женщина! Чем она приманила его?
– Вольно же вам свободных людей в рабов обращать! – рычал Каменюка.
– Зачем надсмехаешься, новгородец? – обиделся Земятка. – Или заколоть их советуешь? Или обратно в степь отпустить? Нет уж! Они и хлебушек ели, и рыбную похлебку – так пусть теперь отработают харчи. А женщина молодая. Ты не смотри на её морду. То не морщины, а рисунки, узоры. Разукрасила себе морду для красоты. Женщина может работать, может скот пасти, может ткать. Не купишь ли, а? Неделю назад за двенадцать гривен её торговал, а теперь за семь уступлю.
– Почему же так упала цена? – оскалился Каменюка. – Нешто товар подпорчен? Нешто дурного нрава баба?
– Где ты видишь бабу, воевода? – насупился Земятка. – Это половецкая княжна!
– Так продай её Миронегу! – посоветовал Каменюка. – То-то я сморю, княжий родич с неё глаз не сводит. Нравится ему половецкая баба. Может и двенадцать, и пятнадцать гривен дать!
– С Миронега и резаны[6] не получишь, – буркнул Земята. – Который год по черниговским корчмам бесплатно пиво пьёт. Нет у него денег. Одно слово – святой человек.
Святой же человек между тем вознамерился подобраться поближе к невольнице. Бочком, осторожно, с опаской начал он перемещаться из-под скотского навеса к ярмарочному столбу. Женщина стояла неподвижно, не размыкала век. Длинные, тонкие руки её безвольно висели вдоль тела. Легкий ветерок играл полами её шали. Миронег подошёл уж совсем близко, уж растопырил на стороны руки. Неужто обнять пленницу вознамерился? Твердята видел плавный жест её рук, словно птица взмахнула крылами. Желтая шаль слетела с плеч половчанки, обнажила голову, словно сама собой тонкая ткань свилась в тугой, похожий на ладно сплетённую веревку, жгут. Твердята, онемев от изумления, наблюдал, как половецкая княжна одним метким ударом валит княжьего родича наземь, как спелёнывает его своею жёлтой шалью, как лупит нещадно невесть откуда взятой нагайкой. Ах, как проворно она двигалась, будто танцевала! Ах, как блистали вплетённые в её косы монеты!
– А косы у неё две, – проговорил Твердята, направляя Колоса в сторону схватки.
– Довольно, Тат! Перестань! – лепетал княжий родич.
Миронег валялся на стоптанной траве, не думая сопротивляться. На бледных устах его покоилась блаженная улыбка. Пленница стояла над ним, сжимая в руке короткую плеть из воловьих жил. Яркая одежда её была густо расшита шелками, грудь и запястья её украшали ряды разноцветных бус и браслетов. У Твердяты зарябило в глазах. Ах, чем же так сладко пахнет от неё? Свежескошенными травами? Первым мёдом? Майским цветением?
– Эй, купец! – стонал Миронег. – Купи половецкую бабу! Христом Богом молю, купи! Ах, если б обладал я, грешный, двунадесятью гривнами! Разве не отдал бы я последнее мироеду Земятке?!
– Двунадесятью? – возопил подоспевший Земятка. – Две седмицы минули, как привёл Дорофей треклятую бабу на Чернигов! Две седмицы минули, как достойнейший воевода мне её втридорога сплавил! Две седмицы баба эта с моею челядью воюет! Сколько казны я на неё извел! Всё-то ей не в пору! И то не так, и это не эдак. Две седмицы ты, Апполинарий, на торжище топчешься. И я сразу тебе сказал и ещё раз повторю: семь гривен ей цена! Какие там двунадесять! Божий ты человек, но так врать, так врать!
– Купи-и-и! – простонал Миронег, закатывая глаза. – Купи бабу, новгородец! У стремени твоего шагать стану до самого Царьграда, портки твои стирать стану, молить за тебя Господа каждый день стану! Купи же бабу! Купи! Хррр…
Твердята спешился, склонился над княжьим родичем. А Миронег уже спал, усердно выдыхая перегарный смрад.
Что ж поделать? Достал Твердята из кошеля семь гривен да и подал их Земятке.
– Ещё одну давай, – вякнул черниговский торгаш. – Видишь, божьего человека баба помяла. Теперь мне штраф десятнику платить. Ещё одну гривну давай!
Твердята не видел замаха. Однако плеть из воловьих жил звонко полоснула Земяткину рожу. Беличья шапка упала наземь, а поперек Земяткина сморщенного лба расцвел алый рубец. Твердята схватил женщину в охапку, что есть силы прижал её руки к бокам. Она оказалась твёрдой и гибкой, как та плеть, которую сжимала её рука. Твердята чуял: не составит ей особого труда вывернуться и из его каменных объятий. Переполосует и его, Твердяту, и вдоль, и поперёк.
– Довольно! – прошептал купец, склоняясь к её уху. – Не надо больше сечь этих дурней. Довольно!
– Ещё одну! – Земятка, пряча глаза, так и стоял с протянутой рукой.
– Расплатись с ним, Никодимушка! – повелел Твердята, усаживая женщину в седло.
Колос степенно шагал по уличкам черниговского посада, торжественно нёс на себе красивую пару, важно кивал златогривой головой встречным молодухам и мужикам. А Твердята рассматривал причудливое переплетение прядей в косах пленницы. Нет, никогда доселе не видел он таких волос. Все оттенки от тёмно-гнедого до блестящего вороного были в них. Кое-где проскакивали и серебряные пряди, будто в косы вплели нитки мелкого речного жемчуга.
– Кто ты? – спросил Демьян у женщины.
Она обернулась, глянула на него фиалковыми строгими очами. Голос её, низкий и гулкий, оказался подобен звону дальнего набата.
– Моё имя – Тат, – проговорила она. – Тат из племени Шара. Ты отдал за меня выкуп, витязь. Теперь я стану тебе служить.
* * *
Они вышли из Чернигова пятничным утром, двинулись навстречу восходящему солнцу, оставив за спиной большую реку, пристань, судна со спущенными парусами.
Твердята мечтал снова увидеть Днепр, услышать, как хлопает парус на ветру, как плещет растревоженная ударами вёсел вода. Страсть, как хотелось разогнать кровь молодецкой работой, видеть проплывающие мимо берега с редкими дымками деревень, смотреть, как нос ладьи разрезает заросли белых и жёлтых кувшинок, тихими ночами слушать, как плещет в заводях крупная рыба. Желалось ещё хоть однажды пройти днепровские плавни, вспомнить вкус тамошних диких вишен, вдохнуть пропахший сосновой хвоей воздух, быть ослеплённым сверканием белого песка на отмелях. А потом, когда ладьи выйдут на морской простор, встать на палубе в полный рост и чувствовать, чувствовать ногами, как могучая волна поднимает ладью, как несёт её плавно вверх и вниз, будто мать укачивает младенца. Грезил он, как войдёт в пролив, как увидит золотые купола и сады Царьграда, как падёт перед ним на дно пролива чугунная цепь, и город городов широко распахнёт перед ним свои ворота.
Но путь по Днепру закрыт, Царьград далёк, а ему не пристало вязнуть в грёзах. Отвагою и трезвым расчётом добро умножается. Твёрдою волей цели достигаются. Нет пути на светлый Днепр, да и быть по сему! На сей раз его удел – вести караван дикими степями.
Долго думал он и рассчитывал, снаряжая караван. Придирчиво выбирал возчиков и стражу. Щедрою рукой оплатил преданность и отвагу караванщиков. Каждый из них – воин, проверенный в кровавых стычках. Честность каждого многократно удостоверена делами, но всё же, всё же… Они пошли в обход обычного пути. Новгородские товарищи-купцы, провожая Твердяту в дальний путь, посмеивались в бороды, качали головами, бесшабашным храбрецом именовали – обида небольшая, терпимая. Но ведь и сам-то думал о себе по-разному. Виданное ли дело! Вложить всё состояние и повезти товар в обход обычных караванных путей. Да не обезумел ли Твердята? Не потерял ли голову из-за любви к царьградской деве? Разве не нашлось бы для него в Великом Новгороде достойной невесты? Потащился с большой казной, с грузом драгоценного меха за тридевять земель! Надеется на всегдашнюю свою удачу, на боевую выучку рассчитывает, на дружбу крепкую с Рюриковичами. Морщились богатые новгородцы, бороды жевали, но многие в дело вложились. Да и как не вложиться? Не Твердята ли трижды в греческие земли по варяжскому пути ходил? Не он ли договаривался с половецкими ханами? Не он ли разумел всякий язык, на котором только изъясняется человеческая тварь? Не Демьян ли Фомич плавал по морям тёплым и холодным, бурным и спокойным, проходил через проливы, прожил зиму в плену на диком острове, на краю ойкумены? И всё-то ему во благо! И отовсюду-то он возвращался в Новгород с прибытком! Кто знает, может, и сумеет он наладить торговлишку с южным краем земель, с неведомым новгородцам русским княжеством Тмутаракань.
Так припоминал Демьян Твердята новгородские дела, рассуждения хитроумных, оборотистых товарищей и радовалось его сердце, и волновалось, предчувствуя новую жизнь. А караван вился змеёй, повторяя русло малохоженой, полузаросшей дороги. Давно уж остался позади город Чернигов на берегу мирной Десны. Путь каравана пересекали другие речки. Переправы вброд или на плотах. И снова путь с холма на холм, вверх или под гору, лугом, полем, лесом, в сушь, под моросью и в ливень.
* * *
Колос, плавно переходя с ровной рыси на галоп, носил его по обочине лесной дороги из конца в начало каравана и обратно. С утра, ещё до света посылал Твердята вперед разведчиков. Снова и снова возвращались они с той же вестью: путь впереди чист. Смерды в близлежащих деревнях пасут скот и косят травы. Жито не заколосилось, время страды не настало. Всё спокойно.
Тат неотступно следовала за ним, умолила отдать ей на время подарок Елены – нежную Касатку. Ах, как понравилась новая всадница кобылке! Как ластилась к Тат Касатка, повиновалась без прекословий. Изящно изгибая стройную шею, Касатка борзо перебирала тонкими ногами. Пыталась приноровиться к поступи Колоса. Твердята чуял внимательный взгляд Тат и тяготился её вниманием, искал повод отослать половчанку в хвост обоза, туда, где в крытых войлоком кибитках ехали жены возчиков-муромчан. Но стоило лишь Твердяте обернуться, Тат опускала взгляд, укутывалась плотнее в свою шаль цвета сохлой травы, склонялась к шее Касатки, заговаривала с кем-нибудь из возчиков своим низким, похожим на отдалённый звон набата, голосом.
Ах, сколько разных полезных в дороге премудростей знала дочь степей! Она врачевала мелкие раны и ссадины так искусно, что уже на третий день пути не знала отбоя от болящих обозников. Тот руку поранил топором, другого вдруг стала беспокоить давняя рана, у третьего конь загрустил, четвёртого по ночам преследуют видения антихриста. Тат смотрела на них равнодушными фиалковыми очами, прикладывала к больным местам сухие, мозолистые ладони, шептала невнятное, почти не размыкая губ. Шрамы делали её лицо похожим на лик древнего изваяния – хозяйки капища, затерянного в дебрях Муромы. Движения её были расчетливы и точны, зрение остро, слух чуток, тело неутомимо. Тат, с утра сев в седло, не сходила с него до сумерек, когда караван останавливался на ночной отдых. Тогда Тат варила зелья и играла на дудке. Кроме нагайки, плетённой из выделанных особым способом воловьих жил, было у половчанки и иное достояние – тонкая длинная дудочка, вырезанная из корня заморского древа. Тат с превеликим мастерством извлекала из куска твёрдой деревяшки чарующие звуки. Десятник черниговского войска Ипатий Горюшок наловчился подпевать дудке. Да слова выбирал тягучие, жалостные – всё о войне да о разлуке, да о жизни постылой в плену на чужой стороне. Заслышав звуки дудки и горюшково пение, кони поводили острыми ушами, раздували ноздри, неловко переставляя стреноженные ноги, перемещались поближе к Тат. Взмыкивали в такт мелодии печальные волы. Даже овцы, прибранные в недальнем селе и приуготовленные на убой, переставали жевать подножный корм свой и уставляли на Тат бессмысленные очи. Да, Тат умела так ловко обращаться со скотиной, что велеречивый Апполинарий Миронег стал величать её «повелительницей стад».
Так уж повелось у них: Тат следовала за Твердятой, Миронег следовал за Тат. Ох, и тяжко приходилось порой любимому родичу черниговского князя! Его ленивый одр никак не хотел поспевать за резвой Касаткой, боялся мерин и ревности свирепого Колоса, кусавшего его за бока и за шею. Опасливый мерин норовил унести престарелого отрока в сторону от Твердяты туда, где на возах с провизией в мешках и корзинах хранились брюква и репа. Стоило лишь Миронегу задремать в седле, глядь – Тат след простыл, а черниговский одр уж протискивает седую морду между прутьями, пытаясь достать из корзины заветное лакомство. Миронег же, совокупно и всуе поминая и небесное воинство, и прихвостней сатаны, гнал его по заросшим муравой обочинам из конца в начало каравана и обратно с одним лишь стремлением: найти Тат и следовать за ней. Миронег взывал:
– О, прекрасная дева! Взнуздай и меня, выгони на пастбище твоих нег! Осчастливь! Готов твой грешный раб Апполинарий восхрапеть под тобою конем ретивым! Стань же, о, дева степей, моею всадницей! Воссядь на меня! Сожми гладкими ляжками своими мои бренные бока! Желаю ощутить каждой костью своею, каждой частицей греховной плоти, наслаждение быть тобою попранным!
– Уэкын шиоф! Уэкын мэзы, Аппо! – резко отвечала Тат, едва заслышав его голос. – Узэзыгъэзэщырэ!
Миронег жалобно пялился на Твердяту, неизменно находившегося неподалеку от Тат.
– Я знаю греческий и латынь, – бормотал едва слышно близкий родич черниговского князя, – на арамейском языке могу читать… Но речь этой женщины недоступна для моего понимания!
– Она посылает тебя в степь и в лес, – усмехался Твердята и, склонившись с седла, добавил так, чтобы посторонний не мог расслышать:
– Дева говорит, дескать, надоел. Отстань!
– Ну и я зык! – огорчался Миронег. – Собачий брех для русского уха куда как благозвучней!
Бывало так, что и Коменюка раздвигал бороду в ехидной усмешке, скалил крупные зубы:
– Слышь-ка, Демьян Фомич? Черниговский святоша словесно изголяется. Речь потоком льется. И вроде хвалы половчанке поет, и вроде бранных слов не употребляет, но есть в его речах похабный смысл!
Черниговский же воевода, Дорофей Брячиславич, неизменно оборонял богослова от новгородской напраслины, возвышал голос так, что всякий мог внимать его мнению.
– Нет похабства ни в словах Миронега, ни в его намерениях! – говаривал боярин Дорофей. – Старец Апполинарий – святой жизни человек. Даже в те времена, когда разум его замутнен зелёным вином, душа и намерения его всё равно чисты!
* * *
Начальствующие над дружинами не поладили друг с другом с самого первого дня – с того момента, когда стремянной холоп черниговского воеводы Дорофея Брячиславича не подал новгородскому боярину Каменюке воду. Это случилось в жаркую пору на половине пути между Черниговом и Переславлем.
– Не хозяин ты мне, – буркнул подлый смерд. – Не начальствующий. У тебя вон челяди не считано. Посылай своих за надобой или сам с коня сходи.
С тем и убежал к недальней речке. Каменюка с коня сошёл, скинул на руки припоздавшим холопьям кольчугу, внимательным хозяйским оком проследил за тем, как коня его обиходили, как караванные телеги установили своим обычным порядком – в круг, и отправился к реке. Следом за ним шествовал с чистым исподним наготове его доверенный холоп Игнашка Виклина да Твердятин слуга, дальний родич покойной жены, Грошута. Оба вели в поводу двух хороших хозяйских коней: огромного гнедого Воя и златогривого буйного Колоса.
Хорошо вечерком, после утомительного дня, проведённого в седле, окунуть усталое тело в прохладные, осенённые зеленью ив воды. Хорошо посидеть на бережку в покое и тишине, посматривая, как снует по-над илистым дном мелкая рыбёшка. Хорошо и человеку, и коню приятно. Стоят Вой и Колос в реке. Гривы в воде полощут, всхрапывают, наслаждаются. Над гладью вод золотые стрекозы туда-сюда проносятся, соловьи трели выводят. Благодать!
Так сидел боярин Никодим на бережку, конями любовался, покой вкушал. Глядь, а из воды оскорбитель его, черниговский холоп мордку высовывает. Доволен, чист телом, беспечен, лыбится, на берег лезет настырная тварь, будто бес из преисподней. Знатного новгородца и не замечает вовсе.
– Ах, ти! – вскинулся воевода.
– Чего? – отозвался холоп. – Чего тебе, дядя? Отвороти рыло. Не хочу, чтобы купеческий конюший на наготу мою пялился. Стыдно мне!
– Это я-то конюший? Вот я сейчас тебя взнуздаю!
С этими словами Никодим подскочил и не убоялся же подол рубахи замочить, изловил черниговского холопа, ухватил за загривок и давай кунать башкой в воду, приговаривая:
– Чуешь? Сладка водичка! Холодна водичка! Пей, тварь божья! Упейся, хам!
Черниговский холоп поначалу сопротивлялся, пускал пузыри да дрыгал ногами, но быстро затих.
– Нешто утопил христианскую душу? – осторожно заметил преданный Игнашка. – Вынь его морду-то из воды. Пусть вдохнет, не то…
И Каменюка вынул голову наглеца из воды.
Дав подданному черниговского воеводы продышаться, Каменюка велел Игнашке принести прут потолще. На истошный вопль холопа сбежалось разомлевшее от жары воинство. Резво бежали, наскоро озлобились. Кто пустыми древками махал, кто оглоблей, а черниговский воевода Дорофей Брячиславич успел из торока боевую булаву выхватить. Драка, шум, вой! Впопыхах бока друг дружке намяли, а кое-кого отменно в воде выполоскали. Колос на славу порезвился: и копытами дерущихся пинал, и рвал зубами с плеч рубахи, и толкался крутыми боками. Особо, по случаю, досталось от коня боярину Дорофею Брячиславичу. Злая скотина загнала главу черниговского воинства в воду по самую шею да и не выпускала до той поры, пока сам Твердята на берег не явился, верного своего друга за узду не ухватил да к порядку не призвал. Долго и с немалыми хлопотами извлекало черниговское воинство своего воеводу из реки. Увяз Дорофей Брячиславич в придонной тине. Да так увяз, что боевую булаву потерял, а сам едва не потоп. Новгородцы черниговским уроженцам воеводу выручать помогали, но и глумиться не забывали. Так и вылез Дорофей Брячиславич на берег безвестной речки, в жару до костей продрогший, в жидкой грязи изгвазданный, багровый от злых насмешек новгородцев.
– Хорошо же черниговское воинство! – рычал Никодим Каменюка. – Один борзый конь едва всех не перетопил с воеводой во главе. Горе-вояки! Черниговские михрютки!
С того дня завелась между новгородцем Никодимом Каменюкой и черниговским воеводой Дорофеем Брячиславичем сильная нелюбовь, долгая, длиной до самой смерти.
* * *
Караван двигался по полям и лесам, по окраинам Черниговской земли к окраинам земли Переславльской. Эх, темны в этих местах дубравы! Никак не одержат хлебопашцы окончательной победы над деревами. Сколько ни жги, сколько ни своди, ан пройдёт три зимы: глядь – и лес снова вырастает. Сначала бёрезки и осинки корешками за жизнь цепляются, а уж из-под их полога лезут ели да сосны. Стоит лишь немного зазеваться хлебопашцу, и вот он лес, снова вырос!
Караван идёт, оставляя назади деревеньки, сельца и придорожные корчмы. Изо дня в день слышит Твердята мелодии Тат, сложным узором вьются они по-над дорогой. Изо дня в день видит Твердята престарелого отрока Миронега, не взявшего с собой в дорогу никаких припасов, а набившего торокá одними лишь свитками. На границе Черниговской и Переславльской земель, в диких, поросших густым лесом местах пошел караван узкой лесной дорожной. И день идёт, и второй, и третий. Колёса телег о толстые корни запинаются, колючие кусты путников за одежды цепляют.
– Эх, не в ту сторону Владимир Мономах подался, – приговаривал Каменюка. – Вот они, глухие урочища, для волколачьего промысла пригодные. Вот, где хорошо прятаться, натворив злых дел!
Твердята смотрел по сторонам. Может статься, и прав Каменюка – старый караванщик! Темна вокруг дубрава. Стволы древесные частоколом, кроны в вышине смыкаются, свет дневной под себя не пропускают. Полумрак в лесу вечный, словно нет иного времени на свете, кроме смутных сумерек. А в сумерках какая жизнь? В густом подлеске, скрытые переплетением ветвей бузины и бересклета бродят странные существа. Неужто правду бают в Чернигове? Неужто волколаки снова завелись в этих местах? Странно в сумерках человеку, неспокойно. Мутится разум, слепнут очи. Чудятся человеку всякие напасти, и призывает он ангелов Господних на подмогу, а те будто и не слышат. Неужто сами сумеречным сном забылись? Уснуло доброе, дало дорогу злому. Шастает зло по дубраве, смотрит из кустов на проезжую дорогу, примечает беспечных или заносчивых в отваге, или тех, которые в подпитии. Выманивает, разлучает с товарищами-попутчиками и жрёт.
Идёт по лесной дороге Твердятин караван. Волы тянут гружёные телеги. По обоим сторонам воинский конвой: лучники, копейщики. Каждый верхом на хорошем коне, каждый в поводу заводного коня ведёт. Сняли с телег броню и оружие, в полную готовность к бою облеклись. Стерегутся! Утреннее солнце не шибко печет, можно и кольчугу на теле стерпеть. Можно и тяжкий шлем на лоб надвинуть. В середине каравана, верхом на пегом мерине, еле тащится Апполинарий Миронег, черниговский уроженец, родич князя, многие языки познавший ученый-богослов.
Скучно Миронегу, глазеет он по сторонам и ничего не зрит, кроме зелёных листов да коричневых ветвей. И ничего не слышит Миронег, кроме птичьего щебета да скрипа колесного, да конского храпа, да бряцанья сбруи. А Миронегу хочется картин живописных и звуков гармонических. Чтобы к заутрене и к вечере – звон колокольный, чтобы яркие девичьи платки и неистовые пляски. Бывало, на Чернигове сядет Миронег под забором. А внутри него уже полтора ковша зелена вина. А внутри него, как в хорошо истопленной бане, так жаром всё и пышет. А перед ним, в сполохах костра яркие подолы так и вертятся. Ленты, расписные кички, блестящие глаза – молодухи, девки! В такие вечера забывал Миронег и молитвы, и обыденную речь, и, тем более, брань. И бродил Миронег по узким уличкам черниговского посада до самой зари, предаваясь мечтам. Слушал милые голоса земляков, слёзно умолявшие его петь потише. Только под утро если не Мирониха, то Феоктиста уж непременно завлекала его к себе. Или, на худой конец, привратный страж, кланяясь в пояс, приглашал скоротать остаток ночи в коморке, под башней.
А ныне жёсткое село под задом. Купец тут – всему голова. И прозвище его Твердята, и сам он твёрдый, и десница его тяжела, будто палица. Как зыркнет ястребиным оком – так Миронегова душа в опорки прячется. Ни зелена вина, ни плясок тебе, ни игрищ, ни колокольного звона. Эвон сколько лишений, и всё ради того, чтобы купола Святой Софии царьгородской узреть. Да где они, те купола! За синем морем. А где стены родимого Чернигова? Бог весть! Кругом дремучий лес. Ни дороги уж не видать, ни колёсного скрипа не слыхать. Только ветер кронами шуршит. В жизни своей Миронегушка так далеко от дома не утекал. Спал либо у доброй бабы под боком, либо в собственной постели. А если и доводилось ночевать под звездами, то всегда тот забор наутро хорошо знакомым оказывался. А сны! Какие сны увидит путник, трясясь на спине непутёвой клячи! Эх, сейчас бы вина ковш! Но страшнее жажды тумаки сурового Твердяты. Утром чуть свет поднимает, сухой краюхой кормит, простой водой поит, в седло суёт. Сам рыбку только ввечеру вкушает, а зелена вина и вовсе ни-ни. Странное дело, как от столь скудной пищи сила в его плечах не иссякает? Как труды столь тяжкие выносит? И ведь весел! И ведь счастлив!
– Эх, с-с-сабака! – прошептал в досаде Миронег.
– Не собака, не лаюсь, – был ответ. – Лис моё имя. Лис Лисович, Пень Пенькович. А ты, паря, нешто от каравана отбился? Что там, в караване: кони, говяды, дружина?
Отверз Миронег глаза и узрел прямо перед собой лик страшный, бородатый, одноглазый, взрыкивающий.
– Кто ты? Человек или волк лесной?
– Лисица я, – отвечала борода, ехидно скалясь. – Слезай с кобылы, обормот. А ну!
Сильные руки выдернули Миронега из стремян. Упал Миронег, больно хребтом о шершавый ствол ударился. И потащило Миронега по земле, повлекло дальше в чащобу. Хотел Миронег на помощь призвать товарищей, но сунули ему в рот смоляную деревяшку. Ох, и горька ж древесная смола! Ох, и жёстки коренья вековых дерев! Ай, остры сучки!
– Молчи, руками не маши, телеух!
Глас это человечий или рык звериный? Ах, как больно сучья в бока вонзаются! А рожи-то у лесных жителей! А зипуны-то из звериных шкур пошиты! Хотел Миронег осенить себя крестным знамением, но и этого совершить не смог. Скрутили его, связали похитители. Примотали руци к бокам, влекут на смерть! Изловчился Миронег, напрягся, вытолкнул деревяшку изо рта языком, харкнул в небо криком истошным:
– Грабёж! Спасите! Режут! Тат!
* * *
Караван идёт через земли обжитые, жизнь идёт от чрева матери к могильному чреву, солнечный диск идёт по небосклону с восхода на закат. Листья падубов шелестят над головами караванщиков, или солнце палит нещадно, когда тащится караван от одной опушки до другой, через широкие поля. Ах, как прекрасны пажити и рощи в начале лета! Свежая зелень дружно колосящейся озими радует глаз. Головные повозки каравана, послушно следуя за литым крупом Никодимова коня, уже втянулись под полог вековой дубравы, в то время как охвостье ещё пылит по полевой стезе. Пыль, воловий мык, колёсный скрип, пропитанные потом рубахи. За караваном следует черниговская дружина. Летний зной заставил латников сложить доспехи на обозные телеги. Размякло воинство, дремлет в седлах. Замыкает шествие воевода Дорофей. Златогривый Колос носит своего всадника из начала каравана в конец, а из конца снова в начало.
– Эй, Каменюка! Всё ли ладно, старинушка? – кричит Твердята в голове каравана.
– Всё ладно! – отвечает новгородский воевода.
– Эй, Дорофей Иоаннович! Всё ли ладно? – ревет Демьян Фомич, возвращаясь к последним телегам обоза.
– Ладно! Отставших нет! – откликается черниговский боярин.
И снова скачет Твердята к голове каравана. Жарко всаднику, жарко коню. Скучен путь по мирным пажитям и давно уж, с самого утра, не видел Твердята Тат. Чем занята? Где-то запропала? Почему отстала, вдруг ли? Ах, вот и она! Вот её шаль цвета сохлых трав мелькает в густой тени дерев. Но зачем дева спешилась? Зачем медленно идёт, зачем крадётся вдоль лесной опушки? Зачем взяла в руки лук? Нешто надеется оленёнка подстрелить? Или узрела в густом подлеске неосторожных птенцов перепёлки?







