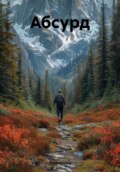Текелински
Протуберанцы
Часть 1
«Только когда ты достигаешь того уровня осознанности, той глубины своего созерцания, при которой почти физически начинаешь ощущать иллюзорность всего и вся, когда прошлое и будущее перестают быть чем-то действительно существующим, когда сам миг бытия, миг твоей жизни превращается в фантом, который невозможно ощутить ни одним органом чувств, когда даже движение в своей определённости, становиться таким же недостоверным и сомнительным фантомом, таким же недоразумением, как и полная безмятежность действительности, = тогда мир открывается для тебя во всей своей фатальной инертности, абсолютной нейтральности и чрезвычайной неопределённости. Пропадают всякие критерии, основы и доминанты, – всё растворяется в бурлящей пучине абсолютной реальности хаоса. И тогда всякое «великое мудрствование», всякое гениальное философствование, самое глубокое и серьёзное становится нисколько не важнее простого заливистого смеха ребёнка. И тогда всякая мелочь, и всякая глобальность, занимает своё место, и ты начинаешь оценивать всё, с чем тебе приходится сталкиваться в жизни, как игру порядков твоих собственных оценок, игру форм и оттенков твоих фантомов. И даже фатум, как аподиктическая необходимость мироздания, становится не таким серьёзным и фатальным.
И тогда для тебя в этом мире перестаёт существовать что-либо важное само по себе. Впрочем, как и что-либо неважное само по себе, и ты вдруг понимаешь, что каким бы не казалось серьёзным твоё глубокое философское воззрение, на самом деле оно нисколько не важнее простого полового акта влюблённых людей. Ведь теперь, ты в глубокой степени осознаёшь, что и то, и другое, лишь – удовлетворение твоей сакральной природы. Лишь удовлетворение различных её плоскостей, удовлетворение различных субъектов твоего внутреннего органоида. То есть удовлетворение своих потребностей различными в своих мотивациях, но одинаковыми в своих механизмах самодостаточными и полноценными «ганглиями осознанности», лишь условно отнесёнными к низменным, в отношении одних, и к возвышенным, – в отношении других. И что присущая всей спекулятивной и трансцендентальной философии важность и величие собственной мудрости, есть лишь важность и возвеличивание собственного мира воззрения, с его специфическими полями созерцания осмысления и оценками, и не более того.
И вот только тогда, когда в тебе просыпается этот демон противоречия, разметающий всё вокруг, и превращающий самые архаичные устоявшиеся истины в труху, – демон потустороннего мира, для которого должна выстроиться новая эстетика, новая платформа бытия, ты вдруг испытываешь настоящее удовлетворение, на которое только способен твой разум! Вкус этого, – несравним ни с чем!»
+++
«Друг мой! Ты говоришь, что нет никакого смысла писать, ибо невозможно написать ничего лучшего и значительного, чем ….
Поистине, таким людям как ты, лучше вообще ничего не читать. Ведь то, что ты разочарован в своих возможностях, идёт от того непонимания, что твои, столь значительные оценки чужих произведений, это твои и только твои способности оценивать, твои и только твои возможности слышать, видеть и чувствовать Великое! Ни одно произведение не имеет в самом себе, ничего конкретно величественного, ничего окончательно и истинно завершенного, и только твои оценки, твоё воззрение делает его столь значительным, столь запредельным и великолепным. А значит и талантливость, и даже гениальность всякого оцениваемого произведения, полностью соизмеряется с твоей способностью к талантливому и гениальному созерцанию. Придание произведению идеальной талантливости, талантливости самой в себе, вне воззренческой оценки наблюдателя, это такая же нелепость, как и то, что мир и его материальные предметы существуют сами по себе, вне нашего воззрения, и имеют свою собственную абсолютную идеальную форму.
Не суди наскоро и поверхностно о выше сказанном, вдумайся, и истинность этих слов откроется во всей своей простоте…»
+++
«Вы не найдёте в моих сочинениях ни полной истинности идеального воззрения, ни абсолютной гармоничности рационально-аналитического знания, ни тем более совершенной мудрости интуиции. Всё – только «человеческое…»
+++
«Во всяком мнении, как бы оно ни казалось абсурдно, на дне его котла всегда можно найти истину. Как и во всяком мнении, блистающем и переливающемся своей истинностью, на дне можно обнаружить откровенную ложь…»
+++
«Я знаю, что в моих произведениях много так называемой «воды». Но также знаю, что это необходимо. Ведь я, пусть неосознанно, стремлюсь к созданию аквариума, а не консервной банки. Ведь для того чтобы в «аквариуме» жило достаточно много «живых рыб», необходимо много воды. Мысли должны иметь пространство для жития, они не должны лежать, словно килька в банке бок обок».
+++
«Тот, кто способен к настоящей возвышенности человеческого духа, тот способен, как на настоящую возвышенную любовь, так и на совершенную искреннюю ненависть».
+++
«Настоящая возвышенность человеческого отношения, это когда ты, к примеру, в беседе с человеком, слушая его, совершенно забываешь о его принадлежности, как к полу, так и к статусу. Мало того, ты совершенно не допускаешь причастности его к чему-либо «низменному», включая не только естественные отправления духа, но и тела. Подобная утончённая возвышенность духа, сталкиваясь с естественными свойствами более грубого плана, отрынивает словно оголённый нерв, боящийся покрыться коростами. И это положение вещей относится не только к области трансцендентального построения и восприятия мира, но и ко всякой сфере человеческого, где только возможна бесконечно утончающаяся возвышаемость…»
+++
«Возвышающаяся над всем обыденным, тянущаяся к облакам «метафизическая иллюзия», не приемлет ничего грубого, ничего низменного. Она освещает своими лучами всё вокруг, обостряя в каждой душе стремление ко всему изысканному. И в то же время, отвергая всё грубое и пошлое, превращая даже всякую естественность, в нечто неприемлемое и недопустимое. Здесь рождались и расцветали не только «цветы великого», но и все «моральные сорняки».
Попробуйте представить себе Будду, занимающегося естественными отправлениями тела, или удовлетворениями своего либидо? Так в наших душах рождались кумиры и идолы, и становились – Боги! А как они умирали, в холодном пламени грубого низкого невежества, напоминать не надо…»
+++
«Надежда, – иллюзорная надежда! – Это, то единственное, что даёт тебе силы и желание двигаться дальше в этом абсурдном и безнадёжном океане реальности…»
+++
«Выстраивание мира трансцендентального различными «ганглиями» нашего единого рефлексивного сознания, чьи воззрения отличаются принципиально, ибо отличаются генетически, повторяют и олицетворяют динамику выстраивания мира феноменального «ганглиями» рассудка, берущими материал из образов, поставляемых слухом, зрением, обонянием и пр. Нам только кажется, что мы слышим, видим и обоняем один и тот же мир. Единым он становится апостериори, при всей иллюзии априорного его существа. Этот мир форматируется в нашем сознании благодаря синтезу «ганглий» рассудка и наших рецепторов, превращаясь в нашем сознании в объёмную действительность. То же относится и к другой категории «ганглий» нашего сознания, к рефлексивному осмыслению. Каждая «ганглия» нашего фолиомультофационного сознания моделирует свой мир, и затем, мир синтезируется в нашем мозге, становясь объёмным целым.
Благодаря наладке неких мостов между «ганглиями», индивидуализации и общей объективации, наш мир становится как разноплановым, так и обобщённым. Точно так же, как мир для нашего эмпирического созерцания слышимый, видимый, пахнущий, осязаемый, вкусовой и т. д. (оттенков бесконечное множество), а в целом обобщённо-объективный. Так мир для нашего мышления, – рациональный, идеальный, интуитивный и т. д., а в целом – разумно-субъективный.
В нашем разуме «ганглии» могут рождаться и развиваться в зависимости от того, какому из направлений мы отдаём предпочтение в своих осмысливаниях, куда устремляет русло реки нашего сознания, наша воля. Условно говоря, куда приходит наибольшее количество «крови». Поэтому, собственно, для него нет ничего невозможного! Ведь в любой момент может появиться совершенно новая «ганглия», которая развившись, смоделирует вокруг себя совершенно новый мир. Это появление и развитие новой, не существующей до сих пор «ганглии», мы называем – Гением».
+++
«Неоценимая заслуга нашего «рационально – аналитического воззрения» в том, что никак, кроме как с помощью инструментариев «рационально – аналитического», мы не в состоянии передать образность своего «идеального», на страницах наших рукописей. То, что я пытаюсь сделать на этих страницах, было бы невозможно, не обладай я, хотя бы в малой степени инструментами «рационально – аналитического». И вот здесь, как раз играет роль образование, как необходимое условие, для возможности передачи всяких метафизических и трансцендентальных идей.
Свои сформировавшиеся образы «идеального воззрения», я трансформирую в «рационально – аналитические коды», раскладывая идею на составляющие, которые в состоянии воспринять бумага. Эти «составляющие», затем расшифровываясь вашим трансцендентным воззрением, снова трансформируются в разуме в «образы идеального», в нечто целокупно законченное. И пусть изначальная суть, по всеобщим законам трансформирования, изменяется до неузнаваемости, но всё же, это единственная возможность хоть как-то зафиксировать и передать «образ идеального воззрения» с помощью языка слова».
+++
«Чтобы стать «хорошим писателем» необходимо по преимуществу, больше читать и меньше думать. Чтобы стать «хорошим философом» необходимо больше думать и меньше читать. Ибо «хороший писатель» пишет для массового читателя, «хороший философ» же, в первую очередь для себя, и для того небольшого круга, которому будет интересна его глубина. И в том их принципиальная разница. И это только на первый взгляд, этот тезис – спорный. Кто осознает всю глубину этого различия, тот поймёт, почему у «хорошего писателя», в его трудах, как правило, мало глубины, и много музыкальной гармонии образности сюжета, и красоты хрестоматийно правильного слога, воплощающегося в художественно отточенное и слаженное изложение. У «хорошего философа», как правило, мало всего того, что так привлекает массового читателя, но всё это с лихвой компенсируется глубиной умозрения, и проникновенным угадыванием незримого и потаённого.
Всё это часть той парадигмы, в которой соотношение глубины и поверхности, для всякого созидающего творчества – дифференцированно относительно. Парадигмы, определяющей всякие поля искусства, на которых талантливое, отличается от гениального, именно этой соразмерностью, форм относительных парабол воззрения.
+++
«Взаимодействие вещей, на примере нашего разума: Желания – ищут возможности, возможности – рождают желания» …
+++
«Человек именно тогда стал настоящим человеком, когда начал ограничивать свою животную свободу, то есть когда обрёл ответственность. Но кем он стал, когда начал ограничивать свою психофизическую свободу, свободу своего духа и своего разума? …»
+++
«Тебя всё время мучает один и тот же неразрешимый вопрос: Что важно в жизни, а что не очень, что первостепенно, а что второстепенно, что по-настоящему достойно чтобы посвятить ему свою жизнь? И хотя ты понимаешь, что разрешить этот вопрос всё равно, что найти окончательную истину, – что найти «философский камень», но, тем не менее, этот вопрос периодически встаёт несгибаемым колосом в твоём воспалённом разуме. Ибо ты постоянно замечаешь, что всякая на первый взгляд «неважность», при определённом угле зрения становится наиважнейшей, как и всякая «важность», – переворачивается, высвечивая своё покрытое ракушками дно. И ты снова в недоумении…»
+++
«Чтобы заглянуть за грань, необходимо видеть эту грань, или хотя бы априори знать её. Ведь невозможно перелезть через забор, не видя его, – не будучи уверенным, что он существует. Мы, люди, очень хитрые натуры, мы сами для себя определяем условные границы, чтобы затем преодолевать их. Ведь мы подсознательно чувствуем, что иначе удовлетворение как таковое, – невозможно. В отсутствии естественных границ и препятствий, наше желание удовлетворяться, заставляет нас рисовать себе искусственные границы, строить для себя самих, номинальные и откровенно фальшивые препятствия».
+++
«Вы когда-нибудь задумывались, почему человек так склонен ограничивать себя, в чём смысл его самоистязания? Зачем нужна эта внутренняя напряжённость? Для усиления аффектов? Может быть. Но он не может не понимать, что усиление аффектов – опасно! Впрочем, когда это наша «воля» задумывалась над опасностью и останавливалась перед ней? Она скорее всегда стремилась к ней и жаждала её. Её «сила» всегда была прямо пропорциональна желанию опасности. (Или наоборот). «Слабая воля» лежит неподвижно под камнем, не смея высунуть носа. Для неё представляет опасность даже лёгкий ветерок. «Сильная же воля» – сама ищет бурю, чтобы насладиться той великой опасностью, которую несёт собой всякая буря.
Всякая сила, чтобы ощутить своё бытие и мощь, обязательно должна удариться во что-то достойное её. Другой возможности, чтобы почувствовать себя, у неё нет. Все разговоры по поводу того, что «сила» может не действовать и, тем не менее, сохраняться как «сила», – полные бредни. Ибо то, ныне повсеместное убеждение, что человек обладая определённой силой, может спокойно жить, не проявляя эту свою силу, и всё же оставаться сильным, я считаю именно бреднями. Как только в «силе» нет необходимости, она не минуемо засыхает. Её существование и её потенциал определяется только - необходимостью. «Сила» любого порядка, существует и развивается только при наличии объекта воздействия, то есть – врага. И вот мы опять пришли, к необходимости врага…»
+++
«Мы ищем главную причину алкоголизма, как ищем единственную причину меланхолии. Но у всякой страждущей души, могут быть различные причины бросаться во все тяжкие. Алкоголизм страшен не тем, что разрушает семью, ухудшает здоровье, выдавливает человека из выложенных и закреплённых в обществе порядков вещей, но в первую очередь тем, что человеку становиться не интересно жить на трезвую голову. Мир для него потихоньку закрывается, и жизнь становиться пустой и безрадостной. Всякие изысканные тонкие желания, возвышенные стремления, имеющие своей необходимостью некоторое напряжение сил, натыкаются на внутреннее – «зачем?!» Стремления – умирают. Трезвое проведение времени, в силу растущей пустоты, становиться тягостным. Внутренние силы затухают, душа – атрофирована. Потихоньку умирают последние надежды, мир давит своей фатальностью».
+++
«Жизнь – чреда страданий. Но представьте себе, какой была бы жизнь, в отсутствии всякого страдания, то есть, в отсутствии всякого желания…»
+++
«Рай – место удовлетворения всех желаний. Трудно представить себе, более адское место…»
+++
«Философ – политик, – смешон! Так как со своим идеалистическим мышлением, занимается рациональными вещами…»
+++
«Шизофренику, по крайней мере, не грозят муки одиночества…»
+++
«Почему мы ищем истину у древних? Ведь по логике вещей совершенство достигается со временем? И, казалось бы, чем дольше живёт человечество, тем больше набирает мудрости. И самые тонкие, самые выверенные истины, должны исходить от поздних поколений. Но, тем не менее, мы ищем мудрость у древних. Может потому, что подсознательно чувствуем, что «древние», как «пионеры философии», говорили исходя из чистой интуиции? Ведь во всяком осмыслении первична именно интуиция. Позже, она обрабатывается нашим рационально-аналитическим разумом, который наделяет идеальную мысль – «разумным порядком», и некоей обязательной целесообразностью. И она, приобретая свойства «практицизма» и «рационализма», теряет свою первоистинность.
Древняя цивилизация в целом, – цивилизация инстинкта. Нынешняя – всё более, и более разума рационализма. Древние были наивны, а значит, глубоки в самых сокровенных, самых скрытых от простого взора, вещах. Их душа не была нагружена под завязку «мешками полезности», «тюками – зачем» и «для чего». Их паруса наполнялись ветрами, идущими из глубоких пещер. Их инстинкты не были ещё так подавлены рациональными, практическими мотивами. У них ещё сохранялась некая «первородность духа».
Истинная мудрость вытекает подобно роднику, из самых глубин души. Позже этот «родник» вбирает в себя слишком много всего. Он вбирает в себя «соли практичной разумности», той, что делает человека способным выживать в толпе себе подобных. Но тем самым, отбирает у него искрящуюся чистоту, и глубину прозрачности, делая его поверхностным во всех отношениях, более приспособленным к практической жизни, а значит, к жизни мелкой, жизни поверхностной. Человек потерял «глубину первобытности», в угоду практической выгоде. Его разум всё более и более превращается в один из винтиков общего механизма, и он, механически реагирует на всё, в соответствии с разумной рациональностью толпы.
Древние знали истину потому, что черпали её из чистого источника познания, из собственной души, где сверкающая отблесками вода, где дно открыто для взгляда страждущего, где «карпы умозрения» медленно плавают в прозрачной стихии провидения.
И древние ценили эту истину, пока не появилась диалектика. Диалектика – это рациональное в идеальном. Её возникновение и развитие, на почве общего мышления, такая же закономерность, как возникновение и развитие математики, на почве рационального мышления. С возникновением в разуме человека «ганглия математического», появление диалектики, было лишь вопросом времени.
=Там, где впервые возникает торговые, (изначально обменные), отношения, там возникает необходимость в математике.
=Там, где впервые возникает интерес, там возникает необходимость в диалектике.
Возникла потребность придать всему номинал, нечто, что можно ощутить в ладони. Полезность во всём! Этот лозунг, как никакой иной объясняет развитие всего нашего мышления, от древности, до сегодняшнего дня.
И вот, на почве идеального мышления, которое не знает, что такое интерес, появляется Диалектика. И началось! – Распространение и развития «целесообразного разума» по всему свету. Вакханалии спекуляций, – игр с рассудком! В этой новой реальности, истина становилась чем-то, чем можно манипулировать, в угоду собственной латентной выгоде. Обменивать, продавать, и даже прикреплять словно кокарду, к головному убору.
«Рациональный разум» узурпировал власть, и возомнил, что может создавать свои истины, путём создания логических постулатов, и закреплять их очевидными неопровержимыми доказательствами. Где уже не сама истина играет первую скрипку, не суть, а то, как это преподнесено, то есть – форма.
В первородной истине важна не форма, но причина. – Откуда исходят её лучи, где питает свои глубины? Здесь форма не имеет значения. Ибо по большому счёту она, просто-напросто, не может быть определена.
Первородная истина, если она глубока, и идёт из самой сути вещей, не нуждается ни в каких доказательствах. Они только портят её, упрощая её, и, в конце концов, убивая…
Мы ищем истину у «древних» потому, что подсознание нам подсказывает: «Первый взгляд на вещь, всегда наиболее близкий к истине. «Идеалистический» интуитивный взгляд, – правдивее «практического», в нём мало заинтересованности, он почти не ошибается. И мы, где-то в глубине души, тоскуем по той чистой воде горного озера, со стайками серебристых карпов, и мечтаем, что когда-нибудь вернём себе «девственность природы собственного умозрения». Но все эти мечты тщетны, ибо «свинец» уже никогда не станет «ураном», а мы никогда не станем свободными от гнёта «рационального практицизма», в который окунулся, и уже практически в нём переродился, наш разум…»
+++
«Отличительная стагнация духа, на примере возникновения и становления религий. Сущность «старых вероучений», их внутренняя природа – ближе к «инстинкту». Относительно «молодые вероучения», всё более ближе к разуму, к практицизму. Отсюда и противоречивость «молодых вероучений». (Хотя, дело может и не в этом, но в том, что молодость вообще противоречива и воинственна в своей сути)».
+++
«Какой правды вы хотите от истории, если никакой правды нет даже в ежесекундной современной реальности. Какой истины вы ждёте от исторических артефактов, если истины нет, даже в формирующейся на твоих глазах, современности…»
+++
«Все что мы есть, все наши внутренние и внешние ощущения, то есть, весь внутренний и внешний мир, всё феноменальное и всё ноуменальное, есть суть отражение. Мы отражаемся во внешних предметах, они отражаются в нас. Никто никогда не сможет достоверно определить где «истинная сущность», а где его «отражение», кто в ком отражается, и кто кого на самом деле создаёт. Всё лишь – относительное взаимодействие, в котором не существует абсолютных форпостов и бастионов.
Вы когда-нибудь ставили одно зеркало перед другим? – Это, хотя и не точная, но достаточно наглядная модель нашего эмпирического воззрения и феноменального постижения. Модель взаимоотношения с самим собой, и с окружающим миром. Наша «действительность» – есть синтезированное отражение ноумена – в феномене, и феномена – в ноумене».
+++
«Всякое наше искусство есть то же самое «зеркало», отражающее многочисленные формы динамических сущностей, (ганглий), принадлежащих разумной и душевной организации наблюдателя. И всякое произведение совершенного искусства, – лишь совершенно вылитое мастером, – зеркало, способное чисто, без погрешностей, отражать всю палитру одной из сторон душевной организации наблюдателя, предрасположенного к восприятия собственного отражения.
Изобразительное искусство, или музыкальное, – вопрос лишь в определённых формах отражения, в «реагирующих ганглиях восприятия» наблюдателя, имеющих каждая свою сферу, своё поле обзора, и соответствующего метафизического образа вытекающего совершенства. Синтез этих разноплановых возможностей порождает новые формы искусства. Но они всегда определяются источниками, сенсорными возможностями определённого плана. То, что можно услышать, – нельзя ни увидеть, ни потрогать. То, что можно увидеть и потрогать, – нельзя услышать.
Но то, что существует лишь на полях трансцендентального опыта, невозможно ни потрогать, ни услышать, ни увидеть. (Литература, поэзия, философия). Здесь существуют и развиваются совершенно абстрагированные от эмпирики феноменального восприятия, формы искусства. И для того, чтобы найти собственное отражение в этих «зеркалах», необходимо развить совершенно новые «ганглии», – «ганглии трансцендентального опыта».
+++
«Знаете, какие произведения литературного искусства, я считаю совершенными воплощениями синтеза инстинкта и разума, идеального и рационального, трансцендентального и эмпирического, и отношу к самым великим когда-либо изготовленным человеческим духом, «зеркалам». «Зеркалам», в которых наверняка, каждый, кто будет в них смотреть, всегда будет находить что-нибудь до сих пор неизвестное, и, в сущности, до сих пор не существующее. Ещё не одно столетие люди будут находить здесь отражение не похожее на другие, ибо это всегда будет собственное отражение. Произведения, которые всегда будут трактоваться так, как на то способен смотрящий в них.
Ибо, как в изобразительном искусстве все, что написано символами, так в литературном «написанное притчами», – не имеет дна! А значит, не может быть до конца рассмотренным, до конца объяснённым и истолкованным. В первую очередь это, конечно же Библия. И вряд ли когда-нибудь её «общая наивность» кого-нибудь оттолкнёт. Кто ищет, тот обычно находит даже в «наивном», в «наивном» – прежде всего. Библия – есть воплощённое в слове отражение сути воспринимаемого нами мира, воспринимаемой действительности, невозможность познания которого до конца, невозможность вычерпывания этого колодца, отражено в невозможности окончательного познания Библейской апологии, доведения её до простого осмысления.
В каждой существующей и развивающейся культуре, на определённом этапе развития были созданы подобные «зеркала». От Востока до Запада, от Юга до крайнего Севера, – всюду, где укреплялся «человеческий клан», где созревало общее метафизическое сознание, возникали подобные «зеркала». И пусть они отличались своей кривизной и глубиной отражения, но, тем не менее, каждое из них всегда вызывало трепетное к себе отношение. Ибо только они, в эти тёмные времена, могли отразить всю глубину и совершенство человеческой души, только они могли спровоцировать человеческий дух на самое великое, только они были способны объединить вокруг себя всякое разрозненное стадо.
И в большинстве своём, такие «зеркала» выливались именно на основе религии. Ибо в тёмные времена религия всегда была источником и форпостом человеческого духа. Ведь только религия была способна твёрдые камни грубого невежества, превращать в утончённые ростки гармоничного цвета на полях всякого житейского опыта. И хотя и это должно быть пережито и изжито (и этого уже требует современный дух) но всё же уже в этом их величайшая заслуга.
Но не только религиозные поля осмысления были историческим источником и основанием для подобных «зеркал». Существуют «евангелие» антирелигиозного характера. Знакомы ли вы с «Заратустрой» Фридриха Ницше? Вы всё ещё полагаете, что «форма евангелие» может быть только в рамках определённой религиозной конфессии? Сталкивались ли вы когда-нибудь с Нострадамусом, с его катренами? Чем не «Евангелие»? Несколько иного направления, иной формы, ограниченное и разорванное на куски, но всё та же великая недосказанность и таинственная бездонность притчи. – То же «зеркало для героя»!
Эти «зеркала духа» вечно будут вызывать у нас восторг. Мы всегда будем получать наслаждение высшего порядка, заглядывая в эти «изогнутые гиперболические метафоры нашего духа». Здесь наиболее непосредственно наш разум, возбуждённый собственным отражением, услаждается своими догадками, удовлетворятся обнаружением и угадыванием собственных тонких форм и движений, собственной внутренней архаической гармонией. Мы всегда будем удивляться, и восторгаться этими воплощёнными в слово фолиантами судьбы. А по сути, восторгаться собственными глубинами, игрой собственного воображения, и способностями видеть слышать и чувствовать, за пределами эмпирического мира реальной действительности».
+++
«Как только ты начинаешь задумываться над тем, зачем собственно ты живёшь, для чего вообще дана тебе жизнь, ты тут же встаёшь на неверную дорогу. Ты встаёшь на тот путь, который неминуемо ведёт к абсурду. Ведь с таким же успехом можно задавать вопросы, вроде: Для чего существует материя и вообще всё сущее? В чём цель сущего, в чём цель бытия? Бытие – не может иметь цели. Ибо наличие цели, – подразумевает гипотетическое её достижение. А достижение есть – законченность. Законченность бытия – что может быть абсурднее?
Но в силу строения своего рассудка, человек не может не задаваться подобными вопросами. И на этом пути, в конце концов, он неминуемо приходит к Богу. Это последнее пристанище на пути к истине. Это то, что даёт хоть какую-то надежду на «целесообразность мира». По крайней мере, есть куда устремлять свой внутренний взор, есть основа для нашего действительного разума не дающая проваливаться в бездонную пропасть.
Но существуют вопросы иного порядка, имеющие иную «векторность», такие как: в чём суть нашего существа? Как мы существуем? И хоть эти вопросы так же не имеют конечного разрешения, но всё же периодически находят удовлетворение в нашем сознании и не приводят к «переворачиванию лодки». То есть не дисгармонируют нашу волю и всё наше существо».
+++
«Вечный диссонанс, как и окончательный консонанс – убивают волю, этот апологет бытия. Ведь суть воли – периодическая смена желания и удовлетворения. И всё, что не соответствует этому «вездесущему маятнику», этому балансу, – чуждо ей, опасно, а значит, противно…»
+++
«Любовь – есть Бог. Это выражение, в моём понимании символизирует собой апофеоз ощущаемости нами жизни, как некое выходящее за пределы физики мира, чувствование собственного тончайшего бытия, – бытия глубин собственной природы…»
+++
«Когда я берусь за какое-либо произведение, я совсем не представляю себе, что может из этого получится. Так, наверное, Бог совершенно не знал, что у него получится, когда взялся сотворить этот мир…»
+++
«Не к тайне, олицетворённой проекции «Великой пустоты», мы тянемся в нашей бытовой действительности, но к откровенности, к этой воплощённой иллюзии, к этому апологету всякой жизненности. Откровенность. – Вот именно то, что прельщает в человеке, что завораживает и околдовывает нас. Нет, не тайна, как непроглядная темень безотзывности, где брошенный камень никогда не отдаётся эхом, где нет отражения, в силу лукавой грубоватости душевного зеркала, но откровение, – сияющее чистотой и блеском отражаемой палитры, привязывает нас к объекту созерцания. Отсутствие «дощатых заборов» в душевном поле, открывает перспективы озарённости идеала душевной гармонии, в которой так легко, и где полёт одухотворенного вдохновения покоряет вершины и озаряет глубины, не отравленные таинственностью недоступного запределья. В откровенности, отражается вся глубина иллюзорности, вся твоя добрая сущность…»
Метаморфозы осмысления
= «Что есть перспектива бесконечности бренной жизни, – пред счастьем одного единственного мига?!»
= «Что есть надёжность всего возможного рационализма, – пред безнадёжной мимолётностью величественной парадигмы идеального просветления?!»
= «Что есть вечность бытия, – пред скоротечной реальностью твоей жизни, твоей действительности?!»
+++
«Каждая система, или сказать языком биолога так называемая «морфологическая единица», будь-то человек или человечество, есть совокупность, – альянс миллионов отдельных единиц, отдельных личностей, каждая из которых мыслит по-своему. Но в совокупности, в слиянии, даёт обобщённую разумность единицы следующего уровня. Хотите найти истоки мудрости нашего инстинкта, истоки нашей необъяснимой интуиции? Ищите их в клетках! – Там, в самой потаённой глубине, гнездятся истоки нашей мудрости…»
+++
«Почему тебе так необходимо признание, зачем оно тебе? Зачем ты непременно хочешь показать своё творчество людям? Тебе недостаточно того, что ты уже сам оцениваешь свои произведения достаточно высоко, что ты сам ценишь себя, как незаурядную личность? А может здесь кроется то недоверие своему собственному мнению? Ведь в силу того, что ты сам лицо заинтересованное, а значит, скорее всего, не можешь быть достаточно объективным в своих оценках к самому себе, и тебе просто необходимо мнение хладнокровного, незаинтересованного взгляда. Ведь тебе просто необходима независимая оценка, чтобы быть уверенным, в объективности собственной оценки. Тебе необходимо подтверждение? Кто же, кроме посторонних наблюдателей может дать такую оценку? Тебе нужна полнота оценки, и получить ты её можешь, лишь опубликовав свои произведения. Но дело в том, что и в этом случае ни о какой объективности речи быть не может. Во-первых, твою «кровь» вряд ли кто-нибудь поймёт и оценит. Во-вторых, о какой объективности ты вообще мечтаешь? Кто способен оценить это?!»