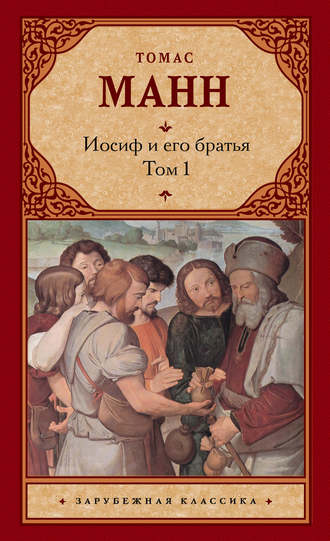
Томас Манн
Иосиф и его братья. Том 1
Условие
Иаков позвал на совет десятерых своих сыновей, вплоть до Завулона, и они все сидели перед Еммором, поднимали руки и качали головами. Старшие, которые задавали тон, были не такими людьми, чтобы сразу принять это предложение, как будто о лучшем они и мечтать не могли. Без всяких объяснений между собой они сходились на том, что нужно не спеша обдумать, как лучше поступить при таких обстоятельствах. Дину? Их сестру? Дочь Лии, только что достигшую зрелости, прелестную, бесценную Дину? За Сихема, сына Еммора? Тут, само собой разумеется, было над чем подумать. Они испросили себе срок на размышление. Они сделали это потому, что вообще любили заключать сделки не торопясь, однако у Симеона и Левия были еще свои особые задние мысли и смутные надежды. Ведь они отнюдь не отказались от старых своих замыслов, и то, чего еще не повлек за собой запрет на водоемы, могло, так думали они, приспеть благодаря Сихемовым желаньям и домогательствам.
Итак, три дня на размышление. И Еммора, несколько обиженного, унесли домой. По истеченье же этого срока Сихем сам приехал на белом осле в стан Иакова, чтобы довести до конца свое дело, как того потребовал от него потерявший охоту продолжать переговоры отец и как то вполне отвечало его, Сихемову, нетерпенью. Он вел дело не по-торгашески, совершенно не кривя душой и не скрывая, что буквально сгорает от желания обладать девочкой Диной.
– Просите чего хотите! – сказал он. – Просите не стесняясь – дары и вено! Я Сихем, княжеский сын, меня великолепно содержат в отцовском доме, и, клянусь Баалом, я дам, что ни скажете мне!
Тогда они сказали ему свое условие, выполнить которое надлежало до продолжения каких бы то ни было переговоров, условие, на котором они тем временем успели сойтись.
Тут нужно быть очень внимательным к истинной последовательности событий, отличной от той, в какой их позднее располагали и передавали пастухи в «прекраснословных беседах». Если верить пастухам, то Сихем сделал свое злое дело сразу и неожиданно и вызвал коварный ответный удар; в действительности же он решился действовать явочным порядком только тогда, когда люди Иакова несправедливо с ним поступили и он увидел, что его водят за нос, а то и вообще обманули. Итак, они сказали ему, чтобы прежде всего он обрезался. Это необходимо: таковы уж их убеждения, в их глазах было бы мерзостью и позором отдать свою дочь и сестру человеку необрезанному. Поставить это условие посоветовали отцу братья, и, довольный оттяжкой, которую оно сулило, Иаков не мог не согласиться с ним и по существу, хотя он и удивился такому благочестию сыновей.
Сихем прыснул со смеху и тут же извинился, прикрыв рот руками. И это все? – спросил он. – Больше ничего им не нужно? Ну, знаете! Да за то, чтобы обладать Диной, он готов отдать глаз, правую руку, а не то что такую безразличную часть тела, как крайняя плоть! Сутех свидетель, это действительно сущий пустяк! Его друг Бесет тоже обрезан, и его, Сихема, никогда это не смущало. Ни одна из маленьких сестер Сихема в доме игр и утех не посетует на такую нехватку. Можно считать, что дело сделано – и притом руками одного искусного во врачеванье священника из храма всевышнего! Как только тело его выздоровеет, он вернется! И он выбежал из шатра, делая знаки своим рабам, чтобы те поскорее подали ему белого осла.
Когда он снова явился, явился как можно скорее, неделю спустя, почти больной, еще не совсем оправившись от своего жертвоприношенья, но сияя надеждой, оказалось, что глава семьи в отъезде. Иаков уклонился от встречи с Сихемом. Он предоставил действовать сыновьям. Получалось, что он все-таки целиком принял роль беса Лавана, и он предпочел сыграть ее заочно. И что же сказали сыновья бедному Сихему в ответ на его бодрое сообщенье, что условие выполнено, что это не такой пустяк, как ему представлялось, а дело довольно тягостное, но что дело это все-таки сделано и теперь он ждет сладчайшей награды? Сделано-то сделано, сказали они. Очень может быть, что и сделано, они охотно верят. Но сделано не в надлежащем духе, без высшего смысла и пониманья, поверхностно, без значенья. Сделано? Возможно. Но сделано только ради брака с Диной, с женщиной, а не в смысле бракосочетания с «Ним». К тому же сделано, вероятно, не каменным ножом, как то необходимо, а металлическим, что уже само по себе ставит все под вопрос или даже сводит на нет. А кроме того, у княжеского сына Сихема есть ведь уже главная сестра во браке, есть ведь уже первая и праведная, Рехума, хевитянка, так что Дина, дочь Иакова, стала бы только одной из наложниц, а об этом нечего и думать.
Сихем заметался. Откуда они знают, вскричал он, в каком духе и с каким значеньем сделал он это неприятное дело, и почему они заговорили о каменном ноже только теперь, хотя обязаны были сказать об этом сразу? Наложница? Но ведь сам царь Митанни отдал свою дочь, Гулихипу по имени, замуж за фараона и отправил ее к нему с великой пышностью не в качестве царицы стран, царица стран – богиня Тейе, а в качестве побочной жены, и уж если сам царь Шутарна?..
Ну что ж, отвечали братья, то были Шутарна и Гулихипа. А сейчас речь идет о Дине, дочери Иакова, князя от бога, семени Авраамова, и уж она-то не может быть наложницей при шекемском дворе, до этого Сихем, подумав как следует, дойдет и своим умом.
И это Сихем должен считать последним их словом?
Они пожали плечами, развели руками. Не могут ли они порадовать его подарком, скажем, двумя-тремя барашками?
Тут его терпение лопнуло. Он вынес много неприятного и тяжкого из-за своего желания. Священник из храма оказался вовсе не таким искусником, каким он себя выставлял, и не избавил сына Еммора ни от воспаления, ни от лихорадки, ни от жестоких болей. И вот награда за все? Он выкрикнул проклятие, сводившееся к пожеланию, чтобы сыновья Иакова сделались столь же невесомы, как свет и воздух, проклятие, которое те быстрыми и ловкими движеньями постарались отвести от себя, – и бросился прочь. Четыре дня спустя исчезла Дина.
Похищение
«Знаешь ли ты об этом?» Надо соблюдать последовательность! Сихем был только распутным юнцом, падким на лакомства, не приученным отказываться от каких бы то ни было плотских желаний. Но это не основание всегда к величайшей его невыгоде принимать на веру каждое слово некоторых тенденциозных пастушеских сказок. Если история эта оставила на озабоченном лице Иакова такие глубокие следы, то как раз потому, что, хотя он первый же рассказал ее сокращенно и приукрашенно, веря в нее в таком виде, покуда рассказывал, – втайне Иаков отлично знал, кто первый помышлял о разбое и о насилии, кто с самого начала к этому и клонил, знал, что сын Еммора не просто похитил Дину, а начал с честного сватовства и, лишь будучи обманут, счел себя вправе сделать свое счастье основой дальнейших переговоров. Одним словом, Дина была украдена, похищена. Среди бела дня, в открытом поле и даже на виду у ее родни, к ней подкрались несколько горожан, когда она играла с ягнятами, заткнули ей рот платком, вскинули ее на верблюда и успели далеко продвинуться с нею к городу, прежде чем Израиль оседлал для погони верховых животных. Дина исчезла, запертая в доме игр и утех, где ее окружали, впрочем, неведомые ей дотоле городские удобства, и Сихем поспешно лег с ней в постель, против чего она даже не могла убедительно возразить. Она была существо серое, покорное, без собственного мненья и безответное. То, что с нею произошло, когда это произошло самым явным и энергичным образом, она приняла как нечто непреложное и естественное. Кроме того, Сихем ведь не причинил ей никакого зла, напротив, да и остальные его сестрички, не исключая Рехумы, первой и праведной, были приветливы с ней.
Но братья! Но Симеон и Левий, особенно они! Их ярость, казалось, не знала границ – Иакова, смущенного и подавленного, они просто измучили. Обесчещена, изнасилована, гнусно растлена – и кто? Их сестра, черная горлинка, непорочнейшая, единственная, Авраамово семя! Они изломали свои нагрудные украшенья, изорвали свое платье, надели мешки, рвали на себе волосы и бороды, выли, делали себе на лице и теле длинные порезы, придававшие им ужасный вид. Они падали на живот, били кулаками землю и клялись, что не будут ни есть, ни испражняться до тех пор, пока не спасут Дину от похоти содомитов и не превратят в пустыню место, где над ней надругались. Месть, месть, нападение, смертоубийство, кровопролитье – только об этом они и твердили. Потрясенному, озадаченному, мучительно растерянному Иакову, который, впрочем, чувствовал, что вел себя по-лавановски, и прекрасно понимал, что братья ждут скорого исполненья первоначальных своих желаний, было трудно сдерживать их, не рискуя получить упрек в недостатке чувства чести и отцовского чувства. Он тоже до известной степени участвовал в демонстрациях скорбной их ярости, облачившись в грязное платье и немного растрепав себе волосы, но потом постарался объяснить им, сколь мало толку в насильственном освобождении Дины, которое ведь не решит, а только поставит вопрос о том, так быть с изнасилованной и опозоренной. После того как она побывала в руках Сихема, ее возвращение, если хорошенько подумать, нежелательно, и гораздо мудрее обуздать свое горе и подождать действовать – на разумность такого поведения указывает ему, Иакову, как он считает, и печень заколотой для гаданья овцы. Несомненно, что при тех взаимоотношениях, какие сложились на основе договора между городом и племенем, Сихем вскоре снова даст знать о себе, обратится к ним с новыми предложениями и предоставит возможность придать этому безобразному делу если не прекрасный, то хоть мало-мальски пристойный вид.
И вот, к удивлению самого Иакова, сыновья неожиданно умолкли и согласились подождать княжеского посольства. Их уступчивость сразу встревожила его чуть ли не больше, чем их неистовство, – что крылось за нею? Он с тревогой следил за ними, но в их совете он не участвовал и о новом их решении узнал не раньше посыльных Сихема, каковые, в точности как он ожидал, явились к ним через несколько дней, чтобы вручить написанное на вавилонском языке и потребовавшее нескольких глиняных дощечек письмо, по форме весьма учтивое, а по своему смыслу тоже очень любезное и предупредительное. Оно гласило:
«Иакову, сыну Ицхака, князя от бога, отцу моему и господину, которого я люблю и чьей любовью донельзя дорожу. Говорит Сихем, сын Еммора, Твой зять, который Тебя любит, княжеский наследник, которого народ приветствует криками ликованья! Я здоров. Да будешь здоров и Ты! Да пребудут в отменном здоровье также Твои жены, Твои сыновья, Твои домочадцы, Твой крупный и мелкий скот и все, что Тебе принадлежит! Некогда отец мой Еммор учредил и скрепил с Тобой, другим моим отцом, договор о дружбе, и горячая дружба между нами и вами длилась четыре кругооборота, во время которых я непрестанно думал: пусть боги устроят, чтобы все было так, как теперь, а не иначе, то есть чтобы, по воле моего бога Баалберита и Твоего бога Эль-эльона, которые суть почти один и тот же бог и отличаются друг от друга лишь мелочами, в отношении теплоты нашей дружбы все обстояло во веки веков так, как теперь!
Когда же глаза мои увидели дочь Твою Дину, дитя Лии, дочери Левона, халдеянина, я от всей души пожелал, чтобы наша дружба, без ущерба для своей бесконечной длительности, стала в тысячу тысяч раз крепче. Ибо Дочь Твоя подобна молодой пальме у воды и цвету гранатовой яблони в саду, и сердце мое дрожит от вожделения к ней, и я понял, что без нее мне и дыханье не в радость. Тогда, как Ты знаешь, князь города Еммор, которого народ приветствует криками ликованья, прибыл к Тебе, чтобы поговорить со своим братом и посоветоваться с моими братьями, Твоими сыновьями, и ушел обнадеженный. И когда я пришел сам, чтобы посвататься к Дине, дочери Твоей, и попросить у Вас воздуха, которым я мог бы дышать, Вы сказали: «Дорогой, Ты должен обрезаться, прежде чем Дина станет Твоей, иначе это будет для нас мерзость перед нашим богом». И я не ранил обидой сердце отца моего и братьев моих, а ответил по-дружески: «Я исполню Ваше желанье». И я радовался сверх меры и велел Яраху, писцу книги божьей, поступить со мною так, как Вы наказали, и натерпелся такой боли под его руками и после, что у меня лились слезы, и все ради Дины. Когда же я пришел к Вам снова, оказалось, что все напрасно. Тогда, поскольку условие было выполнено, Дина, дитя Твое, пришла ко мне, чтобы я показал ей любовь на своей постели – к величайшему своему и не меньшему ее удовольствию, как я узнал из ее собственных уст. Но чтобы из-за этого не вышло распри между Твоим и моим богом, пусть отец мой поспешит назначить цену и условия моего брака с милой моему сердцу Диной, дабы устроить великий праздник в стенах Шекема и сыграть свадьбу всем вместе, со смехом и песнями. И на память об этом дне и вечной дружбе между Шекемом и Израилем отец мой Еммор велит отчеканить триста каменных жуков с моим именем и именем Дины, моей супруги. Дано в городе в двадцать пятый день месяца сбора урожая. Мир и здоровье получателю!»
Подражание
Таково было это письмо. Иаков и его сыновья изучали его поодаль от шекемских посланцев, и когда Иаков взглянул на сыновей, те сказали ему, как они положили вести себя при таком обороте дела, и он удивился, но не мог не согласиться по существу с их предложением; он понимал, что выполнение нового условия, ими намеченного, будет, во-первых, важной религиозной победой, а во-вторых, удовлетворительным искуплением учиненного злодеянья. Поэтому, когда они снова вышли к посыльным, он предоставил слово обиженным братьям Дины, и слово взял Дан, который и сообщил посольству принятое решение. Они, сказал он, богаты милостью божьей и не придают большого значения размерам выкупа за Дину, которую Сихем очень удачно сравнил с пальмой и с душистым гранатовым цветом. Это пусть Еммор и Сихем определят сами, как велит им их честь. Но Дина вовсе не «пришла» к Сихему, как тот пожелал выразиться, а была украдена, чем создано новое положение, с которым они, братья, просто так не помирятся. Помирятся они с ним лишь при условии, что вслед за похвально обрезавшимся Сихемом обрежется весь мужской пол в Шекеме, старики, мужчины и мальчики, причем не далее как через три дня и непременно каменными ножами. Когда это произойдет, можно будет и в самом деле сыграть свадьбу и устроить в Шекеме великий праздник со смехом и гамом.
Условие это казалось нескромным, но в то же время выполнить его было легко, и посыльные сразу выразили свою уверенность в том, что их владыка Еммор не преминет отдать необходимые распоряжения. Но едва они удалились, у Иакова внезапно возникли такие ужасные догадки насчет смысла и цели этого притворно благочестивого требования, что внутренности у него перевернулись от страха и он предпочел бы вернуть горожан. Он не верил ни в то, что братья забыли свои старые, первоначальные желанья, ни в то, что они отказались от мести за похищенье и позор Дины; а сопоставив это с недавней их внезапной уступчивостью и с высказанным ими теперь требованием и вспомнив, какие выражения приняли их изрезанные в знак скорби лица, когда их оратор упомянул о свадьбе и о праздничном шуме, которые будут устроены в Шекеме по выполнении условия, он подивился своей несообразительности, тому, что не сразу, не тогда же, когда они говорили, увидел их черные задние мысли.
Радость подражания и преемственности – вот что его ослепило. Он вспомнил Авраама, – как тот по велению господа и для союза с ним обрезал однажды весь свой дом, Измаила и всех рабов, рожденных в доме или купленных у иноплеменников, весь мужской пол своего дома, он, Иаков, был уверен, что и сыновья, выставляя свое требование, опирались на эту историю, – да, опирались-то они на нее, замысел пришел к ним оттуда, но как намеревались они довести его до конца! Он повторял про себя рассказ о том, как на третий день, когда Авраам был в болезни, господь пришел проведать его. Бог стоял перед хижиной, и Елиезер не заметил его. Но Авраам-то заметил и настоятельно пригласил войти. Однако, видя, что Авраам перевязывает рану свою, господь сказал: «Не подобает мне здесь останавливаться». Вот как кротко отнесся господь к священносрамному недугу Авраама, – ну а они, какую кротость собирались они явить горожанам на третий день, когда те будут в болезни? Иаков содрогнулся при мысли о таком подражанье, и он содрогнулся снова, увидев их лица, когда из города сообщили, что условие принято без раздумий и что точно в срок, на третий день от вчерашнего, будет принесена эта всеобщая жертва. Ему не раз хотелось воздеть к ним руки с мольбой; но он боялся силы их возмущенной братской гордости, боялся их обоснованного права на месть и понимал, что затея, которую он мог некогда подавить торжественным своим запрещеньем, теперешними обстоятельствами сильно подкреплена. Был ли он – если спросить осторожно – даже чуть-чуть благодарен им втайне за то, что они не посвящали его в свои замыслы, не впутывали его в них, так что при желании он мог ни о чем не знать или даже ни о чем не догадываться и предоставить случиться тому, что случиться должно было? Разве не возгласил в Вефиле под звуки арф бог-вседержитель, что он, Иаков, овладеет воротами, воротами врагов своих, а не значило ли это, что, несмотря на личное его миролюбие, завоевания, война и разбой все-таки написаны ему на роду?.. Он перестал спать от страха, тревоги и сокровеннейшей гордости коварным мужеством своих отпрысков. Не спал он и в ту страшную ночь, третью по истечении срока, когда, закутавшись в плащ, лежал в шатре и с ужасом внимал глухому гулу вооруженного приступа…
Побоище
Мы подходим к концу правдивого нашего изложенья шекемского эпизода, дававшего позднее столько поводов для песен и прикрашенных сказаний, – прикрашенных в израильском понимании, в отношении последовательности приведших к резне событий, но вовсе не в отношении самой резни – тут прикрашивать было нечего, и на ужасных ее подробностях в прекраснословных беседах настаивали с каким-то даже щегольством и хвастовством. Благодаря кощунственной своей хитрости люди Иакова, численностью значительно уступавшие горожанам, ибо нападающих было всего человек пятьдесят, справлялись с Шекемом довольно легко – и при перелезании через стену, которая почти не охранялась и на которую они, пока еще молча, взобрались с помощью веревочных и приставных лестниц, и во время суматохи, которую они затем, перестав вдруг таиться, учинили внутри города, к полной растерянности поневоле нерасторопных жителей. Все шекемцы мужского пола, от мала до велика, не исключая и большей части военного гарнизона, томились лихорадкой, страдали и «перевязывали рану свою». Люди же племени иврим, здоровые телом и морально сплоченные девизом «Дина!», который они то и дело выкликали во время своей кровавой работы, неистовствовали как львы, они казались вездесущими и, с самого начала вселив в души горожан представление о неотвратимой каре, не встречали почти никакого сопротивленья. Особенно главари, Симеон и Левий, вызывали своим криком, заученным, переворачивавшим внутренности бычьим ревом тот страх божий, жертвы которого видели средство уйти от смерти разве что в ошалелом бегстве, но ни в коем случае не в борьбе. Горожане кричали: «Горе! Это не люди! Среди нас Сутех! Во все их члены вселился многославный баал!» И, пускаясь наутек, погибали под ударами дубинок. Огнем и мечом, в буквальном смысле слова, вершили расправу евреи; город, крепость и храм дымились, улицы и дома были залиты кровью. Только здоровых и крепких молодых людей брали в плен, остальных убивали, и если при этом жестокость убийц не ограничивалась простым умерщвленьем, то в оправдание их нужно учесть, что в своих действиях они руководствовались поэтическими представлениями не в меньшей мере, чем те несчастные; им виделась борьба с драконом, победа Мардука над змеем хаоса Тиаматом, и с этим было связано отрезание «подлежавших предъявлению» членов – увечье, которым они часто сопровождали убийство, отдавая дань мифу. К концу этого побоища, не продолжавшегося и двух часов, княжеский сын Сихем торчал вниз головой в сточной трубе своей купальни, изувеченный самым отвратительным образом, да и труп Усера-ка-Бастета, лежавший в растерзанном цветочном ожерелье прямо на улице, в луже крови, тоже был в большой мере неполным, что с точки зрения его родной веры имело особую важность. Что касается старика Еммора, то он просто умер от ужаса. Дина, этот ничтожно-безвинный повод такой беды, находилась в руках своих соплеменников.
Грабеж длился еще долго. Старая мечта братьев сбылась: они могли потешить сердце разбоем, победителям досталась превосходная добыча – весьма и весьма значительное богатство города, так что их возвращение домой, на исходе последней ночной стражи, с пленными, которых вели на привязи, с большим грузом золотых жертвенных чаш и кувшинов, мешков с кольцами, обручами для волос, поясами, пряжками и бусами, изящной домашней утвари из серебра, янтаря, фаянса, алебастра, корналина, слоновой кости, не говоря уж об обилии плодов земледелия и всевозможных припасов, льна, масла, муки мелкого помола и вина, – превратилось в затяжной триумф. Иаков не вышел из шатра, когда они прибыли. Ночью он долго занимал свое беспокойство искупительным жертвоприношеньем бескумирному богу под священными деревами стана, окропляя камень кровью молочного ягненка и сжигая жир с благовониями и пряностями. Теперь, когда сыновья, довольные собой, еще не остывшие, явились к нему со столь мерзостно возвращенной Диной, он, закутавшись, лежал ничком и долго не соглашался даже взглянуть ни на нее, злосчастную, ни на них, изуверов.
– Прочь! – сделал он знак. – Болваны проклятые!..
Они упрямо стояли на месте, надув губы.
– Разве можно было, – спросил один из них, – поступить с нашей сестрой, как с блудницей? Пойми, мы омыли душу свою. Вот дитя Лии. Оно отомщено семидесятисемикратно.
И так как он по-прежнему молчал и не открывал лица своего:
– Пусть господин наш поглядит на добро, что снаружи. И это еще не все, ибо мы оставили нескольких человек, чтобы они собрали в поле стада горожан и привели их к шатрам Израиля.
Он вскочил и занес над ними сжатые кулаки, и они попятились.
– Будь проклят ваш гнев, – закричал он изо всей силы, – ибо он жесток, и ярость ваша, ибо она свирепа! Несчастные, что вы со мной сделали, ведь я теперь смержу перед жителями этой земли, как падаль, к которой слетаются мухи. А что, если они теперь соберутся, чтобы отомстить нам, что тогда? Нас жалкая горстка. Они побьют нас и истребят, меня, и мой дом, и Авраамово благословение, которое вы должны нести потомкам, в грядущие времена, и все, что создано, пойдет прахом! Слепцы! Они идут в город, убивают больных, добывают нам богатство на миг, и нет у них ума подумать о будущем, о завете, об обетовании!
Они только и делали, что надували губы. Они только и знали, что повторяли:
– Разве мы должны были поступить с нашей сестрой, как с блудницей?
– Да! – крикнул он вне себя, заставив их ужаснуться. – Лучше так, чем ставить под угрозу жизнь и обетование! Ты беременна? – крикнул он Дине, которая униженно притаилась на полу.
– Откуда мне знать уже? – завыла она.
– Ребенку не жить, – отрезал он, и она завыла опять.
– Израиль снимается с места со всем своим достоянием, – сказал он спокойно, – и уходит с богатствами и стадами, которые вы добыли мечом в отместку за Дину. Он не останется на месте этих ужасов. У меня было ночью видение, и господь сказал мне во сне: «Встань и пойди в Вефиль!» Долой отсюда! Укладывать вещи!
Видение и наказ ему действительно были, были тогда, когда он, после ночной жертвы, в то время как сыновья грабили город, задремал на постели. То было разумное видение, оно пришло из глубины его сердца; ибо прибежище Луз, которое он так хорошо знал, обладало для него большой притягательной силой при таких обстоятельствах, и, уходя туда, он как бы спешил припасть к стопам вседержителя бога. Ведь беглецы, спасшиеся от кровавой свадьбы, направились в разные окрестные города, чтобы сообщить там о судьбе своего, а кроме того, как раз в это время до города Амуна дошли наконец некие письма, изготовленные отдельными главами и пастырями городов Ханаана и Еммора, и письма эти пришлось, к сожалению, представить Гору, во дворце, священному его величеству Аменхотепу Третьему, хотя тогда этот бог был не только изнурен одним из часто допекавших его зубных нарывов, но и настолько поглощен строительством своего собственного храма смерти на западе, что просто не мог уделить вникания таким досадным известиям из горемычной страны Аму, как «потеря городов царя» и «завоевание страны фараона хабирами, грабящими все страны царя» (ибо именно это говорилось в письмах глав и пастырей). А потому эти документы, показавшиеся при дворе к тому же из-за их плохого вавилонского языка довольно смешными, были сданы в архив раньше, чем в уме фараона успели созреть решенья о мерах против названных разбойников, да и вообще люди Иакова могли считать, что им повезло. Окрестные города, повергнутые в страх божий необычайной дикостью их поведенья, ничего против них не предприняли, и после всеобщего очищения, после того как он собрал и собственноручно зарыл под священными деревами многочисленных идолов, проникших за эти четыре года в его стан, Иаков, отец, мог без помех тронуться в путь с людьми и кладью и, удаляясь от страшного места Сихема, над которым кружили коршуны, податься с богатством вниз в Вефиль по торным дорогам.
Дина и мать ее Лия ехали вдвоем на умном и сильном верблюде. По обе стороны горба висели они в украшенных корзинах, под противосолнечным, натянутым на тростниковые шесты покрывалом, которое Дина почти все время целиком опускала, так что сидела в темноте. Она была беременна. Ребенок, которого она, когда пришел ее час, родила, был, по решению мужчин, подкинут. Сама она высохла от горя задолго до срока. В пятнадцать лет злосчастное ее личико было похоже на лицо старухи.







