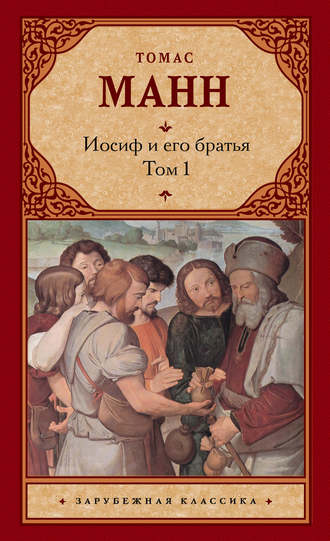
Томас Манн
Иосиф и его братья. Том 1
Братья были несправедливы к мальчику, утверждая, что его болтливость имела целью такие решенья отца. Иосиф просто не умел молчать. Но что и в следующий раз, зная уже об отцовском намеренье и об упреке братьев, он снова не сумел промолчать, это было еще непростительнее и подкрепило подозрение старших сильнейшим образом. Немногим известно, как Иаков узнал о том, что Рувим «пошутил» с Валлой.
То была история, гораздо худшая, чем история с постелью, и случилась она еще до того, как они осели возле Хеврона, на одной из стоянок между Хевроном и Вефилем. Рувим, которому был тогда двадцать один год, не сумел под напором переполнявших его сил воздержаться от жены своего отца – той самой Валлы, на которую он так разозлился из-за отставки Лии. Он подглядел, как она купалась, – сначала случайно, потом – ради удовольствия унизить ее без ее ведома, затем – с возрастающим вожделеньем. Грубое, порывистое желанье овладело этим сильным юношей при виде зрелых, но искусно ухоженных прелестей Валлы, ее упругих еще грудей, ее изящного живота, и похоти его не могла утолить ни одна служанка, ни одна послушная любому его знаку рабыня. Он прокрался к побочной и тогда любимой жене отца, бросился на нее, и если не овладел ею силой, то соблазнил ее, как ни трепетала она перед Иаковом, полнотой своей силы и молодостью.
Из этой сцены страсти, страха и преступленья маленький Иосиф, праздно, хотя и без всякого намеренья шпионить, повсюду слонявшийся, подслушал достаточно много, чтобы с простодушным воодушевленьем, как странную и любопытную новость, сообщить отцу, что Рувим «шутил» и «смеялся» с Валлой. Он употребил эти слова, в прямом своем смысле не выражавшие всего, что он понял, но своим вторым, обиходным значением выразившие все. Иаков побледнел и стал тяжело дышать. Спустя несколько минут Валла лежала в ногах у главы рода и со стонами признавалась в содеянном, раздирая ногтями груди, которые смутили Рувима и были теперь навсегда осквернены и неприкосновенны для ее повелителя. А затем в ногах у него лежал сам преступник, опоясанный в знак полного своего провала и позора одной дерюгой, и с искреннейшим сокрушеньем, подняв руки и уткнув в землю посыпанную пылью голову, внимал величавой грозе отцовского гнева, над ним бушевавшей. Иаков назвал его Хамом, осквернителем отца своего, змеем хаоса, бегемотом и бесстыжим гиппопотамом: в последнем эпитете сказалось влияние египетского поверья, будто у гиппопотамов существует мерзкий обычай убивать своих отцов и насильственно совокупляться со своими матерями. Изображая дело так, будто Валла действительно приходится матерью Рувиму, только потому, что он, отец его, сам с нею спал, громыхавший Иаков проникся древним и смутным представленьем, что, совокупляясь с собственной матерью, Рувим хотел стать господином над всеми и всем, – и назначил ему как раз противоположное. С простертыми руками отнял он у стонавшего Рувима его первородство – только, правда, отнял это почетное звание, но покамест не передал его дальше, так что с тех пор в этом вопросе царила неопределенность, при которой величественно-откровенное пристрастие отца к Иосифу заменяло до поры до времени всякие юридические факты.
Любопытно, что Рувим не только не затаил злобного чувства к мальчику, но относился к нему терпимей, чем все братья. Он совершенно справедливо не считал его поступка просто злым, внутренне признавая за братом право заботиться о чести отца, тем более что тот так любит его, и оповещать Иакова о делах, постыдность которых он, Рувим, вовсе не собирался оспаривать. Сознавая свою неправоту, Рувим был добродушен и справедлив. Кроме того, будучи при своей большой физической силе, как все Лиины сыновья, довольно дурен собой (слабые глаза он тоже унаследовал от матери и часто, хотя и без пользы, мазал мазью гноившиеся веки), Рувим ценил общепризнанную миловидность Иосифа больше, чем другие, он находил в ней по контрасту с собственной неуклюжестью что-то трогательное и чувствовал, что переходящее наследство глав рода и великих отцов, избранность, благословенье божье досталось скорее этому мальчику, чем ему или кому-либо другому из двенадцати братьев. Поэтому отцовские желания и замыслы, связанные с вопросом о первородстве, были понятны Рувиму, хотя и наносили тяжелый удар ему самому.
Таким образом, у Иосифа были основания пригрозить сыну Зелфы, тоже, впрочем, благодаря своему прямодушию не самому худшему из братьев, справедливостью Рувима. Рувим не раз уже, хотя и пренебрежительно, заступался за Иосифа перед братьями, неоднократно защищал его от обиды силой своих рук и бранил их, когда они, возмущенные очередным его предательством, собирались жестоко с ним рассчитаться. Ибо из ранних неприятностей с Рувимом этот дуралей не извлек никакого урока, великодушие брата тоже не сделало его лучше, и когда Иосиф подрос, он стал еще более опасным соглядатаем и доносчиком, чем в детстве. Опасным и для себя самого, и главным образом для себя самого; усвоенная им роль с каждым днем обостряла его отлученность и обособленность, мешала его счастью, взваливала на него бремя ненависти, нести которое было противно его природе, и давала ему повод бояться братьев, а это оборачивалось новым искушеньем обезопасить себя от них, подольстившись к отцу, – и все это продолжалось, несмотря на то что Иосиф не раз давал себе слово придерживать язык, чтобы этим простым способом оздоровить свои отношенья с десятью братьями, ни один из которых не был злодеем и которые, составляя вместе с ним и его маленьким братом число зодиакальных созвездий, были, в сущности, как он чувствовал, связаны с ним священной связью.
Напрасные обещания! Стоило Симеону и Левию, людям горячим, затеять невыгодную для семьи драку с чужими пастухами, а бывало, и с горожанами; стоило Иегуде, которого мучила Иштар, гордому, но несчастному человеку, не находившему в том, что было для других смехом, решительно ничего смешного, запутаться в неугодных Иакову тайных приключениях с дочерьми страны; стоило кому-либо из братьев провиниться перед Единственным и Всевышним, тайком покадив изваянью, что ставило под угрозу плодовитость скота и навлекало на него болезни – оспу, паршу или веретенницу; стоило сыновьям, здесь или под Шекемом, попытаться при продаже выбракованного скота выторговать и тайком от Иакова разделить между собой какой-то дополнительный барыш – отец узнавал это от своего любимчика. Он узнавал от него даже неправду, совершеннейший вздор, но склонен был верить прекрасным глазам Иосифа. Тот утверждал, что некоторые братья вырезали у живых овец и баранов куски мяса и тут же съедали их; так, по его словам, поступали все четыре сына наложниц, но чаще других – Асир, который и в самом деле отличался прожорливостью. Аппетит Асира был единственным доводом в пользу этого обвинения, которое и само по себе казалось весьма неправдоподобным и никак не могло быть доказано. Объективно это была клевета. С точки зренья Иосифа, поступок его не вполне, может быть, заслуживал такого названия. Вероятно, эта история ему приснилась; вернее, он заставил ее присниться себе в момент резонного ожидания порки, чтобы с помощью этой небылицы заручиться отцовской защитой, а потом уже не мог и не хотел отличить правду от наважденья. Но понятно, что в этом случае возмущенье братьев было особенно бурным. Оно обладало привилегией невиновности, на которую напирало с несколько чрезмерным ожесточеньем, словно в ней можно было все-таки сомневаться и в виденьях Иосифа содержалась какая-то доля правды. Больнее всего нас уязвляют обвиненья, которые хоть и вздорны, но не совсем…
Имя
Иаков вспылил было, услыхав о дурных именах, которыми Гад назвал Иосифа, ибо старик готов был сразу же усмотреть в них преступное оскорбленье священного своего чувства. Но быстро повеселевший Иосиф сумел так мило и ловко отвлечь и успокоить отца, заговорив о другом, что гнев Иакова, не успев разгореться, остыл, и он мог уже только глядеть, мечтательно улыбаясь, в черные, чуть раскосые, лукаво сузившиеся глаза говорившего.
– Это пустяки, – слышал он резкий и хрупкий голос, который любил, потому что многое в нем напоминало голос Рахили. – Я по-братски побранил его за грубость, и поскольку он принял к сведенью мои увещанья, это его заслуга, что мы разошлись полюбовно. Я ходил на холм поглядеть на город и на двойной дом Ефрона; здесь я омылся водой и молитвой, а что касается льва, которым папочка изволил мне пригрозить, распутника преисподней, исчадья черной луны, то он остался в зарослях Иардена (название реки Иосиф произнес не так, как мы, с другими гласными; он сказал: «Иарден», – с небным, но не раскатистым «р» и с довольно открытым «е») и нашел свой ужин в лощинах под обрывом, а дитя не видело его ни вблизи, ни вдали.
Он назвал самого себя «дитя», зная, что особенно растрогает отца этим прозвищем, сохранившимся от более ранней поры. Он продолжал:
– Но даже если бы он и пришел, колотя хвостом, и даже если бы голос его гремел от голода, как голоса серафимов, когда они поют свою хвалебную песнь, мальчик ни чуточки не испугался бы его ярости или только чуть-чуть. Ведь он, конечно, опять набросился бы на ягненка, разбойник, если бы Альдмодад не прогнал его трещотками и огнями, а детеныша человеческого зверь мудро обошел бы стороной. Разве мой папочка не знает, что звери боятся и избегают человека, потому что бог наделил его духом разума и указал ему разряды, на которые все делится, разве не знает он, как возопил Семаил, когда человек, созданный из праха земного, назвал всякое творенье, словно сам был повелителем его и творцом, и как изумились, как опустили глаза все слуги огненные, которые только и знают, что хором кричат на разные голоса «свят, свят!», а ничего не смыслят в разрядах и подразрядах? Звери тоже стыдятся нас и поджимают перед нами хвост, потому что мы знаем их и, владея их именем, лишаем силы рычащую их единичность. Посмей он явиться сюда со злобно раздутыми ноздрями, я бы все равно не потерял голову от ужаса и не оробел бы перед его загадкой. «Имя твое, наверно, Жажда Крови? – спросил бы я, чтобы над ним подшутить. – Или, может быть, тебя зовут Смертельный Прыжок?» Но потом я приосанился бы и воскликнул: «Лев! Ты – лев, вот кто ты по своему разряду и подразряду, и тайна твоя мне открыта, и видишь, мне ничего не стоит ее назвать». И он заморгал бы глазами от страха перед именем, он сник бы перед словом и убрался бы прочь, не в силах ответить мне. Ведь он же полный невежда и понятия не имеет о письменных принадлежностях…
Иосиф начал играть словами, в чем всегда находил удовольствие, но сейчас он хотел этим, точно так же как и предшествовавшей похвальбой, рассеять отца. Имя его своим звучанием напоминало слово «сефер», книга, письменная принадлежность, – к неизменному его удовлетворению, ибо, в отличие от всех своих братьев, ни один из которых писать не умел, Иосиф любил это занятие и был в нем настолько искусен, что вполне мог бы служить писцом в таких местах скопления документов, как Кириаф-Сефер или Гевал, если бы можно было представить себе, что Иаков одобрит подобную деятельность.
– Пусть папочка, – продолжал он, – приблизится, пусть он непринужденно и удобно сядет рядом с сыном у бездны, вот здесь, например, на краю, а грамотное это дитя село бы несколько ниже, у его ног, что дало бы довольно приятный порядок их размещенья. Затем дитя развлекло бы своего господина, рассказав ему одну небольшую сказку-басню об имени, которую оно выучило и может занимательно изложить. Во времена поколений потопа ангел Семазаи увидел на земле одну девицу, которую звали Ишхара, и, обезумев от ее красоты, сказал ей: «Послушайся меня!» А она сказала в ответ: «Не смей и надеяться, что я тебя послушаюсь, если ты не откроешь мне прежде то настоящее и неизменное имя бога, силой которого ты возносишься, когда произносишь его». Обезумевший гонец Семазаи и вправду открыл ей это имя, до того ему не терпелось, чтобы она послушалась его. Но как думает папочка, что сделала Ишхара, как только завладела именем, и каким образом непорочная эта девушка оставила в дураках назойливого гонца? Это самое интересное место в моей истории, но, увы, я вижу, что папочка не слушает, что уши его закрыты мыслями и он погрузился в раздумья?
Действительно, Иаков не слушал, он «задумался». Это была на редкость выразительная задумчивость, воплощенье задумчивости, задумчивость, так сказать, образцовая, высшая степень патетически-сосредоточенной отрешенности, – тут уж он ничего не слышал; если уж он задумался, то это должна была быть настоящая, видная и за сто шагов, великолепная, могучая задумчивость, чтобы каждому было ясно, что Иаков погрузился в раздумье, больше того, чтобы каждый только сейчас вообще узнал, что такое подлинная задумчивость, и благоговел перед этим состояньем и этой картиной: старик, обеими руками опершийся на высокий посох, склоненная к плечу голова, полные сокровенно-мечтательной грусти губы в серебряной бороде, карие, старческие, упорно роющиеся в глубинах воспоминаний и мыслей глаза, их глухой, обращенный внутрь взгляд снизу вверх, почти теряющийся в нависших бровях… Людям чувства свойственна внешняя выразительность, ибо она вытекает из тщеславия чувства, которое откровенно и без стесненья о себе заявляет; выразительность – это порожденье большой и нежной души, где слабость и смелость, бесстыдство и благородство, естественность и нарочитость сплавляются в актерство высшей марки, которое внушает людям благоговенье, хотя и слегка веселит их. Иакову была очень свойственна внешняя выразительность – к радости Иосифа, любившего взволнованную эту приподнятость и ею гордившегося, но к испугу и страху всех других, кто сталкивался с ним в жизни, и особенно остальных его сыновей, которые при размолвках с отцом ничего так не боялись, как именно этой выразительности. Так было с Рувимом, когда ему пришлось держать ответ перед стариком по поводу истории с Валлой. И хотя страх и благоговение перед выспренней выразительностью были тогда глубже и безотчетней, чем у нас, обыкновенный человек, которому грозили такие эффекты, и тогда проникался тем обывательским защитным чувством, которое мы выразили бы словами: «Бог ты мой, это не доведет до добра!»
Яркая выразительность душевных движений Иакова, и взволнованность его голоса, и высокопарность его речи, и торжественность его повадки вообще – была связана с той его чертой, которой объяснялось также столь свойственное его лицу живописное выражение задумчивости. Это была склонность связывать мысли, настолько подчинившая себе внутреннюю его жизнь, что стала прямо-таки ее формой, и его мышленье почти совсем ушло в такие ассоциации. На каждом шагу душу его поражали, отвлекали и далеко увлекали соответствия и аналогии, сливавшие в одно мгновенье прошлое и обещанное и придававшие взгляду его как раз ту расплывчатость и туманность, которая появляется в минуты раздумья. Это был род недуга, но недуг этот не был личным его уделом, он был, хотя и в разной степени, очень широко распространен, и можно сказать, что в мире Иакова духовное достоинство и «значенье» – употребляя слово «значенье» в самом прямом смысле, – определялось богатством мифических ассоциаций и силой, с какой они наполняли мгновение. В самом деле, как странно, как выспренне и многозначительно прозвучали слова старика, когда он намеком выразил свое опасение, что Иосиф упадет в водоем! А получилось так потому, что Иаков не мог подумать о глубине колодца, чтобы к этой мысли не примешалась, углубляя и освящая ее, идея преисподней и царства мертвых, – идея, которая играла важную роль, правда, не в религиозных его воззрениях, но, как древнейшее мифическое наследство народов, в глубинах его души и фантазии, – представление о дольней стране, где правил Усири, Растерзанный, о местопребывании Намтара, бога чумы, о царстве ужасов, родине всех злых духов и повальных болезней. Это был мир, куда погружались небесные светила после захода, чтобы в назначенный час снова подняться, но ни одному смертному, проделавшему путь в эту обитель, вернуться оттуда не удавалось. Это был край грязи и кала, но также золота и богатств; лоно, куда бросали зерно и откуда оно всходило питательным злаком, страна черной луны, зимы и обуглившегося лета, куда спустился и ежегодно спускался растерзанный вепрем вешний овчар Таммуз, после чего земля переставала родить и, оплаканная, скудела до той поры, покуда Иштар, его супруга и мать, не отправлялась на поиски его в ад, не ломала пыльных запоров его застенка и с великим смехом не выводила из ямы возлюбленного красавца, владыку новорасцветшей флоры.
Как было не трепетать голосу Иакова, как мог его вопрос не приобрести странного и многозначительного отголоска, если он, пусть не умом – чувством, видел в колодце вход в преисподнюю, если все эти и еще иные образы ожили в нем при слове «бездна»? Какой-нибудь глупец и невежда, человек ничтожной души, может быть, и произнес бы такое слово бездумно и невзначай, не имея в виду ничего, кроме самого близкого и конкретного. Повадке Иакова оно придало величавость и духовную торжественность, оно сделало ее чуть ли не устрашающе выразительной. Невозможно передать, как ужаснулся провинившийся Рувим, когда отец в свое время бросил ему в лицо недоброе имя Хама! Ибо не таков был Иаков, чтобы употребить это бранное прозвище только как слабый намек. Волей могучего его духа настоящее растворилось, и притом самым жутким образом, в прошлом, однажды случившееся вступило в полную силу, и сам он, Иаков, слился с Ноем, униженным, поруганным, обесчещенным сыновней рукой отцом; и Рувим заранее знал, что так случится, что он и вправду будет Хамом, валяющимся в ногах у Ноя, и именно поэтому его так ужаснула предстоявшая сцена.
Ну, а сейчас причиной столь очевидной задумчивости старика были воспоминанья, к которым побудила его болтовня сына об «имени», – томительные, как сон, возвышенные и страшные воспоминания тех давних дней, когда он, в великом страхе телесном, готовясь к встрече с обманутым и, несомненно, жаждавшим мести дикарем-братом, так страстно желал обрести духовную силу и боролся за имя с тем, особенным человеком, что напал на него. Томительный, ужасный, исполненный сладострастья сон отчаянной прелести, но не из тех веселых и мимолетных снов, от которых ничего не остается, а до того осязаемый, до того явственный, что от него осталось два следа на всю жизнь, как остаются на суше дары моря в часы отлива: увечье вертлюжного сустава бедра, на которое Иаков и хромал с той поры, как некто вывихнул его в схватке, и, во-вторых, имя – но не имя этого странного человека: оно не было открыто даже на заре, даже под угрозой мучительнейшей задержки, как ни донимал незнакомца, как ни наседал на него запыхавшийся Иаков, а его, Иакова, собственное, другое, второе имя, прозвище, которое дал ему в бою незнакомец, чтобы Иаков отпустил его до восхода солнца и уберег от мучительного опозданья, почетный титул, которым с тех пор величали Иакова, когда хотели ему польстить или вызвать у него улыбку – Израиль, то есть «Бог ведет войну»… Он снова видел перед собой иавокский брод, тот заросший кустами берег, где он, Иаков, пребывал в одиночестве, после того как уже перевел через поток женщин, одиннадцать сыновей и скот, предназначенный в искупительный дар Исаву; видел тревожное, в тучах, небо той ночи, когда он, между двумя попытками задремать, полный тревоги, как это небо, бродил по берегу, еще дрожа от объясненья с одураченным отцом Рахили, которое, впрочем, сошло, с помощью бога, благополучно, и уже терзаясь мыслью о приближенье еще одного обманутого и обиженного. Как он молил элохимов помочь ему, как он прямо-таки вменял им это в обязанность! И незнакомца, с которым он, бог весть почему, нежданно-негаданно вступил в борьбу не на жизнь, а на смерть, он тоже увидел сейчас вплотную перед собой в ярком свете выплывшей вдруг из-за туч тогдашней луны: его широко расставленные, немигающие воловьи глаза, его лицо, подобное, как и плечи, лощеному камню; и в сердце Иакова снова вошло что-то от той жестокой радости, которую он тогда ощущал, выпытывая у него имя кряхтящим шепотом… Как был он силен! Отчаянно, как то может только присниться, силен и вынослив, такие неожиданные запасы силы открылись в его душе. Он держался всю ночь, до зари, пока не увидел, что незнакомец запаздывает, пока тот смущенно не попросил его: «Отпусти меня!» Ни один из них не одолел другого, но разве это не значило, что верх одержал Иаков, который ведь не был каким-то особенным человеком, а был человеком здешним, рожденным от семени человеческого? Иакову казалось, что волоокий усомнился в этом. Жестокий удар в бедро походил на испытание. Нанося его, боровшийся, может быть, хотел установить, действительно ли перед ним подвижный сустав, а не неподвижное сочлененье, как у тех, кто подобен ему и никогда не садится… А потом незнакомец умудрился не открыть своего имени, но зато нарек имя Иакову. Так же отчетливо, как тогда, старик мысленно слышал сейчас высокий металлический голос, который сказал ему: «Отныне имя тебе будет Израиль», – после чего он, Иаков, выпустил из рук своих обладателя этого особенного голоса, так что тот, надо надеяться, все-таки поспел с грехом пополам…







