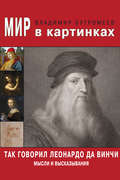В. П. Бутромеев
Великий ветер
VII
О столкновении с роком
– Столкновение человека с роком и гибель человека от этого столкновения – это и есть драма. Что такое рок? Это непостижимая, неотвратимая сила, она сильнее богов; даже они не могут ее победить, не то что человек, какой-нибудь хуторянин Авдей с обрезом, в котором всего семь патронов. Когда объясняют, что такое рок, то упрощенно говорят, что рок – это предопределенность событий. И вот когда в произведении рассказывается о том, как человек столкнулся с роком и пошел против рока, вступил с ним в борьбу и погиб, тогда это драма, трагедия. «Крик на хуторе» – это не история моей семьи. Авдей – это не мой дедушка. Мой дедушка не пошел против рока. Он спасся тем, что вступил в колхоз. Если бы он не спасся, то, разумеется, и я бы не появился на свет. «Крик на хуторе» – это и не про семью Авдея, хуторянина-мужика, хутор которого был рядом с нашими хуторами. Авдей – мужик-хуторянин с обрезом, заряженным семью патронами; прототип Авдея в пьесе пошел против рока, погиб, а его мать-старуха убежала, прихватив с собой любимую внучку. Даже олимпийским богам во главе с Зевсом не под силу избежать рока. А старуха, мать Авдея, мужика-хуторянина, обманула рок: сбежала да еще и внучку спасла от гибели. А мой дедушка трижды уходил от столкновения с роком. Три раза спасся и не погиб. Софокл, Еврипид и даже Эсхил – «Прометей прикованный» – не смогли увести своих героев от неотвратимого удара рока, а мой дедушка трижды ушел от этих ударов. А Авдей, ослепленный яростью, злобой, столкнулся с роком и погиб – это и есть драма, трагедия. А я изложил эту трагедию по правилам, по законам драматургии. Поэтому люди не уходят из зала до конца спектакля. Это и есть «Крик на хуторе».
«Крик на хуторе» – это драма, это не история моего дедушки, моей семьи, и не история мужика-хуторянина Авдея. Это история народа, который столкнулся с роком. Он столкнулся с роком, когда началась революция. Об этом драма «Дни Турбиных» Булгакова. Потом он столкнулся с роком еще раз: в погромную ночь коллективизации, раскулачивания. Об этом «Крик на хуторе». Потом он столкнулся с роком во время войны. Драмы об этом еще никто не написал. Россия столкнулась с роком в XX веке. А тот, кто сталкивается с роком, – погибает. В драме обязательная сцена – это гибель героя от столкновения с роком. А советским драматургам было положено писать пьесы, в которых герой не погибает, столкнувшись с роком, а победно строит коммунизм – светлое будущее всего человечества.
А если бы они писали свои пьесы, следуя законам драматургии, по Аристотелю, эти пьесы неизбежно получились бы антисоветскими. И коллегия по драматургии Минкульта не купила бы их и не рекомендовала бы театрам. А если раньше, то этих драматургов расстреляли бы, как Авдея. Поэтому они и не писали пьесы по законам драматургии, и не знали их или просто не хотели знать. А я написал пьесу, драму «Крик на хуторе», по законам драматургии, потому что писал не для того, чтобы ее поставили в советских театрах, – я написал ее как упражнение для проверки правильности законов драматургии. И выяснил, что да, законы драматургии верны. А то, что пьесу поставили, это побочный результат, еще раз подтверждающий верность этих законов, описанных Аристотелем. Ну и, само собой разумеется, тебе спасибо: без тебя бы спектакля не было. Может, поместил бы ее в книгу прозы – приложением. Если бы успел издать эту книгу прозы, – теперь ведь и книги прозы не выходят…
Мы некоторое время помолчали, потом Мирский повторил то, что сказал в начале разговора:
– Молодец, хорошую пьесу ты написал…
Мирский сказал это как будто безразлично – так говорят о погоде для поддержания разговора, когда не о чем говорить.
«Зачем я растолковывал ему о законах драматургии? Кант, Гегель, Аристотель. Какая разница? Он не гуманитарий, всю жизнь в коллегии по драматургии Минкульта. Пьеса либо хорошая, либо плохая. Хорошую интересно читать. А если читать скучно, значит, пьеса плохая. Хорошая пьеса идет в театре несколько сезонов. Плохая – или «болтается» один сезон, или ее снимают через месяц-другой. Столкновение с роком… Коллегию по драматургии скоро распустят. Ему нужно как-то дотягивать до пенсии. Пенсию не платят, задерживают. Это в регионах. В Москве платят. Но на пенсию в Москве не проживешь. А то, что в регионах задерживают, так это потому что крутят деньги в банках. И вывозят за границу. Уже в долларах. Ему до пенсии год-два. И до операции два года. А мне о пенсии нечего и думать. Надо как-то зарабатывать на хлеб. Как? Спектакль “Страсти по Авдею. Крик на хуторе” идет в Минске уже шестой год. В Москве издательства ничего не печатают. Сдают площади в аренду и выживают. Театры тоже выживают. Театров в стране около двухсот, и что же, все они закроются? Страна разваливается, распадается. Неужели сейчас заговорим о погоде?»
VIII
О современной пьесе
Погода стояла хорошая. Прозрачная, прохладная, солнечная осень. Бунинская осень. Пушкинская. «В багрец и золото одетые леса». И березки, под которыми мы с Мирским сидели на лавочке, – золотые, мелколистные. Листочки как золотые пятерки, которыми хуторяне когда-то откупались от будто бы неотвратимого рока.
Но Мирский заговорил не о погоде:
– Послушай, если пьеса пишется по законам драматургии и ты их знаешь… И страна ведь столкнулась с этим самым роком… Столкнулась: каждый год вымирает, говорят, по миллиону… Напиши пьесу… Современную…
– Зачем? Коллегия не купит.
– Коллегия не купит. Коллегию скоро прикроют. Надо искать работу. Меня возьмут завлитом в один театр. Там молодой главный режиссер. Ему нужна современная пьеса. Он пробовал ставить иностранные – теперь все можно. Но зритель не идет. Вот он и ищет – надо что-то свое. Современное. Напиши, как «Крик на хуторе», но современное. По законам драматургии. Ну и о столкновении с роком.
– Современное, как «Крик на хуторе», не напишешь. Страна столкнулась с роком. Но это не Россия столкнулась с роком, а СССР.
– Какая разница?
– Россия – страна. Обычная настоящая страна. А СССР – ненастоящая страна, и столкновение с роком ненастоящее. Об этом, может быть, и можно написать пьесу, но не драму по законам драматургии. Законы-то эти настоящие. Хотя, конечно, можно их обойти за счет чего-нибудь…
– Вот и обойди.
– Законы драматургии проще всего обойти за счет характера. Сильно выраженного характера, доведенного до гротеска, до абсурда… Для чего нужно соблюдать законы драматургии? Для того чтобы зритель не ушел из зала. То есть для того чтобы ему было интересно. А человеческий характер – яркий, необычный, рельефный, особенно противоречивый или доведенный до абсурда за счет преувеличения, почти карикатурный – интересен сам по себе. Человеку интересно, каков он, человек, бывает в этом мире. Изображение яркого, необычного характера может заменить исполнение законов драматургии. Вспомни характеры из «Мертвых душ» Гоголя… Их можно разыгрывать на сцене, и будет спектакль. Характеры людей, кстати, первыми описали тоже древние греки. Так вот, о характере… Я тут познакомился с одним типом… Просто просится в пьесу, на сцену; он один потянул бы на моноспектакль… Директор местной школы. Узнал, что я писатель. Устроил встречу со старшеклассниками. Пришел в восторг от этой встречи, хотя встреча – ничего особенного. Хотел организовать литературный кружок, литературную студию, выпускать альманах, целое кооперативное издательство, школу сделать литературным лицеем, привлечь Иосифа Бродского.
– Бродского?
– Ну да. Он нобелевский лауреат и поэтому возьмет шефство над школой по части поэзии. В школу ходят и дети из одной соседней деревеньки, а рядом с ней старинная усадьба, которой владели сначала Баратынский, потом Тютчев. Ну, это полный восторг: дети из этой деревни все самородки, как Есенин, – нужно только вытащить их на центральное телевидение.
Мирский улыбнулся:
– Ну и как? Чем кончилось?
– Слава богу, он устроился на работу в Москве. Он москвич, сюда приезжал. А потом его взяли в итальянскую фирму по продаже обуви. Помнишь по телевизору рекламу «Мы обуем всю Россию»? Это они. Обуть на воровском жаргоне – значит «обмануть».
– Да. Обмануть.
– Обули они Россию или нет, но директор в школе теперь другой. Обычный. А из того типа можно сделать персонаж. Нужна история, но историю можно придумать.
– Придумай. Напиши современную пьесу.
– Зачем?
– Этот режиссер… Ему нужна пьеса. Он поставит. Будут ходить люди – получишь отчисления от билетов.
– Да, это не помешало бы. Я за «Крик на хуторе» получаю. Уже «зайчиками». Переведешь в рубли – маловато. Да и сколько «Крик на хуторе» будет идти… И так уже на сцене почти шесть лет. Но хоть какие-то деньги. Жить скоро будет не на что. Издательства уже ничего не печатают.
– Ну вот и напиши. Но современную. Чтобы сегодняшний день. – Мирский вдруг усмехнулся: – Ты же знаешь законы драматургии… За месяц напишешь?
– «Крик на хуторе» я написал за неделю.
– Но ты же говорил, что писал по рассказу.
– Рассказ был. Но писал я не по рассказу. Да и рассказ весь вымышленный.
– Ты же говорил, что знал о мужике, который Авдей.
– Знал. Знал, что он начал отстреливаться, когда пришли раскулачивать. И знал, что он свою первую лошадь, с которой хутор поднимал, держал до старости и похоронил как человека. Шкуру снимать не стал. Только гроб не сделал и крест на могиле не поставил. А больше ничего о нем не знал. Все остальное – вымысел. Художественный вымысел реальнее действительности. А если его, этот художественный вымысел, изложить по законам драматургии, получится пьеса.
– Хорошо, – Мирский поднялся с лавочки и задумчиво сказал куда-то в небо: – Вот и напиши пьесу. По законам драматургии. Современную. Но не бытовую, таких полно: про бомжей, проституток и алкашей. А про столкновение с роком, как по Аристотелю полагается. Я отдам этому режиссеру. Ему нужна современная пьеса. Он поставит. А меня возьмет к себе завлитом. За то, что я нашел ему современную пьесу…
Мирский повернулся и пошел к калитке своей четверти дачи. Я остался сидеть под двумя золотыми березками – они мягким золотом выделялись в легкой, прозрачной темноте осеннего вечера.
IX
Как написать современную пьесу
Мне показалось, что Мирский как будто с недоверием отнесся к тому, что я могу написать современную пьесу про столкновение с роком, когда страна разваливается, распадается и люди умирают по миллиону в год, хотя их никто и не расстреливает, и не ссылает в лагеря, на Колыму. И даже как будто не совсем поверил, что и «Крик на хуторе» – это не трагическая история моей семьи, моего дедушки, просто записанная по генетической памяти, а пьеса, составленная по законам драматургии, художественный вымысел, соответствующий правилам, предписанным Аристотелем для драматургов всех времен.
И недоверие это отчасти вызвано тем, что я начал объяснять, как я напишу эту пьесу, как создам этот художественный вымысел, который более реален, чем действительность. Когда человек объясняет, как он что-либо сделает, – это признак неуверенности. Кто умеет делать, кто может сделать, тот не объясняет, а делает.
Значит, надо написать пьесу. И даже не только для того, чтобы показать Мирскому, что я могу ее написать без конкретной истории, без сюжета, без героев, просто рассказав по законам драматургии о том, как разваливается страна, которая столкнулась с роком, хотя она, страна, не воспротивилась року, как Авдей из «Крика на хуторе», и не стала отстреливаться из обреза.
Написать такую пьесу – это как решить головоломку. Вроде как перевезти козу, волка и кочан капусты через реку в лодке по одному за раз.
Итак, что у меня есть. Характер персонажа. Типаж. Неуемный директор школы, фонтанирующий нелепыми прожектами; ему приспичило откопать десяток самородков, таких как Есенин, и вытащить их на телевидение… Еще и Бродского привлечь, нобелевского лауреата… Тип очень «богатый»… Ему все приспичило… Все, за что ни возьмется, приспичивает…
Откуда слово такое – «приспичило»? От слова «спичка»? То есть загорается, вспыхивает как спичка… О таких говорят: с шилом в заднице. Он сам по себе пьеса… Он потянет любой монолог, хоть Гамлета «Быть или не быть», но он как раз не колеблющийся, а совершенно уверенный в себе, безоглядно уверенный, уверенный до самодовольства. Гротескный такой тип… Ему нужен противоположный персонаж, чтобы они спорили. Это может быть пьеса-спор. Причем спор абсурдный, неконкретный. Они даже могут не слушать, вернее, не слышать друг друга, – каждый о своем; даже лучше, если один спорит, доказывает, а второй не отвечает, не понимает, чего он к нему привязался. Нужен нормальный человек, житейский. Как мужик из «Мартовского снега»[4].
Я поднялся к себе в мансарду над своей четвертью дачи, взял альманах «Стрелец» с рассказом «Мартовский снег» о деревенских мужиках, которые ездили на дальние заработки, и перечитал его. Рассказ я написал, потому что сам когда-то ездил с такими мужиками на такие заработки – шабашки. Это были сильные, крепкие люди не только физически, но и духовно. Чтобы уйти из колхоза и жить со своей семьей, не боясь ни начальства, ни того, «а что скажут люди», не надеясь ни на пенсию в старости, ни на обещание священника «устроить тебя после смерти», надо быть основательным, прочным человеком. Такой человек не пойдет с толпой, когда какой-нибудь козел-провокатор ведет эту толпу на очередную живодерню, или в светлое будущее, или в «рынок, который все сам отрегулирует». Такие не шагают в колоннах первомайских демонстраций, с флажками и транспарантами в руках. Такие всегда отойдут в сторонку. И не из-за философских убеждений, и даже не из здравых, разумных рассуждений, а просто из неосознанного внутреннего чувства самостоятельности.
Но, когда даже такой мужик сталкивается с роком, когда разваливается страна, рок все равно сломает его… Тем более если рок всегда бьет не разумно, не закономерно, не логично, а абсурдно. СССР не только абсурдно развалился, но и то, что он существовал семьдесят лет, тоже абсурдно…
Такой мужик – полная противоположность этому директору школы…
Да, такой вот мужик и нужен. Но только не деревенский мужик… Предположим, он был учителем. Началась перестройка, везде бардак. Он ушел из школы потому, что, хотя и окончил вуз, но он хороший столяр, плотник, строитель. Стал ездить на заработки с бригадой, а зимой на заказ делать столярку: рамы, двери… Заработок… И без политинформаций, классных часов, комсомольских собраний и новых методик объяснения теоремы Пифагора…
Потом вспомнился случай с одним бульдозеристом. Он хотел построить дом, ему отвели участок на месте карьера, который был мусорной свалкой. Карьер засыпали песком, заровняли. Дом бульдозерист заказал в районном РСУ (ремонтно-строительном управлении). Это дорого, но бульдозерист десять лет отработал на Севере, скопил денег. Дом за лето построили. Мусор под песком сгнил, осенью грунт просел, фундамент дома не выдержал – дом развалился на две половины. Бульдозеристу говорят: ты что, не понимаешь, что нельзя строить дом на свалке, засыпанной песком? А он в ответ: «А почему я должен это понимать? Я не строитель. Я бульдозерист. Это в РСУ должны понимать».
Я еще раз перечитал «Мартовский снег». Вспомнил, как сам ездил на заработки с шабашниками. Два раза. И оба раза неудачно, почти ничего не заработали… Вспомнил байку шабашников о том, как осенью, когда бригады едут домой из-за Байкала, с Севера и с Алтая, в поездах их обирают шулера-майданщики – обыгрывают в карты, вытягивают все деньги. И вот однажды шабашники решили подловить шулера. Подсунули крапленую колоду и стали выигрывать. Шулер сначала проигрывал, но потом вдруг выиграл все, что у них было, не меняя крапленую колоду. И потом объяснил им, что понял, в чем дело: играл, ориентируясь на то, что им известны его карты, играл по «обратной логике» и выиграл, – такой вот попался гениальный шулер, наказавший шабашников, взявшихся не за свое дело: в карты играть – это не горбом ворочать, в карты соображать надо.
Ну и конечно, страна, которая разваливается, распадается. И сталкивается с роком. Но не сталкивается, а рок подминает ее, безропотную. Но все равно обязательная сцена – смерть главного героя. Как же ему погибнуть, если он не восстал против рока? Значит, он должен погибнуть случайно, нелепо. Абсурдно.
Но тогда как сделать заявку обязательной сцены, если она должна произойти случайно? Как-нибудь абстрактно, символично… Это, кажется, где-то у Чехова: «Если в первом акте на стене висит заряженное ружье, то в последнем акте оно должно выстрелить…». Действительно, повесить в первом акте на видном месте ружье… Зарядить его так, чтобы все видели, что патрон вложен… Вот и заявка обязательной сцены. Убить главного героя нелепо, случайно, абсурдно…
Когда все абсурдно, то все и закономерно… Раз висит ружье и оно заряжено, зритель должен ожидать, что кто-то же из этого ружья выстрелит… В конце… Страна, которая столкнулась с роком… Не столкнулась, а безвольно ожидает своей участи. Как Мирский – сделают ему операцию, выдержит ли сердце или не выдержит или не будут делать операцию, а выживет ли он без операции…
X
Воспоминания о художнике
Почему-то вспомнился знаменитый белорусский художник, академик живописи. Я познакомился с ним случайно: редактор одного московского издательства попросил передать ему какие-то бумаги, кажется договоры, а я как раз ехал по делам в Минск. Я передал ему эти бумаги, он пригласил выпить чая, а потом предложил посмотреть картины в его мастерской. Я из вежливости согласился. Хотя немного удивился – я ведь отнимал у него время. Я удивился, еще когда он пригласил меня выпить с ним чая. Правда, чай он только что заварил, за несколько минут до моего прихода. Редкий тогда стеклянный чайник стоял на столе в прихожей мастерской, оборудованной под библиотеку, все стены довольно большой комнаты были уставлены иностранными дорогими альбомами.
Художнику было лет за семьдесят. Его нельзя было назвать крепким стариком. Но и дряхлым он не выглядел: худощавый, жилистый, с интересным крестьянским, деревенским лицом. Он предложил выпить с ним чая, я поблагодарил и отказался, приняв это предложение за проявление формально обязательной вежливости, но художник предложил еще раз, чуть настойчивее, и мне показалось, что этот человек приглашает выпить с ним чая, возможно, просто из желания выпить свой чай не в одиночестве, а вдвоем, хотя бы даже с незнакомым человеком, но только что приехавшим из Москвы, что тоже в какой-то мере может вызывать интерес, – страна-то уже начинала разваливаться, и в Москве это происходило быстрее, чем в Минске. Я согласился.
Согласился, наверное, еще потому, что от художника исходила приятная, очень хорошо ощутимая аура. Аурой древние греки называли богиню легкого ветерка. От человека иногда как бы исходит легкий ветерок, окутывает его, человек словно излучает некий едва уловимый аромат, который ощущается не обонянием, а в большей мере глазами. Аура исходит от всего человека, она почти видна, как легкий нимб вокруг головы, но еще больше излучается взглядом, глазами.
Художник производил впечатление приятного, доброго, видимо, умного, даже мудрого, простого деревенского человека. Похожая аура исходила от моего дедушки, недавно умершего в девяносто шесть лет в деревне Большое Заполье, в которую собрали хуторян из хуторского поселка Вуевский Хутор. Дедушка умер в своей хате, а, пока он жил, я приходил к нему по воскресеньям в эту хату, где прожил свои первые пять лет, приходил за четыре километра из Рясны, стараясь прийти пораньше утром, и уходил, когда начинало темнеть, а зимой, в хорошую погоду, уходил совсем затемно, под звездным небом, а лунными ночами – под сияющей яркой, белой луной, превращавшей зимнюю ночь в бледно-синий день, расстилавшийся над заснеженными полями.
Мы выпили чая, очень хорошо заваренного, съели по бутерброду с сырокопченой колбасой (я съел бутерброд, чтобы не создавать впечатление, что стесняюсь). Художник заметил, что я посматриваю на корешки иностранных альбомов: Босх, Брейгель, Гейнсборо, – и сказал, что собирает их не для коллекции, а они нужны ему для работы (я уже рассказал, что жил в деревне, работал учителем и издал в Москве книгу прозы): «Художнику это – как писателю перечитывать Толстого, Чехова, Бунина». А потом предложил посмотреть его мастерскую.
Я согласился, чтобы не обидеть художника. Хотя мне казалось, что я и так уже злоупотребляю его гостеприимством, все-таки я отнимаю у него время. Он, видимо, понял, что мне неловко, и сказал, что у него как раз перерыв в работе, ему как раз нужно передохнуть. До этого я знал только одну его картину – «Партизанская мадонна», в Белоруссии она считалась хрестоматийной и была хорошо известна, даже изображалась на почтовой марке, она была одним из официальных символов Республики Белоруссии, БССР.
То, что я увидел в мастерской, потрясло меня. Не какие-то конкретные картины, а все вместе. Я почувствовал, что художник – мастер невероятно высокого уровня. И именно почувствовал – не понял, а почувствовал это. Особенно поразили портреты – небольшие лица на черном фоне холстов среднего размера, в них ощущалось что-то космическое.
Было в мастерской и несколько вариантов «Партизанской мадонны», и картины из серии о немецком концлагере: во время войны художник попал в плен и только чудом выжил.
Прощаясь, я не стал говорить обычных комплиментов. Поблагодарил, извинился, что отнял время, сказал, что больше всего понравились портреты на черном фоне. Я видел, что художнику приятно, он, конечно же, понял, что его живопись произвела на меня очень сильное впечатление. Прощаясь, он сказал: «Когда приезжаете в Минск, звоните, заходите, не думайте, что отнимете у меня время. Я весь день в мастерской, от работы устаю, вот так попить чая, отдохнуть всегда нужно».
Предложение было неожиданным. Я уже понимал, что этот человек говорит только правду, то есть он действительно приглашает заходить к нему. Я сказал, что могу подарить ему свою недавно изданную книгу рассказов, сказал, словно стараясь чем-то отблагодарить. «С интересом прочту вашу книгу, – улыбнулся художник и добавил: – Звоните и заходите».
В очередной раз оказавшись в Минске, я позвонил, и зашел, и подарил художнику свою книгу. Мы опять пили чай, говорили о чем-то незначительном; прощаясь, он настоятельно приглашал заходить к нему каждый раз, когда я приезжаю в Минск. Мне приходилось часто ездить в Минск, я звонил художнику, он всегда был рад. Мои рассказы он немногословно похвалил: «Вы пишете хорошую прозу, теперь вам нужно как можно больше написать. Когда достигаешь своего уровня, то дальше вопрос только в количестве».
И вот как-то он рассказал мне, что после шестидесяти лет с ним стали случаться беспричинные обмороки. Вдруг резко падает давление, потеря сознания, и если никого рядом нет, то это смерть. Нужно, чтобы кто-то дал попить воды, а потом таблетку, – и через минуту словно ничего и не было. Происходит это в любое время суток. Иногда два раза за неделю, иногда месяца через три-четыре. Врачи толком ничего не могут сказать. Говорят, что это последствие трех лет концлагеря. В организме произошли какие-то необратимые изменения, которые трудно установить, – вот они и причина этих обмороков.
Если кто-то есть рядом, то от такого обморока вроде как ничего опасного, даже никаких особых хлопот. Но если это произойдет во сне, то, разумеется, утром увидят, что ты умер. «Но во сне это пока ни разу не случалось», – пошутил художник. Дома вместе с ним жена и сын. А, чтобы работать, в мастерской нужно быть одному. Художнику уже за семьдесят. Значит, все, что он написал за последние десять лет, написано с прямым риском для жизни.
Сразу я даже не подумал об этом. Но однажды, когда я был у художника, ему позвонили и ему пришлось уйти по какому-то делу на час-полтора. Я попросил разрешения остаться и еще раз посмотреть картины в мастерской. И, рассматривая эскизы, наброски и готовые работы (их было очень много, художник не любил продавать свои картины), вглядываясь в необычные портреты людей на черном фоне холстов (художник рассказывал, что писал их по памяти), я вдруг осознал, словно кто-то подтолкнул меня, и я как-то неожиданно понял, что каждый раз, приходя утром в мастерскую, художник хорошо знал, что он или продолжит делать то, что начал вчера, или умрет, если случится обморок и никто не подаст стакан воды и таблетку, как их подали бы дома, если бы он не ходил в мастерскую.