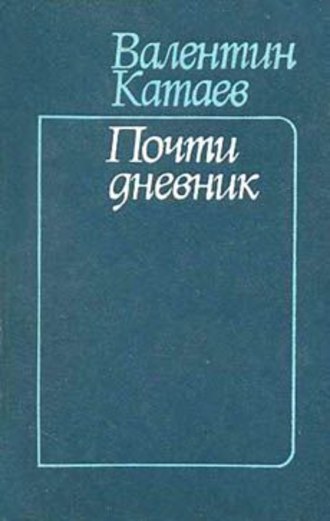
Валентин Катаев
Почти дневник
– Ну разве что так.
– Вы знаете, кто мог бы великолепно играть оперетку? – спросил он лукаво.
– Кто?
– Наши, Качалов, например. Вы представляете себе, какой бы это был замечательный опереточный простак? А Книппер! Сногсшибательная гранд-дама. А Леонидов? Представляете себе, с его данными, какой бы это был злодей! А Москвин? Милостью божьей буфф. Лучшего состава не сыщешь.
– Ну так за чем же дело? У вас в театре даже специальный зал есть, так и называется К. О. – комической оперы. Вот бы вы взяли бы да и поставили какую-нибудь оперетку с Качаловым, Книппер, Леонидовым, Вишневским.
– Какую же оперетку? – озабоченно спросил Станиславский.
– Ну, «Веселую вдову».
Станиславский задумался:
– Гм… гм… не получится.
– Почему же, Константин Сергеевич?
– Они петь не умеют.
Святой человек. Гений.
Думаете – вру? Святой истинный крест!
1962 г.
Николай Островский
В конце романа «Как закалялась сталь» есть место, которое трудно читать без слез:
«В такие минуты вспоминался загородный парк, и у меня еще и еще раз вставал вопрос:
– Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?
И отвечал:
– Да, кажется, все!»
В этих немногих, скупых и сдержанных словах, лишенных малейшей тени позы или сангимента, – весь Николай Островский, писатель и гражданин, вся его мужественная простота, все его высокое челозеческое достоинство, подлинно большевистская ясность, прямота, честность.
Значение Николая Островского для нашей литературы огромно. В сказочно короткий срок стал он любимейшим, популярнейшим автором миллионов советских читателей всех возрастов и вкусов.
Только могучая Коммунистическая партия могла вырастить в своих рядах человека такой несокрушимой воли, такого чистого и сильного таланта, воистину народного, воистину массового, воистину революционного.
В этом человеке, физически уже обреченном, было столько презрения к смерти, столько любви к жизни, столько огненного творческого беспокойства, что поневоле, когда думаешь о нем, становится подчас стыдно за свои мелкие писательские сомнения, колебания, лень.
…Крутой, упрямый лоб. Высокая шевелюра. Молодые усы. Белая рука сжата. Рядом с ней на потертых походных штанах лежит кобура револьвера. И прямые глаза, слегка исподлобья, как бы сурово обращенные в самую душу.
– Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?
Ты не вырвался из железного кольца, дорогой товарищ Николай Островский! Ты ушел от нас, но твоя чудесная, пламенная жизнь продолжается, цветет, кипит в миллионах твоих читателей!
1936 г.
Памяти друга
І
Умер Ильф – один из двух, составлявших замечательное содружество: Ильф – Петров. Друг добрый и вместе с тем требовательный. Взыскательный художник, человек тонкого и оригинального критического ума, высокого литературного вкуса. Милый, дорогой спутник молодости!
Он вошел в литературу в самый разгар гражданской войны и сразу же занял одно из первых мест в ряду революционной политической молодежи, объединившейся вокруг «Окон сатиры» одесского РОСТА.
«Окна сатиры»… Путь многих славных: Маяковского, Багрицкого.
Потом – Москва. «Гудок».
В «Гудке» Ильф нашел тот особый, острый, неповторимый стиль обработки рабкоровских заметок, который создал славу знаменитой в свое время гудковской четвертой полосе. Три-четыре изумительно отточенных строчки и заголовок, бьющий наповал.
Это была проза, сделанная мастерской рукой поэта-публициста.
Встреча с гудковцем же Петровым. Сближение. Опыт совместной работы над сатирическим романом «Двенадцать стульев». Блестящий успех этого романа, создавшего авторам известность. «Золотей теленок»…
Работа в «Правде» дала Ильфу – Петрову миллионную аудиторию, а вместе с тем внутреннюю содержательность и глубину.
И наконец, роковая поездка в Америку. Роковая потому, что Ильф, уже будучи тяжело болен, совершил по Америке утомительнейшее путешествие на автомобиле. Свыше шестнадцати тысяч километров. В результате – новая книга: «Одноэтажная Америка».
Но какой ценой была куплена эта книга! В этом весь Ильф, не пожелавший прервать путешествия, несмотря на обострение болезни. Он стремился наиболее полно и добросовестно изучить материал. В этом – настоящая писательская честность.
Теперь Ильфа нет.
На высокой подушке тяжело лежит белая голова с крупными, резко очерченными губами.
II
Год назад умер Илья Ильф.
Он умер в цветущем возрасте. Ему было сорок лет. Он принадлежал к поколению писателей, воспитанных Советской властью.
Ильф не был членом Коммунистической партии, но по своим политическим убеждениям, по идейной направленности своей работы, по моральному облику он представлял собою тот тип активного советского человека, которого мы с гордостью и уважением называем – непартийный большевик.
Жизненный путь Ильфа – мастера, человека – в равной мере и сложен и прост.
Ильф вышел из низовой интеллигентской среды. Его отец был бухгалтер. Ильф учился в Одесском техническом училище. Позже работал на авиационном заводе.
Его юность совпала с мировой империалистической войной; начало зрелости – с первыми годами Советской власти.
Ильф с детства тяготел к литературе: много читал, выработал превосходный вкус, писал стихи в своеобразной и острой манере.
Первые три года революции протекли на Юге необычайно бурно, за это время в Одессе совершилось четырнадцать «смен властей».
Какое богатство для острого, аналитического глаза сатирика!
Ильф был сатириком преимущественно.
В 1925 году И. Ильф переехал в Москву и начал работать в газете «Гудок». Первые же рабкоровские заметки, «обработанные» Ильфом, произвели в полном смысле слова переворот в этой области. В нескольких чеканных, отточенных, как кинжал, строчках Ильф давал убийственную прозаическую эпиграмму.
Это была тяжелая газетная работа. Но Ильф относился к ней как к самому высокому литературному жанру. Он вкладывал в нее все свое мастерство, свой острый, парадоксальный ум, свою наблюдательность, всю свою ненависть к штампу.
Работа в «Гудке» дала Ильфу громадный опыт, без которого немыслимо подлинное искусство.
Затем состоялась встреча с Евгением Петровым. Возник замечательный коллектив – «Ильф – Петров», подаривший нашей литературе не одну прекрасную книгу, начиная от «Двенадцати стульев» и кончая «Одноэтажной Америкой», и не один десяток боевых фельетонов.
Ильф всегда был связан с газетой. Его связь с «Правдой» продолжалась до самой его смерти.
С каждой новой вещью мастерство Ильфа и Петрова совершенствовалось, становилось все более реалистичным.
А последняя книга – «Одноэтажная Америка» – достигла великолепной прозрачности, точности и ясности, свойственных только настоящим художникам слова.
Ильф был реалист. И стать реалистом помогла ему революция. |
В писательской среде сейчас особенно много идет споров о социалистическом реализме, о простоте, ясности, четкости, о чистоте языка и народности искусства.
И как жаль, как бесконечно обидно и горько, что в это время с нами нет замечательного писателя и критика, тонкого человека, настоящего, неподкупного непартийного большевика – Ильи Ильфа.
III
Личность Ильфа не отделима от понятия «Ильф и Петров». И тем не менее как Ильф, так и Петров, конечно, существовали каждый в отдельности не только в жизни, но и в литературе.
Ильф возник раньше.
Мы помним появление молодого Ильфа. Эпоха военного коммунизма. Одесса. Так называемый «Коллектив поэтов» – пестрое и очень шумное содружество литературной молодежи. В большом запущенном зале покинутой барской квартиры происходит ожесточенное чтение стихов и прозы. Царит Эдуард Багрицкий.
Рыча и задыхаясь, молодой Багрицкий читает нам последнюю новинку революционной Москвы – поэму Маяковского «150 000 000».
В «Коллективе поэтов» мы собирались по вечерам, после работы в ЮгРОСТА, где делали то же самое дело, что в это время делал в Москве Маяковский: рисовали плакаты и писали стихи для «Окон сатиры».
Ильф не выступал со своими произведениями. Мы даже не знали, прозаик он или поэт. Но со времени его появления мы почувствовали, что среди нас находится какой-то в высшей степени загадочный, молчаливый слушатель. Он тревожил нас своим испытующе-внимательным взглядом судьи.
Коричневая ворсистая кепка спортивного покроя и толстые стекла пенсне без ободков интриговали нас не меньше, чем его таинственное молчание.
Иногда он делал короткие замечания, чаще всего иронические и убийственные своей меткостью. Это был ясный и сильный критический ум, трезвый голос большого литературного вкуса. Это был поистине судья, приговор которого был всегда справедлив, хотя и не всегда приятен.
Прежде чем стать тем Ильфом, который впоследствии прославился в громком имени «Ильф и Петров», он прошел большой путь рядового газетного работника. Но и в этом ежедневном труде редакционного правщика он щедро, полностью проявил свой огромный литературный талант. Он показал классические образцы редакционной правки. Он превращал длинные, трудно написанные и зачастую просто неграмотные письма читателя в сверкающие остроумием, точные, краткие заметки, из которых каждая была маленьким шедевром.
Его перо было действительно острейшим оружием, отданным на службу народу в борьбе с пошлостью, мещанством, прогулами, пьянством, взятками, бюрократизмом – всеми пережитками старого мира, которые мешали победоносному росту Советского государства. Это все было безупречно по форме, глубоко по содержанию, доступно пониманию широких народных масс. Это была настоящая, полноценная литература без всяких скидок на «жанр». В короткое время Ильф создал целую школу литературной правки газетного материала. Маяковский высоко ценил газетную работу Ильфа, всегда хвалил ее и о самом Ильфе неизменно говорил с нежностью и любовью.
В редакции «Гудка», во Дворце труда, на Солянке, встретились два литературных правщика. Один был Ильф, другой – Петров. Они подружились и задумали написать веселый роман. И написали его. И роман стал знаменитым. Кто не знает «Двенадцати стульев»?
Оказалось, что работа в «малой газетной форме» не только не помешала газетчикам Ильфу и Петрову прийти к большой форме романа, но, наоборот, помогла освежить эту большую форму, сделать ее более острой, доходчивой и близкой к жизни.
Ильф был очень человечен, деликатен, честен. Родина, дружба, любовь, верность, честь не были для него только словами. Он считал, что борьба за чистоту этих понятий, их утверждение в жизни есть священный долг советского писателя. Это и привело «Ильфа – Петрова» к работе в «Правде», где они во всеоружии своего уже вполне созревшего таланта выступили как писатели-патриоты с острыми, партийными фельетонами, высоко поднимавшими тему достоинства и моральной чистоты советского человека.
Ильф любил называть себя зевакой.
И действительно, он мог показаться зевакой.
Вот он идет не спеша по Сретенке, в хороших толстых башмаках, респектабельном пальто, шерстяном кашне, в перчатках, с лейкой на узеньком ремешке через плечо. Что ему нужно на Сретенке? Как он сюда попал? Неизвестно. Он просто гуляет по Москве. Все привлекает его внимание. Вот на водосточной трубе налеплены самодельные объявления. Он медленно подходит вплотную к трубе, поправляет пенсне и, выпятив крупные губы, прочитывает все, что там написано. Вот он подходит к магазину точной механики. Что ему, в сущности говоря, до точной механики? Но все же он тщательно рассматривает разные приборы, как бы желая их запомнить навсегда. Вот он возле кинематографа «Уран» разговаривает с двумя маленькими мальчишками. Вот он спрашивает о чем-то старушку с сумкой. Вот он становится в очередь на трамвай, в котором он, может быть, и не поедет. Вот он любуется скатом крыши над тесным московским двориком…
Да, он мог бы показаться зевакой. Но он не был зевакой. Он был тонким и пристальным наблюдателем жизни во всех ее проявлениях, даже самых ничтожных, мелких. Он был великим мастером собирания и обобщения мелочей, превращения деталей в факты философского значения.
О, как он хорошо знал жизнь, как любил ее, как становился гневен, когда видел ее уродство, и как умел восхищаться ее красотой!
1937—1938 – 1947 гг.
Эрве Базен
Роман современного французского писателя Эрве Базена «Анатомия одного развода», названный так в русском варианте с согласия автора, а в подлиннике именуемый «Мадам Экс», – явление во многих отношениях незаурядное, хотя бы уже по одному тому, что оно совершенно определенно утверждает в современной западной литературе, склонной к декадансу, путь реалистического романа.
Считается, что основная, если не единственная тема Базена – это извечная проблема семейных отношений.
А вот что говорит об этом сам Базен в одном из своих интервью: «Многие считают меня специалистом по „семейным трудностям“. Можно спорить, так ли это, поскольку, к примеру, мой роман „Головой об стену, или Встань и иди“ не имеет никакого отношения к „семейным трудностям“. Но такое толкование вполне понятно, если учесть, что, начиная с „Гадюки в кулаке“ и кончая „Супружеской жизнью“, я действительно много занимаюсь проблемами семьи».
Теперь к роману на семейную тему прибавился роман «Анатомия одного развода», до сих пор еще не известный советским читателям.
«Анатомия одного развода», несомненно, делает Базена одним из самых сильных исследователей семейной проблемы современного буржуазного общества.
В девятнадцатом веке было в обычае пользоваться в художественной литературе термином «физиология»: физиология определенного класса, определенной семьи, города, страны и т. д. Базен продолжил этот обычай, идущий со времен Золя, а быть может, из еще более далекого времени. Но Базену показалось слово «физиология» недостаточным. Он пошел дальше своих предшественников, здесь мы имеем дело с «анатомией», ибо романист, видимо, считает, что в особо тяжелых случаях социального заболевания вместо традиционного пера или же шариковой ручки следует применять скальпель хирурга.
И он прав.
Подчас хирургическое вмешательство – единственный способ спасти больного, в особенности когда речь идет не о жизни какого-нибудь одного человека, а целого человеческого клана, или, если хотите, класса. В данном случае класса «мелкой буржуазии», как неоднократно определял сам Базен ту социальную среду, в которой он оперирует скальпелем своего, не знающего пощады пера художника-реалиста.
Впрочем, я бы скорее назвал Базена не реалистом, а натуралистом, вернее, «натуралистом социальным» или даже просто материалистом, что еще точнее. Впрочем, так оно и есть на самом деле: оперируя в сфере, ограниченной рамками одной супружеской пары, вступившей на путь расторжения своего брака, Базен, в сущности, обнажает социальную структуру всего общества, к которому принадлежит сам.
Сюжет романа прост: разводятся супруги, долго прожившие вместе, имеющие уже четверых детей и вступившие некогда в брак по взаимной любви. И вдруг – развод! Повод – измена мужа. Банальный адюльтер, впрочем, не вполне банальный, так как неверный муж настолько увлечен, что решил жениться на своей любовнице, забыть все прошлое и начать новую жизнь, что в обычных адюльтерах случается не столь часто.
Он разлюбил мать своих четырех детей и готов на все для того, чтобы иметь возможность создать новую семью с новой, желанной, любимой и молодой женщиной.
Ну, что же. Начинается ничем не примечательный, весьма обычный, даже несколько скучноватый в силу своей банальности бракоразводный процесс из числа тех французских бракоразводных процессов, которые в большинстве случаев кончаются тем, что государственная власть в лице своего судебного аппарата разводит мужа и жену, которой возвращает ее девичью фамилию, но, конечно, не может вернуть девичьей юности и невинности. Казалось бы, о чем тут писать, а тем более объемистый роман.
Однако это не так.
Судебное решение о разводе, имеющее силу закона, отнюдь не исчерпывает сюжета. Роман не кончается, а, напротив, только еще начинается: возникает длинный ряд острых послесудебных ситуаций, вытекающих одна из другой в ходе исполнения судебного решения. В силу бюрократической инерции и несовершенства закона судебное решение дает повод к возникновению мучительно длинной цепи дополнительных и зачастую почти непреодолимые трудностей, сложностей, тупиков, связанных с разделом имущества, продажей дома, проблемой детей – как с ними поступить? – алиментами, различными судебными кассациями и новыми процессами, ведущими не только к трепке нервов, но и к крупным, даже подчас непосильным материальным затратам на адвокатов и так далее, и так далее, не говоря уже о том, что вся эта запутанная юридическая волокита в духе Диккенса болезненно ранит души тяжущихся сторон, а также тягостно отражается на брошенных отцом детях, которых суд, разумеется, присудил матери, однако при этом постановил два дня в месяц в обязательном порядке проводить с отцом.
Можно себе представить всю трудность этого обязательного положения, регламентированного математически точными календарными сроками: второе и четвертое воскресенье каждого месяца и две недели летних каникул Вот уж, что называется, настоящий идиотизм, так как нарушение этого судебного решения одной из сторон дает другой право возбудить новый процесс, связанный с увеличением или уменьшением процента алиментов.
А то, что дети – живые существа, во внимание не принимается… ими швыряются как шарами. Короче говоря, все вертится вокруг денег. Во всем решающую роль играют деньги. Деньги, деньги, деньги, только деньги.
Кошмар!
Разворачивая с неуклонной логической и хронологической последовательностью свой сюжет, Базен по ходу действия – неизменно отмечая его повороты календарными отметками (такого-то числа, такого-то месяца и года), что придает роману особую документальную достоверность, – как бы за ниточку вытаскивает на свет божий целую галерею возникающих один за другим персонажей, имеющих непосредственное отношение к содержанию романа, не говоря уже о портретах главных действующих лиц – «ее», «его» и «разлучницы», написанных с блеском, которому могут позавидовать самые лучшие из современных беллетристов; в романе появляются и все люди, сопутствующие аналитическому исследованию, предпринятому писателем. Тут и разного типа адвокаты, судьи, судебные клерки, чиновники, родственники «ее», родственники «его» и «разлучницы», агенты по продаже имущества, рассыльные, полицейские, торговцы, соседи-сплетники, знакомые соседей, вовсе незнакомые любители вмешиваться в чужие дела и т. д. и т. п., причем главное внимание писателя сосредоточено – хотя и очень незаметно – на четверке брошенных отцом детей, из которых у каждого свой особый, индивидуальный характер и которые все вместе вовлечены в тягостные перипетии развода своих родителей.
Стиль Базена – четкий, точный, строгий, лишенный сентиментальности, скорее стиль судебного документа, чем романа, однако зачастую украшенный чисто разговорными, даже уличными оборотами речи, что делает его особенно живым и естественным: ни одного портрета, ни одной сцены, ни одного слова, не имеющего отношения к операции, которой занят писатель. Каждое слово двигает действие, как в хорошей пьесе. Однако попутно со строгой объективностью повествования вдруг, как бы невзначай, возникают подробности, мелкие, но точные наблюдения, счастливо найденные эпитеты.
Мы убеждаемся, что Базен обладает редким качеством – умеет гармонически сочетать в художественной ткани своего произведения элементы «повествовательного» с «изобразительным». Он повествует изображая и изображает повествуя, что является самым драгоценным свойством литературного мастерства. Обе эти стороны – изобразительное и повествовательное – строго уравновешены.
Завидное золотое равновесие!
Благодаря этому свойству таланта Базена, дочитав роман до конца, вы вдруг замечаете, что перед вами только что было развернуто широкое живописное полотно, где каким-то магическим образом жанровые сцены сочетаются с пейзажем, портреты с натюрмортами, интерьеры квартир и судебных помещений с дождевыми каплями, повисшими на спицах раскрытых зонтиков, а все это вместе является зримой, почти стереоскопической, осязаемой, густо населенной картиной современного французского города, его мелкобуржуазного общества.
Да вы и сами убедитесь в этом, прочитав роман. Я, например, начал его читать без особой охоты, но вдруг на третьей же странице увлекся и проглотил его буквально залпом, хотя сам принадлежу к совсем другой литературной школе, чем Базен, стараюсь в своих вещах избегать хронологичности и предпочитаю связи формально-логической связь ассоциативную, люблю развернутые метафоры, фигуры умолчания и поступки своих персонажей пытаюсь, что называется, «взять изнутри», пропустив через себя. Узкая специализация писателя в какой-нибудь одной области (например, военной, медицинской, педагогической, детской) кажется мне весьма опасной для искусства. Писатель должен быть по возможности более широк и вовлекать в сферу своего внимания человеческую жизнь во всех ее личных и социальных аспектах. Тем не менее проза Базена, зачастую имеющая узкое направление, мне очень нравится, быть может, потому, что это проза человека одержимого.
«Одержимая проза».
Подобно Вольтеру, одержимому неистребимой ненавистью к католической церкви и к феодальному строю, его отдаленный литературный потомок, Эрве Базен, одержим ненавистью к несовершенству современных буржуазных государственных институтов и угнетающей косности мелкобуржуазного общества, разделенного на глухо враждующие между собою семейные кланы, превращающие прекрасное чувство любви мужчины и женщины в унылую супружескую повинность – постоянный источник адюльтера – и в повод для порабощения одной человеческой
личности другой.
Базен в корне своем глубоко пессимистичен. Его героиня убивает, он бескомпромиссен в непризнании социальной структуры своего общества. В этом непризнании есть даже что-то толстовское. При всей самобытности ба-зеновского стиля, сквозь социальную направленность Золя, сквозь ярость великого Бальзака, сквозь магическую стереоскопичность гонкуровского реализма я замечаю ядовитую, убивающую улыбку Вольтера. Несомненно, Базен в чем-то вольтерьянец.
В романах Базена нечего искать счастливого конца или, в крайнем случае, выхода из создавшегося положения. Его герои почти всегда оказываются в тупике. Перед ними – непреодолимая стена. Быть может, это происходит потому, что в общественной среде, которую изображает или, вернее, оперирует Базен, существует застарелый предрассудок, заключающийся в том, что люди придают слишком большое значение акту физической близости между мужчиной и женщиной, считая только это высшим наслаждением, высшим блаженством человека. Ведь такого рода любовь есть вечный двигатель жизни. В чем-то это, конечно, справедливо. Но не следует при этом забывать, что существует в мире другая, высшая форма любви – любовь духовная; дружба между супругами, симпатия, взаимопонимание, уважение, терпимость друг к другу – именно та любовь, о которой неустанно повторял Лев Толстой, противопоставляя ее любви половой и считая ее выходом из трудного жизненного положения. В особенности это ощущается в повести «Семейное счастье».
У Базена такого рода духовная любовь совсем не принимается в расчет, в чем он является последователем мировоззрения Мопассана.
Базен пишет в своем романе «Супружеская жизнь» следующее:
«Пороки супругов могут послужить основанием, чтобы с общего согласия признать брак недействительным. И все же самый главный порок брачной жизни – само время, убивающее основы супружества…»
Это справедливо лишь в том случае, если придается слишком большое значение такому, в сущности, пустяку, как время, а также при отсутствии понятия о высшей форме любви: духовной, над которой время не властно.
Как стилист Базен широко пользуется, как я уже здесь заметил, хронологией. Хронология у него – равноправный элемент языка. У него каждый эпизод романа имеет свою календарную дату, что делает писателя на сегодняшний день вполне современным, даже злободневным, но в будущем неизбежно превратит его роман в несколько старомодный.
Впрочем, ведь и Диккенса мы воспринимаем сегодня несколько старомодным, что не мешает ему быть великим и вечным. Однако Базен умеет кое-где применять и более современные приемы: строфичность прозы, когда писатель оставляет между отдельными особо эмоциональными абзацами пробелы, некие пустоты, что так заметно в печатном тексте. Эти типографские пробелы как бы приближают прозу к стихам, что очень украшает жесткий, сугубо прозаический язык Базена, делая его мягче, пластичнее и даже, я бы рискнул сказать – современнее: так, например, в одной лишь страничке романа «Супружеская жизнь» я насчитал четыре таких типографских пробела, придающих грубоватой прозе прелесть верлибра.
Порой Базен прибегает к формам почти фельетонно-газетным. Иногда это закономерно, но иногда разбивает впечатление стилевого единства, так, например, в «Анатомии одного развода» слишком фельетонно дано описание клуба брошенных жен «Агарь». Читателя эти страницы, конечно, позабавят, но я бы лично свел их к минимуму, ограничился бы только намеком. Ведь надо же дать пищу и читательскому воображению. В романе нельзя все без исключения разжевывать, нельзя писать без особой необходимости слишком густо. Нужен воздух.
Впрочем, довольно. Пусть остальное домыслит за меня читатель.
В заключение надо заметить, что крупнейший современный прозаик-реалист Эрве Базен пользуется громадной популярностью не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. У нас тоже. Базен по справедливости явля‹ ется президентом знаменитой Гонкуровской академии в Париже, быть может, самой мощной, непоколебимой цитадели хорошего литературного вкуса, а также великого французского реализма, уходящего корнями в глубину истории французской национальной культуры.
1976 г.







