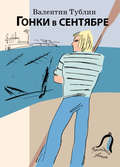Валентин Тублин
Золотые яблоки Гесперид
Меня все её теории не интересуют ни капельки. И никогда не интересовали. Мне даже всё равно, к какой категории она относит меня – к той, которая ей неинтересна, или к другой. Относила – так вернее. Ничего не могу сказать, никогда она не говорила ничего для меня обидного, но мне почему-то всегда хотелось хоть раз нарушить эту её всегдашнюю ровную вежливость. Чтобы она хоть раз забыла про эмоции, про то, что их надо сдерживать. Чтобы она заплакала, что ли. А ещё я думал, что лучше всего было бы её чем-нибудь потрясти. Или просто удивить. Чтобы она от удивления хотя бы забыла про эмоции. Для этого надо было не только придумать что-нибудь потрясающе умное, но и неожиданно это потрясающе умное обнаружить, только что же это такое могло быть? Я одно время специально думал над этим, а потом отказался, потому что её, похоже, ничем нельзя было удивить, я уже говорил, что она умная чёрт-те как. Потрясающе – иначе не скажешь. Так что я отказался. Отказался от своего намерения специально её потрясти, потому что для этого, как я понял, надо знать что-нибудь по-настоящему, знать так глубоко, как никто не знает, да ещё уметь рассказать об этом интересно.
Но тут всё случилось как нельзя лучше – в тот раз, когда я выдал весь текст с обратной стороны пластиночного конверта. Это было неожиданно и здорово, и хотя мне всё равно, но когда ты видишь, что такая девчонка, как Наташка, смотрит на тебя с удивлением, – это приятно. Не стану врать – это здорово приятно.
Только я не стал зарываться. Не стал обнаруживать глубину моей начитанности. На этот раз вполне хватало текста, написанного А. Бушем на обороте одного из конвертов, а ведь ещё три оставались у меня в запасе, а именно: и английские вирджиналисты (о которых я до этого и слышать не слыхивал), и испанская эпоха Возрождения, и немецкая музыка пятнадцатого века. Но главное, что осталось про запас, это фраза из Шекспира:
Кто музыки не носит сам в себе,
Кто холоден к гармонии прелестной,
Тот может быть изменником, лгуном,
Грабителем… Такому человеку —
Не доверяй.
Да, многое я мог в тот вечер добавить. Но не сказал больше ни слова – тогда, в тот вечер, у Наташки, когда мы, как обычно, забежали к ней всей толпой после Эрмитажа, чтобы посидеть в её комнате и послушать магнитофон с самыми сверхмодными записями.
Но меня эти записи интересовали не очень: я плохо танцую, стесняюсь не знаю как, может быть, всё из-за того, что все девчонки выше меня на полголовы, а может, потому, что я не слишком разбираюсь в джазе, – кто лучше, кто новей, кто сверхмодный и так далее… В этом отношении я отстал от всех лет на триста. Да и кроме того, меня просто всегда интересуют больше всего книги-а где ещё было больше книг, чем у Наташки… Их там было столько, что не во всякой библиотеке увидишь, клянусь, их там были тысячи. Книги были во всех пяти комнатах, книги были в коридоре, в специальных шкафах, и на полках, и на стеллажах, и во встроенных шкафах, и в проёмах – всюду и везде, где только мыслимо. И пока все ребята и девчонки бесились и изображали глубокое понимание сверхновой и сверхмодной музыки, я забирался куда-нибудь – в комнату или на антресоли – и перебирал там книгу за книгой, и так до тех пор, пока все не расходились по домам.
И в тот день, я помню, я тоже стал копаться в книгах. Только в тот раз я и не пробовал что-нибудь прочесть, просто вынимал книгу, смотрел, что за книга, и ставил на место. А сам в это время думал об одном. Об одном и том же – об этих самых словах Шекспира, о том, как он до такой мысли додумался, и о том, правда ли это, и может ли это быть на самом деле. Просто из головы не выходили эти слова. Вы знаете, как это бывает: привяжется что-нибудь – слова, строчка или мотив, – и потом можешь годами ходить, с ума сойти можешь – и никак не отделаться. «Кто музыки не носит сам в себе…» В этом надо было разобраться без свидетелей, надо было подумать самому, наедине с собой. Мне стало страшно. Я подумал: «Ведь выходит, что каждый из нас таким образом может стать мошенником. Ну, почти каждый». Почти. Потому что Наташка Степанова, Стёпа, конечно, нет, и хотя я не мог поклясться, не мог дать голову на отсечение, что у неё с этой самой гармонией в душе полный порядок, но, конечно, ни грабителя, ни лгуна, не говоря уже об изменнике, из неё не получится.
Вот о чём я думал в тот раз. Я сидел в какой-то из комнат, где до потолка высились полки с книгами, а по стенам висели картины – но не как в музее, не в тяжёлых и важных рамах с золоченой бронзой и, уж конечно, не репродукции, от одного взгляда на которые начинают болеть зубы. Это были странные картины, масло, акварель, графика, просто окантованные или закрытые стеклом. Больше всего там было натюрмортов – цветы, цветы, цветы. Но мне запомнилось другое: человек с листком. Да, странный человек со странным листком. Он сидел за столом, но, может, это был не стол. И книги – толстые книги, одна на другой, старинные, я думаю, книги, с пергаментными листами и переплётами из бычьей кожи, а сзади, за человеком – не то решётка, не то переплёт старинного окна, хотя и совсем другого, чем на конвертах к пластинкам «Тысяча лет музыки». Но этот человек и не имел отношения к музыке. Во всяком случае, об этом ничто не говорило, никаких инструментов рядом с ним не было. Только несколько книг и ещё какие-то листки – может, он был писатель? Или философ? Книги и листки, а за спиной не то решётка, не то окно, за которым виднелись горы. Они даже не виднелись, это неправильно, неточно. Они угадывались. То есть они не были прорисованы прямо, но было совершенно ясно, что если выйти из комнаты и из этого дома, то попадёшь на дорогу, она будет виться и виться вдоль реки, которая тоже, хотя и не была прорисована, угадывалась совершенно точно, и они – дорога и река – будут уходить и уходить, пока – если вы идете по этой дороге – вы все вместе, река и дорога, и тот, кто пойдёт по ней, не окажетесь в ущелье. А слева и справа от вас будут горы – те самые, о которых вы догадывались, когда ещё были в той комнате с решётками, когда ещё и не выходили никуда, а может быть, вам оттуда никогда и не выйти. Да вы всё равно знаете об этом – о дороге, реке и горах, как знал человек, который сидел за столом, или что там было. У него было странное лицо, будто составленное из множества плоскостей, и если вы смотрели на него прямо, то и он смотрел прямо на вас – и тогда у него было одно лицо, но если вы заходили чуть сбоку и начинали смотреть на него под углом – лицо этого человека менялось, и сколько бы раз вы ни начинали смотреть на него под разными углами, каждый раз вы видели нового человека. И выражение его лица тоже было новым каждый раз. Оно менялось – от приветливого и добродушного до гордого, замкнутого и даже высокомерного. А то вдруг становилось таким печальным, таким одиноким, что у меня начинало щипать в носу, и казалось мне, ещё секунда – и я заплачу.
Да, вот такое лицо – текучее и изменчивое, как вода, А в руке – листок, не бумажный, как вы понимаете, – не то кленовый, не то дубовый листок, и он держит его за черенок, и смотрит на него сам, и в то же время показывает, а что это всё значит – убей, не пойму. С ума сойти можно – так мне нравился этот рисунок и этот человек, Я чувствовал, что в этом есть какой-то смысл, какой-то шифр, и если знать его, этот шифр, или разгадать, раскрыть, то узнаешь что-то очень важное. Я мог бы, мне кажется, полжизни просидеть у такого рисунка. И знаете, – если смотреть не отрываясь на него, на этого человека, то возникает такое ощущение, что ещё, ещё немного – и он заговорит.
Но в тот раз – как, впрочем, и в предыдущие, проверить это не удалось. Потому что вернулись Наташкины родители, и мы разошлись по домам. Но здесь надо сказать вот что: не надо представлять это так, что вот они пришли – и тут мы все сразу кинулись к вешалке. Ничего подобного. Этого не было никогда. Я уже говорил, что Наташка – отличная девчонка, умная, красивая, хотя, по моему мнению, и задаётся. Но родители у Наташки мне нравились всегда ещё больше. Клянусь, я таких не видел. Вот уж кто не задавался ни капельки. А ведь могли бы. Они, Наташкины родители, – ужасно важные персоны: отец – академик, а мама – доктор каких-то наук, не то она физик, не то химик, никогда не мог запомнить. Можно было бы, при желании, конечно, и задаваться. Вон у Маркуши, у Витьки Маркушина в нашем классе, отец – инженер-строитель. Но попробуй к ним прийти, когда он дома, – даже кашлянуть, и то нельзя. Да что говорить! Это всем – и вам в том числе – известно: есть миллионы взрослых, к которым и не подойти, такие они важные. То есть я хочу сказать, что и через тысячу лет ты всё равно будешь для них ребёнком. Даже если тебе уже не десять лет, как когда-то, а пятнадцать или шестнадцать – всё равно ты для них ребёнок, а ребёнок для них – всё равно глупый, и твоё дело только слушать, что они, взрослые, тебе говорят. Слушать, восхищаться и исполнять. А твоё мнение их нисколько не интересует, как если бы ты был не человек, а консервная банка. Вот это и есть во взрослых самое обидное. То, что тебя и в четырнадцать, и в пятнадцать лет никто не принимает всерьёз.
Вот почему мне просто до обалдения нравились Наташкины родители. То есть я не хочу сказать, что мы там сразу становились взрослыми. Всё было иначе. Так, как и должно, по-моему, быть. Они, Наташкины родители, конечно, оставались взрослыми, а мы – сами собой, но мы никогда не чувствовали никакого к себе снисхождения, никакого сюсюканья и заигрывания. Просто мы были как две страны, одна – большая, а другая – маленькая, но обе страны имели одинаковые права и одинаковые обязанности. Да, они никогда не относились к нам свысока потому только, что были взрослыми, и всегда, когда бы мы ни пришли, и мама её и отец не забывали заглянуть к ней в комнату, где ребята сходили с ума от самых новомодных записей. И по тому, как Наташкины родители расспрашивали нас о наших делах – эрмитажных, школьных и домашних, – было ясно, что все эти наши дела им действительно интересны. А если начинался какой-нибудь спор – а где это видано, чтобы восемь или десять человек собирались вместе и не спорили, – если начинался спор и при этом были Наташкины родители, то никто из них не говорил никогда: «Нет, Дима, ты неправ, ты ошибаешься», – а всегда так: «Мне кажется, что один из нас допускает ошибку». И тут спорщики не пытались силком переубедить друг друга, а просто старались, вынуждены были искать подтверждение своей правоты и лезли либо в справочники, либо в словари или в энциклопедию и выясняли истину. Помню, как Костя заспорил однажды с Наташкиным отцом. Они спорили о Коктебеле, о том, кому принадлежало поместье, где сейчас вырабатывают шампанское. Наташкин отец говорил, что Воронцову, а Костя – что Голицыну, и поскольку никаких справочников по Крыму под рукой не оказалось, ничего выяснить не удалось. Но через неделю, когда мы снова оказались у Наташки, вошёл Иван Иванович, её отец, и сказал Косте: «Я приношу вам свои извинения. Вы были тогда совершенно правы».
И тут я увидел – в первый раз, – как может человек покраснеть. Краска стала подниматься у него откуда-то со спины, и он всё краснел, а все кругом смеялись, – но не со злостью, как это бывает, когда все друг другу враги, а добродушно, и не потому вовсе, что Наташкин отец, хотя он и академик, может знать меньше одного из нас, а потому, что никто из нас и подозревать не мог, что Костя может так смущаться. Нам-то казалось, что если кто и не смущается никогда и ни от чего, то это как раз он, и просто удивительно было, что он, наш староста, староста нашего знаменитого эрмитажного кружка…
Не знаю, чем бы это кончилось – вполне может быть, что Костя вдруг вспыхнул бы и сгорел, но тут заглянула Наташкина мама и сказала: «А самовар кипит. Давно уже. Вы что, не хотите чаю?»
И мы повалили на кухню.
Кухня в этом доме была огромной, как футбольное поле. И всегда там кипел самовар – всегда, когда бы вы ни пришли. Я говорю про самовар вовсе не потому, что это какая-то невидаль. У нас, к примеру, дома тоже есть самовар – маленький электрический самовар литра на полтора. Но этот самовар был не электрический. Он был самый настоящий, на углях – на лучине и древесном угле, и входило в него воды, наверное, ведро. Я сам видел, как его разжигали, это делала всегда Наташкина бабушка, весёлая такая старушка, она разжигала его, раздувала, а потом ставила сверху самую настоящую трубу, и самовар гудел, как заводской гудок. Вот из этого-то самовара мы и пили чай каждый раз перед тем, как разойтись по домам, а нас собиралось там до двадцати человек. Это было уже как ритуал, и было это очень здорово, словно мы одна семья, в которой двадцать человек детей, и тут можно было только позавидовать тем, у кого были дома братья и сестры, потому что ни у меня, ни у Кости, ни у кого из тех, кого я знал, не было их. Не было ни братьев, ни сестёр, и не с кем было сидеть вот так у самовара и чувствовать, что вы все – это одно, что вы друг другу родные, и в случае чего, все – один за одного. И думается мне, что не только мне одному приходило это в голову, только на такие темы у нас говорить не любят. Строгий народ.
Иван Иванович, Наташкин отец, тоже, по-моему, думал об этом, потому что не раз, садясь за стол, говорил, глядя на нашу банду: «А что, хороша у нас семья, хороша?», на что Наташкина бабушка отвечала совсем по-старому: «Ну и слава богу».
Да, повезло Наташке, во всём повезло. Но отец у неё был просто высший класс. Никогда не видел, чтобы человек мог выпить столько чаю. Он, наверно, один мог выпить весь самовар. Он утверждал, что если выпить за день пять – шесть стаканов крепкого чаю, то и забыть забудешь, что такое болезнь. Я думаю, что это он шутил. Другое дело, что я сам не свой до чая, и между нами всегда шло как бы соревнование, в шутку, конечно, – кто первый сойдёт, так сказать, с дистанции. Первые три стакана я держался на равных, а потом, конечно, отставал, мне до него было далеко. Но кто иногда побеждал – это Наташкина бабушка. Она никогда не торопилась и пила чай с блюдечка. И вприкуску – иначе она чая не признавала. Подует на блюдечко – и выпьет. И ещё. И ещё. Так что, может быть, Наташкин отец и знал, что говорил. Старушке было уже за восемьдесят, трудно даже представить, сколько это, а она была такая живая, просто молодец. Но я-то не хотел бы столько жить. Мне кажется, что надоест. Всё уже видел. Всё знаешь. Ничего уже нового с тобою случиться не может…
В тот день мы тоже собрались на кухне. И тут Наташка говорит: «Папа, вот Димка только что из Риги».
А он: «Так, – говорит. – Очень интересно».
А Наташка: «Димка, – говорит, – расскажи ещё раз про Домский собор».
И тут я понял, что значит краснеть. Как Костя краснел когда-то. У меня даже дыхание остановилось, и краска стала подниматься даже не со спины, а, по-моему, от пяток. Ведь Наташкин отец сразу понял бы, откуда у меня такие знания, понял бы, что я просто зазубрил наизусть текст с конверта. И тут произошло чудо. Я уже было раскрыл рот, чтобы снова начать всё сначала, и вдруг поперхнулся. Может быть, бог всё-таки есть? Я чуть не умер там за столом, так что пришлось даже выйти из кухни и отдышаться, а когда вернулся, никто уже о Риге не вспомнил. На этот раз я соревновался с Наташкиным отцом до конца. Не знаю, что на меня вдруг нашло, но в горле у меня пересохло, как в пустыне. Не успевал я выпить один стакан, как тут же подвигал его снова к самовару… Жуткая была жара, пот тёк с меня не ручьями даже, а рекой, и всё вокруг дышало зноем. С каждой минутой мне становилось всё жарче, и я всё пил и пил и никак не мог оторваться.
* * *
Никак. Он стоял на коленях в мелком речном песке, вода была прозрачной и холодной, ибо она текла с гор. Солнце стояло в зените, и все его лучи, казалось, были направлены на него, и пот стекал с него вместе с мелкой дорожной пылью.
Здесь и нагнал его вестник.
Это, похоже, был один из дворцовых слуг Эврисфея, смышлёный на вид парнишка. Волосы у него были всклокочены, одет кое-как, но быстр на ногу – наверное, потому он и послан был вослед Гераклу. И он нашёл его.
По правде говоря, это было совсем не трудно, – Эврисфей попросту указал ему место, куда он должен бежать и где должен был настигнуть героя, – и теперь он с восхищением смотрел на огромную фигуру Геракла, на могучую спину, склонившуюся над чистой речной водой, на палицу из ствола оливкового дерева, которая валялась на песке, рядом со шкурой, луком и стрелами в потёртом заштопанном колчане. Таких луков мальчик тоже не видел никогда – из двух рогов антилопы, каждый – два с половиной локтя, с искусно сделанной костяной вставкой между ними; на кончике каждого рога был укреплён медный крючок с прорезью для тетивы, а сама тетива была сплетена из скрученных вчетверо воловьих жил.
– Меня прислал к тебе Эврисфей, благородный царь Микен, – сказал мальчик, не спуская взгляда с чудовищного лука. Но Геракл, похоже, не слышал его, и тогда мальчик вспомнил, как во дворце, посмеиваясь, говорили о том, что Геракл оглох, разучился говорить в своих бесконечных скитаниях, что он едва ли не утратил уже человеческий облик, и стоит ему только разучиться говорить, как он станет неотличим от животных. «Не подходи к нему слишком близко, – такой совет получил он, отправляясь. – Прокричи ему издалека то, что поручил тебе царь, и беги обратно со всех ног, а то как бы он тебя не раздавил, не заметив даже, кто ты».
На всякий случай мальчик и впрямь отступил на шаг и снова выкрикнул громким голосом:
– Я послан к тебе, о Геракл, чтобы сообщить волю благородного царя Микен Эврисфея…
– Ну так и сообщай, – сказал Геракл и обернулся. Мальчик даже не заметил, как он успел подняться. Движение было молниеносным и бесшумным, Геракл поднялся с песка мгновенно и теперь смотрел на застывшего от неожиданности мальчишку, вытирая влажные губы. – Что там ещё случилось с твоим благородным царём?
– Он велел передать, что меняет своё первоначальное распоряжение.
– Я иду за яблоками, – сказал Геракл. – Он приказал мне достать их. Золотые яблоки из сада Гесперид. Ты слыхал что-нибудь про это, малыш? Золотые яблоки, дающие вечную молодость. Край света, Атлант, сестры Геспериды, бессонный дракон – разве этого мало твоему благородному царю?
– Я не знаю, – сказал мальчик. – Мне было приказано разыскать тебя и сказать, что дело с яблоками может подождать. Он, то есть благородный царь Микен Эврисфей, велел передать тебе, чтобы ты спустился в царство мёртвых и привёл ему оттуда Цербера. Ну вот, я и выполнил поручение.
– Ладно, – сказал Геракл. – Мне ведь всё равно. Цербера так Цербера. Есть хочешь?
– Очень, – сказал мальчик. – Знаешь, я с утра не ел, а сейчас уже, наверное, полдень.
Геракл взглянул на небо.
– Половина первого, – сказал он.
– Вот это здорово, – сказал мальчик. – Как это ты?
– Научился, – сказал Геракл. – Точное время всегда необходимо знать. А что, великий учёный Эврисфей не научил ещё вас этому?
– Но ведь ты-то не ходишь в нашу школу.
Геракл засмеялся.
– Не только Эврисфей умеет определять время по солнцу, – сказал он. – Значит, ты из его школы. Знаменитая школа, везде об этом говорят. Учиться интересно?
– Когда как, – сказал мальчик. – Да ты ведь сам знаешь, только делаешь вид. Нет, – признался он, – конечно, интересно, только больно много всяких слов. И тогда становится скучно – ты давно уже всё понял, а тебе всё ещё разжёвывают.
– Ну, а спорт?
– Какой там спорт, – вздохнул мальчик. – У нас даже хорошей спортплощадки нет. Просто погоняем иногда мяч или начнём бороться… – Он посмотрел на Геракла. – Послушай, – сказал он. – Согни, пожалуйста, руку. Вот так, да.
Геракл согнул. Мальчик попытался обхватить его бицепс всеми десятью пальцами – и не мог.
– Вот это да! – прошептал он. У него самого под кожей ничего не вздувалось, сколько бы он ни напрягался. Он не был слабаком, вовсе нет, а бегал и прыгал он вообще лучше всех, но если бы он имел такие бицепсы…
И он вздохнул.
– Пойдём в тень, – сказал Геракл. – Ну и печёт…
Они нашли небольшую пещеру – там, где речка делала поворот, у высокого берега. В пещере было уютно и совсем не чувствовалась жара. И река шелестела – слышно было, как она перекатывала мелкие камешки.
– Пора подкрепиться, – сказал Геракл и достал из огромной сумки целую оленью ногу. – Я-то люблю есть холодное мясо, но тебе я поджарю.
– Я тоже хочу есть холодное мясо, – сказал мальчик. – Как ты.
– Нельзя, – сказал Геракл. Голос у него был совсем не грубый, как этого можно было бы ожидать, наоборот, такой глубокий и мягкий. – Маленьким мальчикам, вроде тебя, опаснее всего есть всухомятку. Наживёшь язву желудка – и всё для тебя пропало. – Он повертел оленью ногу, понюхал. – Свежая, – сказал он, – закоптили три дня назад. Нет, пожалуй, четыре. Пришлось за неё полдня чистить коровник, я же теперь по этому делу специалист. Специалист по чистке коровников и конюшен. Еле потом отмылся.
– Никогда бы не стал чистить конюшни, – сказал мальчик.
– Ну, это ты зря. Должен же кто-то это делать, – сказал Геракл. – Работа как работа. И оленья нога в придачу.
От поджаривающегося мяса потянуло таким вкусным запахом, что приходилось то и дело сглатывать слюну.
– А что сделали с моими быками?
– С быками? (Скорей бы прожарился этот кусок!)
– Ну да. С быками Гериона. Я же пригнал этих проклятых быков чуть ли не сотню.
– А! Ты про этих. Часть – ту, что похуже, – принесли в жертву. Ты знаешь, их сжигают целиком. Другую часть Эврисфей велел забить и отправить на склады. Несколько быков зажарили и угостили народ – было объявлено, что это искупительная жертва за твои грехи. А самых породистых царь велел отвести к пастухам в стадо. Он хочет скрестить их с местными коровами и вывести новую породу.
– Узнаю вашего великого царя, – сказал Геракл. – Даже великих богов хочет он обмануть. Новая порода коров… Ну ладно, – сказал он, потрогав мясо. – Снимай. Только не торопись, здесь хватит.
Такого мяса мальчик в жизни не ел. Такого вкусного. Сок из него так и брызгал. Мальчишку даже в жар бросило. Ему казалось, что он мог бы есть это мясо не переставая.
– Вкусно? – спросил Геракл.
Мальчик только замычал.
– Вот и хорошо. Ты ешь, ешь.
Наконец он съел всё. Некоторое время они молчали.
– А как тебя зовут? – спросил Геракл. Он лежал на спине, и глаза его поблескивали в полутьме, как у кошки.
* * *
У меня прямо кошки заскребли на душе от этого вопроса. Этого я и боялся, боялся больше всего. Я не мог сказать ему своего настоящего имени, не мог сказать, что меня зовут Дима, потому что он сразу понял бы, что я не тот, за кого я себя выдаю, и обман раскрылся бы сразу. Он сказал бы: «А, это ты», – встал бы, взял бы свою дубину и лук, колчан со стрелами и шкуру и ушёл, растворился, исчез, не сказав больше ни слова. Потому что я никогда не верил в мифы, никогда не верил в существование героев. «Это чепуха, – говорил я всегда, – все эти мифы – это сказки для малышей, чтобы заинтересовать их изучением истории, а взрослым, таким, как мы, в восьмом уже классе, нечего забивать себе этим голову». Не стоит даже тратить на все эти сказки для малышей время, запоминать не существовавших героев, совершавших не существовавшие подвиги, иное дело – историческая наука, чистые факты, подтверждённые разными там авторитетами. А мифы – это липа, надувательство и обман. Тут-то мы всегда и сцеплялись с Костей, который был просто помешан на истории, на истории и всяких историях об истории, и который говорил всегда о разных там подвигах и приключениях так, словно он сам там был, словно только что вернулся с аргонавтами из плавания за золотым руном, Да, это было удивительно – то, что Костя верил этим мифам и древнегреческим легендам, и что бы я ни говорил ему – стоял на своём, как бревно. Это меня жутко поначалу раздражало, я думал даже, что это он, Костя, нарочно, чтобы позлить всех, или от упрямства, но потом понял, что он действительно так думает, действительно верит во всё, – и махнул на него рукой. Но сам я все эти выдуманные древними людьми истории не ставил ни во что. Детские сказки – вот и всё. Да и ему самому, Косте, я так и говорил под конец любого нашего спора.
– Признай, – говорю, – что это просто сказки.
А он:
– Ну хорошо, сказки. Но от чего-то они отталкивались. Что-то они имели в виду.
– Да пойми, – говорю, – это всё устные предания. Тогда и письменности не было.
– Да ведь мы ничего не знаем о письменности – была она или нет. А у шумеров – была письменность или нет? А у древних египтян? Во времена, скажем, первой династии. Или ещё раньше. А Шлиман? – говорит. – Как насчёт Шлимана?
– Что, – говорю, – насчёт Шлимана?
– А вот то самое. Он поверил Гомеру и разыскал Трою. Разыскал или нет?
– Так то, – говорю, – совпадение. Понял? Совпадение. Счастливый случай. Ненаучно это. Вопреки науке.
А он:
– Научно или нет – а раскопал Трою. Да или нет?
Не было никакого смысла с ним спорить. Не понимал я его. Очень долгое время не понимал, чего он такого нашёл во всём этом. Я имею в виду историю. Не видел я в этом особого смысла, честно говорю. Ведь что было, то было, изменить ничего нельзя. Тогда какой интерес? Какая кому польза от этой истории? Нет, я в этом его сумасшествии никакого смысла не видел. Ну была у меня пятёрка по истории – что ж из того? Это же нехитро. Выучить все даты, нарисовать контурные карты, вычертить стрелками маршруты походов. Просто учёба – и всё. Но мифы… Помню, я спросил об этом отца. Я спросил его, что такое мифы, но он и разговаривать со мной на эту тему не стал. Он отослал меня к энциклопедическому словарю, потому что, добавил он при этом, надобно всегда искать точные знания там, где они находятся. Пить, так сказать, из чистых источников знания. Да, он у меня человек именно такого склада – может быть, потому, что всю жизнь ему приходилось учиться заочно. Вот почему он и сказал: «Мифы? Возьми на полке второй том энциклопедического словаря. Только не забудь поставить его на место».
Так я и сделал. Взял второй том словаря и там, на странице триста девяносто шестой, между словами Миус (река на Ю. – В. Укр. ССР) и Миха Цхакая (Ахал-Сенаки, город, р. ц. Груз. ССР) нашёл:
«Мифы – сказания, в к-рых получили отражение примитивные представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы и общественной жизни. Значит, роль в мировой литературе сыграли М. древних греков. В разговорной речи М. часто называют всякий вымысел, недостоверный рассказ».
Вот что там было написано, в справочнике. В чистом, так сказать, источнике знания. Слово в слово. «Примитивные представления древних народов» – и больше ничего. Пустое, всё пустое. Вымысел – это не что иное, как просто враньё. Говорил ли я об этом Косте? Само собой. Но тот, кто думает, что его можно смутить такими вещами, ошибается. Говорю, он помешался на истории. Знаете, что он сказал? Что когда-нибудь, много лет спустя, про энциклопедический справочник нашего времени тоже напишут: «Примитивное представление древних народов». Можно с ним спорить? Нет. А может, и не нужно. Это я понял позже – не надо с ним спорить. Потому что, понял я, он должен так говорить, и верить должен тоже. Если он собирается стать археологом – а он собирается стать именно археологом, – он должен верить мифам, как верил им Шлиман. Ему нельзя, просто нельзя не верить, если он хочет стать знаменитым археологом, найти золото инков или чего он там хочет найти. Но я-то не собираюсь становиться археологом и поэтому не обязан верить во всякие примитивные представления.
Если сказать честно, то, может, кого-нибудь удивит то, что я собираюсь делать доклад о Гомере. Но это совсем другой вопрос. Это просто так получилось, даже и вспоминать не хочу, как это получилось, гнусная история – нет, не буду вспоминать или вспомню когда-нибудь потом, когда всё совсем забудется, а сейчас это не относится к делу. Могу только сказать, что из-за этого доклада мне пришлось прочитать сто тысяч книг, где миллионы учёных со всего света спорят о Гомере, и все эти книги показывают, что вся история покрыта мраком. Даже такой вопрос, который, казалось бы, ясен как день. Я ещё расскажу когда-нибудь подробнее обо всём этом, а пока скажу только вот что: мифы? Не поверю никогда. Потому что из всех этих учёных до сих пор никто не знает точно, где родился Гомер, или сколько он прожил, или в какие точно времена жил, да что там – до сих пор они не могут просто договориться по вопросу – а был ли Гомер вообще. Вы поняли? Вообще был ли он, то есть существовал ли такой человек из плоти и крови, просто человек, которому можно было сказать: «Послушай, Гомер, не знаешь ли ты…», ну и спросить его о чём-нибудь, о том, скажем, как идут дела с «Одиссеей» или придёт ли он завтра на собрание у дворца, а он обернулся бы и сказал: «Не знаю. Посмотрю, как пойдут дела». Теперь вам понятно? Учёные, тысячи учёных, профессора, академики даже. Да, и академики – в шапочках таких чёрных – спорят и спорят до хрипоты. Был Гомер? Был. Нет, не был. Нет, был.
Что ж тут говорить о мифах, о героях всяких, о Геракле и о Тезее, о Елене Прекрасной? Может быть, тогда и Зевс был? И Венера?
И только одно смущает меня всегда. Этот самый Шлиман. Да, я же сам говорил – совпадение. Совпадение то, что он открыл, раскопал, нашёл Трою именно там, где говорил о ней Гомер, хотя это была и не та Троя. Но открыл, открыл. И ещё: но это уже о Гомере. Всё-таки неясно одно. Ну, был Гомер. Ну, не было его. Но книги-то есть! «Илиада» и «Одиссея». Откуда-то они всё-таки взялись. Я не знаю, как пишутся книги, но ведь не из воздуха они берутся. Кто-то должен сесть – за стол или за пень, или делать это стоя или лежа, – но кто-то ведь должен вывести сначала первую строчку, потом вторую, третью, сто девяносто четвёртую – а в «Илиаде» их больше десяти тысяч. Нет, что-то во всей этой истории есть, не отрицаю, но я не хочу ломать голову над вопросами, на которые и через тысячу лет никто не сможет ответить, и через две, а может, и через три; как только я начинал об этом думать, мне сразу становилось дурно, голова у меня кружилась, мне становилось жарко – да, самый настоящий жар начинался у меня, как сейчас, и тогда мне начинала мерещиться всякая чертовщина, и, чего доброго, я мог поверить во все эти сказки, в примитивные сказки древних греков, и я представил себе, что я маленький мышонок, который прогрызается сквозь огромную гору книг о Гомере, и каждая книга пищала своим голосом – не веришь, не веришь, а потом появлялись профессора и академики в чёрных шапочках, они смотрели на меня укоризненно, они грозили мне пальцем, покачивая головами, а потом откуда-то появлялся Геракл, огромный, усталый и задумчивый, он шёл, тяжело передвигая ноги, шкура льва тащилась по земле, из колчана за спиной виднелись оперения стрел, он тоже бросил на меня какой-то странный взгляд, как бы говоривший: «Не веришь ведь, а?», – а потом все вместе – профессора и академики, и Геракл, и ещё кто-то, кого я не мог угадать, – начинали кружить вокруг меня в странном хороводе, а из-за их спины, неизвестно откуда голос, похожий на голос говорящей птицы, выкрикивал один и тот же вопрос, на который я почему-то никак не решался ответить. «Как тебя зовут? – спрашивал этот голос. – Как тебя зовут, как тебя зовут?…»