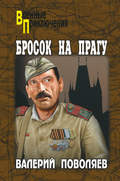Валерий Поволяев
Лесные солдаты
– Сейчас на дым с огнём кто-нибудь обязательно примчится, – жара допекала не только маленького бойца, но и лейтенанта, он привычным движением сунул под фуражку платок, отёр волосы. – Вот только кто примчится – наши или не наши? Ждать будем?
– Не-а, товарищ лейтенант!
– Почему? – лейтенант и сам не знал, почему не надо ждать, но тем не менее задал этот вопрос Ломоносову.
– Из наших тут вряд ли кто остался живой – все погибли. Если бы были живые, мы бы их увидели – люди держались бы заставы… Если кто и появится, то только немцы. А вот они нас точно прижопят, товарищ лейтенант.
– И всё равно кто-то из наших должен остаться в живых, Ломоносов. Вон немцы убитые… Не сами же они себя убили.
– Это сапёры их уложили, – убеждённо произнёс маленький боец.
– Какие сапёры? – не понял лейтенант.
– А здесь рядом сапёрная полуторка стояла, их палатки в километре от заставы находились… Сапёры фрицев и уложили. И ушли.
– М-да. Теперь всё понятно. Пограничники бы не ушли, держались бы заставы, а сапёрам здесь делать было нечего. Только почему они броневик целым оставили?
– Не знаю, товарищ лейтенант.
Дым, поднимавшийся над горящей машиной, был виден далеко, и дух его ощущался далеко – лейтенант с маленьким бойцом отошли от заставы на полкилометра, а сладковатый химический дух горелого эрзац-бензина не исчезал, висел в воздухе.
На привале в лесу Чердынцев проговорил, ни к кому не обращаясь – он обращался только к себе:
– Мы сюда ещё вернёмся… Мы обязательно вернёмся!
Он верил в то, что говорил. И маленький боец верил.
Немецкий «сидор», так удачно найденный Ломоносовым, был что надо – под завязку набит продуктами, и вообще он очень пригодился в пути, – если бы не консервные банки с аппетитными этикетками, пришлось бы пограничникам грызть на деревьях кору. А так и лейтенант, и маленький боец чувствовали себя очень сносно: Ломоносов достал из мешка одну банку, украшенную маленькими золотыми рыбками, ловко подбросил её вверх.
– Что это, товарищ лейтенант?
Чердынцев перехватил банку, прочитал, что там под рыбками, нарисовано.
– Сардины. Между прочим, испанские. А испанские сардины – лучшие в мире, Ломоносов.
– А это что будет? – маленький боец достал из ранца ещё одну банку с приклеенной к ней тусклой этикеткой, на которой был изображён бык со свирепой мордой и налитыми кровью глазами, подкинул банку.
Лейтенант перехватил её. Глянул на этикетку и также подкинул вверх, банка перевернулась в воздухе и устремилась вниз. Ломоносов поймал банку.
– Это тушёная говядина, – сказал лейтенант.
– Годится, – снисходительно произнёс Ломоносов, достал из ранца ещё одну банку, подкинул.
Лейтенант её даже ловить не стал, на лету определил, что за продукт в неё находится.
– Сосиски, – сказал он.
– Сосиски? Это что такое? Никогда не ел.
– Ну-у… такие маленькие колбаски. Их варить надо. Немцы любят есть сосиски с тушёной капустой и запивать пивом. Но ещё больше любят копчёные сардельки.
– А это что такое?
– Те же сосиски, только потолще.
– Что же в итоге выходит, товарищ лейтенант? Сосиски – на один зуб, а эти самые сарделки – на два зуба, да?
– Не сарделки, а сардельки.
– Один хрен, поскольку не наша это еда. И вряд ли когда будет нашей…
– Не знаю, Ломоносов. Вдруг и будет.
– Держите, это вам, – маленький боец отдал Чердынцеву банку с изображением свирепой бычьей морды, – себе я достану точно такую же, – он проворно зашуровал рукой в ранце.
– Спасибо, Ломоносов, – сказал лейтенант, – но продукты надо бы поберечь. Неведомо, когда мы их ещё достанем.
– Достанем, – уверенно проговорил маленький боец. – Меня ведь в деревне знаете, как называли?
– Как?
– Нюхачом.
– Нюхач, нюхач… – произнёс лейтенант дважды и засмеялся. – Как в лагере.
– По части шнобеля, – маленький боец ухватил себя за нос-кнопку, – и двух сопёлок, – он зажал одну ноздрю пальцем, сморкнулся, – мне не было равных.
– Ломоносов, – укоризненно произнёс лейтенант, – так и дерево свалить можно. Видать, в школе ты был плохим пионером. Зачем же наносить природе ущерб?
– Наоборот, я всегда был хорошим пионером – сажал деревья, пропалывал грядки и… – маленький боец замялся, помотал в воздухе ладонью – не мог найти нужное слово.
– Ну и что же, по-твоему, нюхач?
– Это талант, товарищ лейтенант.
– А именно?
– Ну вот, к примеру… Иду я по деревне… В каждом доме печка топится – еду готовят. Я, даже не заглядывая, знаю – вот в этом доме гусю голову отрубили, готовят на обед праздничное угощение, а вот в этом – шкару из сёмги с луком и морковкой, а в том вот доме – кулеш, дальше – борщ наваристый с говяжьими бульонками, ещё дальше – котлет налепили целый противень, в под сунули, две минуты назад бабка доставала противень из печи, котлеты перевернула, водичкой кипячёной обмахнула, чтобы продукт не подгорел, и снова сунула противень назад в печь, а в том вот дальнем доме пироги с рыбьей вязигой затеяли – хозяин в Архангельск ездил, вязиги привёз, в доме напротив суп из куриных потрошков варганят… И так далее, товарищ лейтенант.
– И всё это разнообразие определяют лишь две ноздри? И больше ничего?
– Больше ничего.
– Не могу скрыть удивления, Ломоносов.
– Точно так же, не заходя в магазин, я могу узнать, есть в нём колбаса или нет…
Немецкие консервы оказались превосходными. Все-таки, в чём, в чём, а в еде фрицы толк знают – они, похоже, из любой картонки могут настрогать гуляша, а уж из мяса… По части мясных блюд и прежде всего консервов они были большими доками. Хотел Чердынцев это сказать, но промолчал, – неведомо, с кем Ломоносов будет общаться, когда они догонят наших… А ярлыки о неблагонадёжности и антисоветских настроениях вешаются ныне очень легко. Рассчитываться же, отмываться от них – трудно.
Пообедав, маленький боец облизал перочинный ножик, с громким щёлком сложил его, опустил в карман и с довольным видом похлопал себя по животу.
– Что дальше будем делать, товарищ лейтенант?
– Искать своих.
– А если не найдём?
– Что значит не найдём, Ломоносов? Такого быть не может!
Маленький боец посмотрел на Чердынцева с сожалением, как на некого непутёвого человека, не знающего, что такое жизнь и какие ловушки она может расставить. Отведя взгляд в сторону, он проговорил тихо:
– Жизнь – подлая штука, товарищ лейтенант.
Чердынцев не ответил ему.
Было тихо. Сюда, в эту глушь, уже не доносились ни выстрелы, ни гул далёких взрывов, ни хлопки гранат – ничего, в общем. Даже птицы, утомлённые солнцем, дневной жарой, молчали, не подавали голосов. Лишь воздух, раскалённый, позванивал легко, тонко, дрожал невесомо, струями уплывал куда-то далеко-далеко вверх и растворялся там, ни следов от него не оставалось, ни последков. Чердынцев раскинул на траве карту.
Маленький боец с интересом заглянул в неё.
– Где мы сейчас находимся, товарищ лейтенант?
Если бы это знать, если бы… Но Чердынцев, к сожалению, не знал точно, где они находятся, он указательным пальцем очертил квадрат и ткнул в него:
– Вот здесь!
А по длине в квадрат этот вмещалось не менее пятнадцати километров, и по ширине не меньше – на такой площади могли вместиться едва ли не все Вооружённые силы Советского Союза вместе с танками и самолётами. Маленький боец не сдержался, крякнул в кулак.
– А более точно сказать не могу, – сожалеюще проговорил Чердынцев, – у меня нет для этого хотя бы примитивных данных.
– Главное, нам ясно, куда надо идти, – прощая лейтенанта, глубокомысленно произнёс маленький боец, – само направление… Не заблудимся.
Они до самой темноты шли на восток, перемещались из одного леса в другой и не встретили по пути ни одного человека в красноармейской форме.
Дважды приближались к шоссе, чётко отмеченном на немецкой карте, и тут же отходили от него в глубь леса – по шоссе двигалась немецкая техника, в кузовах машин петушились, горланили, да под аккомпанемент губных гармошек распевали незнакомые песни белобрысые длинношеие парни, выкрикивали лозунги «Дранг нахт остен!» и вообще вели себя, как базарные торговки, выгодно продавшие какой-нибудь сомнительный товар.
Чердынцев, глядя на них, нехорошо белел лицом и нервно кусал губы: ему не терпелось ввязаться в бой. Но что они могли сделать с двумя винтовками против этой армады? Только погибнуть. Погибнуть, конечно, всегда можно, дело это нехитрое, но толку-то? Какая польза от этого будет Родине, Сталину, комсомолу? Он косился на маленького бойца, щурил испытующе глаза, словно бы хотел понять его состояние и отводил взгляд в сторону. Ну хотя бы один красноармеец встретился, хотя бы раз прозвучало знакомое русское слово, пусть матерное, произнесённое с досады, но русское… Нет, словно бы и не по своей земле они шли.
Ночевали в лесу – на дне рва перегородившего когда-то дорогу пожару, развели костёр, набросали в него сухотья, в двух банках из-под говяжьей тушёнки вскипятили воду – каждый себе.
Похоже, и Чердынцеву надо было уже обзаводиться своим хозяйством, каким-нибудь рюкзаком или вещмешком – неведомо было, сколько они ещё будут бродить по лесам, за лесами, как это и положено, пойдут поля и овраги, – а бродить, увы, придётся, пока они не пристанут к своим. Ломоносов уже привык к трофейному ранцу, это произошло быстро – таскал его теперь ловко и легко, будто родился вместе с ним, только покряхтывал от удовольствия… Надо было бы добыть такой ранец и лейтенанту.
Только вряд ли лейтенант возьмёт его, поскольку – вражеский. Ещё не хватало, немецкую вещь на себя грузить! Ломоносову это можно, а лейтенанту нет, поскольку он – командир Красной армии. Устав Красной армии это, можно сказать, запрещает, хотя нигде таких запретов Чердынцев, если честно, не встречал. Но всё равно – зазорно и стыдно. Тем более, на груди, на гимнастёрке у него алеет комсомольский значок. Да и в училище пограничном лейтенант был комсоргом своего взвода.
– Здесь, в этом ранце, и заварка есть, – прервал праведные мысли лейтенанта маленький боец, показал небольшую деревянную коробочку с выдвигающейся из неё крышкой. Как в школьном пенале… Изнутри коробочка, чтобы из неё не выветривался чайный дух, не вытекал через щели, была оклеена плотной вощёной бумагой. – Вот.
– Береги продукты, – предупредил маленького бойца лейтенант.
– Не беспокойтесь, ещё добудем, – Ломоносов беспечно махнул рукой, – я же – нюхач. Обязательно где-нибудь что-нибудь унюхаю… И стащу.
– Воровать нехорошо, – назидательным тоном произнёс лейтенант.
– Разве это воровство? – удивился маленький боец. – Это – так себе, баловство. А потом у врага можно своровать что угодно, хоть танк. За уворованный танк даже орден дать могут.
Наивные были это разговоры, у опытного человека могли вызвать недоумение, но что было, то было, – и говорили вот так наивно, но очень искренне и преданно, и мыслили так и поступали так же. Родину почитали превыше всего, выше мамки с папкой и домашних интересов.
Хорошо засыпать на сытый желудок, напившись чаю, прислонившись одним боком к тёплому песку – проходит всего несколько минут и начинают сниться светлые сны, вся тяжесть, усталость, накопившиеся в костях, в мышцах, отступают – молодость одолевает всё. Зато потом, в старости, также всплывает всё, такое случится и с нашими героями, если, конечно, они доживут до старости, если не срубит их лютая жизнь где-нибудь на полдороге – и хвори, и простуды, и ночёвка эта в лесу, и усталость непомерная, и военные лишения, к которым лейтенанта вроде бы готовили в училище, своё в конце концов возьмут. И ненависть своё возьмёт – она сегодня возникла в нём, когда он видел молодых, сытых, сильных ребят, сидевших в кузовах грузовых машин, чьи борта украшали кресты, – от такой ненависти бывает худо даже печёнкам, не говоря уже о других органах… Тут очень важно сохранять в себе холодный расчёт, не горячиться попусту.
Если будешь горячиться – очень скоро погибнешь.
Хоть и родился у лейтенанта лёгкий светлый сон, и рот у него, как у всякого мальчишки растянулся мечтательно, а вскоре всякие видения пропали, и Чердынцев погрузился в какую-то странную красноватую муть, будто в прокисшую, превратившуюся в жидкую кашицу кровь, и поплыл по этой мути, поплыл… Ничего не было видно. Только сердце стучало тревожно, громко, о чём-то предупреждая лейтенанта.
Проснулся Чердынцев от холода – тёплый песок, который ещё три часа назад здорово грел его, теперь забирал тепло обратно, вытягивал из тела, высасывал из жил и мышц и это было опасно – можно подцепить какую-нибудь лихоманку. Скрутит так, что лейтенант согнётся и никогда больше уже не разогнётся. Несколько минут он бестолково, не шевелясь, хлопал глазами, соображая, что же его разбудило. Показалось, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой – его спеленал влажный холод, в ушах сидел звон, перед глазами рябило, ночное пространство было сплошь покрыто неровными пятнами, пятна эти подрыгивали нехорошо, перемещались с места на место, жили какой-то своей особой жизнью, непонятной людям… Чердынцев пошевелил пальцами – шевелятся, пошевелил кистью – шевелится, пошевелил ногой – шевелится. Значит он – живой…
Неожиданно до слуха его донеслась приглушённая человеческая речь – неподалёку находились люди и о чём-то неторопливо беседовали. Кто это, наши, немцы?
Он прислушался. Кажется, это были всё-таки немцы. Лейтенант растолкал маленького бойца, прошелестел ему в лицо неслышным шёпотом:
– Подъём!
Тот с трудом разодрал слипшиеся веки, протёр кулаками глаза.
– Чего, товарищ лейтенант?
– Немцы!
Маленький боец застонал, неверяще потряс головой:
– Откуда они здесь взялись? Не должны быть вроде бы…
– Уходим отсюда, пока нас не засекли!
Маленький боец подхватил одной рукой винтовку, второй ранец с едой и, настороженно озираясь по сторонам, выбрался из рва. Пригнувшись, перебежал к недалёким кустам, махнул оттуда рукой Чердынцеву:
– Сюда, товарищ лейтенант!
Чердынцев выбрался из рва, присел за песчаным бугорком, пробуя сориентироваться: откуда доносится речь и неожиданно зажмурился – ему показалось, что среди деревьев, в густоте, он видит немецкий танк с зачехлённой пушкой – на ствол орудия, на торец, был натянут длинный брезентовый носок, – и откинутым на башне люком…
– Свят, свят, свят! – не веря тому, что видел, прошептал лейтенант и вновь зажмурился – вдруг повезёт, и танк исчезнет, как всякое видение?
Танк не исчез.
И говор немецкий, неторопливый, не исчез, он исходил оттуда – подле гусеницы трое танкистов расстелили брезент, разложили на нём еду, достали флягу и теперь мирно, в своё удовольствие, попивали шнапс, стучали короткими кожаными сапогами, когда в ногу кого-нибудь из них всаживал своё беспощадное жало комар, и вели речь о грядущем урожае винограда на юге Германии – одному из говорунов очень хотелось отведать сладкого вина под названием «Зимняя мечта» – он раза три начинал рассказывать, что вино это делается в малых количествах из ягод, побитых ранним морозом, морщинистых и сладких настолько, что с ними можно пить чай без сахара, но каждый раз его перебивали приятели и заводили речь о другом…
Чердынцев переместился к маленькому бойцу. Выходит, они ночевали рядом с немцами? И костёр жгли, и чай пили… Могли запросто засыпаться. Ломоносов глядел на лейтенанта непонимающими круглыми глазами: маленький боец думал о том же, что и Чердынцев.
Наконец маленький боец шевельнул холодными побелевшими губами.
– Как будем уходить, товарищ лейтенант?
– Как всегда – ногами.
– Всё шутите, товарищ лейтенант!
– А что нам остаётся делать? А, Ломоносов? Либо шутить, либо продавать свою жизнь подороже.
Ломоносов привычно пошевелил губами, но ничего не сказал. Конечно, жизнь свою продать можно, но это – самое последнее дело. Им повезло – из глубины леса тем временем выполз хвост тумана, накрыл танк и немцев, коротавших подле машины ночное время, Чердынцев перебежал к высоким молодым кустам, вставшим ровной стенкой на окраине опасной поляны, подождал, когда его нагонит маленький боец, переместился под стволы старых елей, где гнездились крупные, похожие на курганы муравейники.
– Жди меня здесь, – приказал он маленькому бойцу и нырнул в густую завесу, застрявшую среди деревьев – всё-таки туман их выручает здорово; Ломоносов понял, что лейтенант чего-то засёк, вытянул шею, пытаясь понять, чего же увидел командир, но в тумане нельзя было что-либо различить. Лейтенанта он видел, а вот что-нибудь ещё – нет.
Неожиданно из тумана вытаял немец в каске, с автоматом на груди, при ранце – «сидор» кожаным верблюжьим горбом прирос к его спине, с телячьим подсумком, висящем на поясе слева – подсумок был до отказа набит автоматными рожками, справа у солдата болтался нож в железных ножнах – в общем, экипирован фриц был по полной программе.
Под нос себе солдат похмыкивал какую-то песню. Он пристроился у куста, чтобы оросить его, но не успел – за спиной у него возник лейтенант и что было силы ударил рукояткой пистолета под каску, в низ шеи.
Немец даже не охнул, такой резкий был удар, – ткнулся физиономией в куст. Лейтенант засунул пистолет под ремень, неторопливо навис над немцем и сдавил ему руками шею. Немец задёргал одной ногой, внутри у него что-то забулькало. Он вытянул перед собой пальцы, вцепился в зелень куста, ободрал её и затих.
Чердынцев сдёрнул с шеи убитого автомат, отстегнул от пояса подсумок, следом снял нож, потом ранец и, закинув его себе на одно плечо, скомандовал маленькому солдату:
– Уходим отсюда! Быстро!
В следующее мгновение он скрылся в сером вареве тумана, Ломоносов кинулся следом, ориентируясь по равнинам, оставшимся после бега лейтенанта в шевелящейся, похожей на дым плоти. У Ломоносова даже под лопатками сделалось больно от внезапного испуга: а вдруг он потеряет лейтенанта?
Нет, не потерял, – в защитном движении Ломоносов на бегу выбросил перед собой руку и через несколько мгновений уткнулся пальцами в спину лейтенанта.
– Тих-ха! – шикнул на него Чердынцев.
Они находились на краю круглой, застеленной низким густым туманом поляны. В некоторых местах туман уже начал розоветь, наливаться заревой светлиной, это означало – скоро наступит рассвет. Да и ночь июньскую нельзя назвать ночью в полном смысле этого слова – она была светла и коротка.
Маленький солдат вытянул шею: раз лейтенант подал команду «Тихо!» – значит, надо слушать пространство.
Лес был ещё нем и почти беззвучен, единственный звук, который доходил до них – странное шипение, будто кто-то проколол шину у гигантского грузовика и теперь из неё со змеиным шипеньем выходил воздух.
– Что это, товарищ лейтенант? – шевельнул не слушающимися холодными губами маленький боец. – Дюже уж, – он повертел в воздухе ладонью, – чересчур железный звук, в общем.
Через несколько мгновений шипение, словно бы среагировав на недоумённый вопрос маленького бойца, прекратилось, был теперь слышен лишь один звук – звон в ушах.
– Впереди, по-моему, двое, – неуверенно прошептал лейтенант.
Ломоносов повёл по воздуху носом-кнопкой.
– Очень даже может быть, – едва слышно проговорил он. – Пахнет горячим немецким кофеём.
– Не кофеём, а кофе.
– Всё равно. Что в лоб, что по лбу, товарищ лейтенант. Позавидовать немчуре можно – жируют и с нами не делятся.
– За мной! – скомандовал лейтенант и, пригнувшись, на полусогнутых ногах, беззвучно, как охотник, двинулся в обход опасного места.
Через несколько мгновений остановился вновь и, повернул лицо к маленькому солдату, предостерегающе прижал палец к губам. Ломоносов привычно вытянул шею и услышал негромкий говор. Немецкий. Похоже, немцы бодрствовали в этом лесу всюду. И как только они не столкнулись с фрицами раньше? Что называется, Бог развёл, не позволил столкнуться.
Послушав говор, лейтенант ткнул пальцем влево – давай, мол, туда, – и снова нырнул в шевелящийся пласт тумана, маленький боец нырнул следом.
И всё же без столкновения не обошлось, всему виной был туман. Лейтенант двигался в нём беззвучно, маленький боец двигался также – оба всё делали для того, чтобы не раздалось ни скрипа, ни шороха, ни щёлканья сучков, неосторожно попавших под ногу, – и в ватной мути Чердынцев увидел, как на него наползает крупная тёмная фигура. Немецкий автомат висел у Чердынцева на плече, сумка с рожками и ранец – также на плече, закинуть за спину не было времени, в руках была только винтовка.
Родная русская винтовочка, громоздкая безотказная трёхлинейка – оружие с дальним сильным боем, способное просадить насквозь кирпичную стенку. Трёхлинейка и спасла Чердынцева.
Увидев, что перед ним очень дюжий немец, вытаявший из тумана, опешивший, с вытаращенными глазами и открытым от изумления ртом, лейтенант что было силы пырнул его штыком под подбородок, в горло, и немец захрипел дыряво, изо рта у него струёй выбрызнула кровь, Чердынцев выдернул штык и снова воткнул в горло этого человека. Немец кулем свалился лейтенанту под ноги, заскрёб руками по земле.
– Ломоносов! – сиплым шёпотом позвал лейтенант маленького бойца. – Забирай у него автомат, сумку с рожками и харч. Быстрее!
– Ага! – выдохнул тот обрадованно и одновременно испуганно: первый раз в жизни увидел на близком расстоянии, как убивают людей. – Понял!
Мелкими суетливыми движениями стащил с поверженного врага автомат, расстегнул ремень с новенькой оловянной пряжкой, украшенной свастикой и неразборчивой готической вязью, на котором болтались патронная сумка и нож, следом содрал ранец.
– Уходим отсюда, Ломоносов, – едва слышно выкашлял из себя лейтенант и вытер штык о мундир немца. – Поторопись!
– Ага! Ага! – прежним испуганным шёпотом отозвался маленький боец. – Я готов! – он попятился от лежавшего немца, ещё живого, пытавшегося всадить длинные, испачканные грязью пальцы в землю, хрипящего слабо – этот немец умирал.
– Куда пошёл? – просипел лейтенант недовольно. – Следуй за мной!
Ломоносов опасливо обогнул немца и ткнулся рукой в спину лейтенанта. Втянул в себя сквозь зубы воздух, помотал головой протестующее – из глаз его обвально потекли слёзы: маленького солдата начало выворачивать наизнанку. Слишком уж страшной была картина убийства. А лейтенанту хоть бы хны – уложил человека и даже не чихнул.
Через несколько секунд Ломоносов уже бежал за лейтенантом, стараясь не отстать от него, волок за собой винтовку, два ранца и немецкий автомат. Надо было бы остановиться, поправить на себе имущество, но лейтенант не останавливался, рассекал своим длинным телом туман, то поднимающийся над землёй, то опускающийся вниз. Ломоносов, боясь потерять командира, не отставал от него, давился воздухом, чем-то ещё, чему он и названия не знал, – горячим, противным. Не хватало кислорода, сердце грозило вот-вот остановиться. Казалось, через несколько секунд должен наступить конец света…
Но он так и не наступил. Пограничники выскочили на опушку леса – жидкую, остро пахнущую пороховой кислятиной, забитую поваленными деревьями, и Чердынцев запрещающе махнул рукой, будто железнодорожный семафор опустил:
– Стой!
Маленький боец остановился. Ноги у него дрожали, подкашивались, из уголков рта вытекали две тонкие струйки – похоже, в Ломоносове вскипела слюна, – струйки обмокрили подбородок и устремились вниз, под воротник гимнастёрки.
Жалко выглядел маленький солдат. Но и лейтенант выглядел не лучше. Чердынцев снова махнул рукой и, словно бы сломав в себе некую преграду, плашмя рухнул вниз, под высокий, с крупными комьями земли, приставшими к корням, комель уничтоженного снарядом дерева. По вялым, уже мёртвым листьям невозможно было понять, что это за дерево – то ли клён, то ли ещё что-то… Впрочем, лейтенанту было не до этого, да и он, житель городской, в деревьях особо не разбирался.
Было уже светло, ночь отступала проворно, хотя кое-где, в глухих местах, и старалась задержаться, воздух наполнился ангельской розовиной – рассвет брал своё.
Через несколько минут лейтенант зашевелился, приподнялся над землёй.
К опушке леса примыкало большое, засеянное хлебом поле, его надо было одолеть, пока рассвет не наступил окончательно, иначе позже, при солнце, их любой немчура снимет из пулемёта, они будут находиться словно бы на ладони, лейтенант засипел досадливо, изгоняя из глотки усталую мокреть, мешавшую дышать.
– Ломоносов, ты жив? – спросил он на всякий случай, хотя точно знал, что маленький солдат жив, но ему хотелось подбодрить своего напарника звуком голоса, проявить участие – иногда даже простая видимость этого прибавляет человеку сил и ему делается легче.
– Товарищ лейтенант, а зачем нам столько оружия? – неожиданно спросил Ломоносов. – Две винтовки и два автомата?
– Как зачем? – недоумённо вскинул брови лейтенант. – Воевать!
– Тяжело нести. Давайте винтовки бросим. Они такие громоздкие и столько весят, что даже ноги подкашиваются… А автоматы немецкие оставим.
– У винтовки бой, Ломоносов, полтора километра, любого фрица на расстоянии можно сшибить, а у автомата – тьфу, сотня метров всего. Это оружие ближнего боя.
– Что же получается в таком разе, товарищ лейтенант? Сам пропадай, но оружие сохраняй?
Конечно, Ломоносов прав. Винтовки придётся бросить. Или оставить хотя бы одну – на всякий случай, для дальнего боя… С автоматами прорываться к своим куда сподручнее…
– А, товарищ лейтенант? – ноющим полушёпотом продолжал маленький солдат. – Если нас не будет, то и воевать станет некому.
– Воевать будут другие.
Маленький солдат протестующее покачал головой.
– Это не то.
– Ладно, – махнул рукой лейтенант, – доконал ты меня, Ломоносов. Выбирай одну винтовку из двух. Нести будем по очереди… Нам надо идти дальше. Вон уже как светло стало.
– Винтовку выбрать ту, которая полегче, товарищ лейтенант?
– Ту, которая бьёт метче.
– Метче бьёт ваша винтовка, – заявил маленький боец и отодвинул ногой в сторону свою винтовку. На лице его ничего не отразилось – ни жалость, ни сомнение, только в глазах томилось, никак не могло исчезнуть сонное выражение – не выспался Ломоносов. В его возрасте люди готовы спать долго.
– Обойму выщелкни, забери с собой, она нам ещё пригодится, – сказал лейтенант. Глаза его, прищуренные жёстко, будто он собирался стрелять, продолжали цепко скользить по полю, изучали его – лейтенант прикидывал, где сподручнее будет форсировать это опасное пространство… Выходило – по ложбине, которая пролегала точно посередине поля, словно бы делила будущую хлебную ниву пополам.
Жаль, конечно, топтать хлебные злаки, но делать было нечего, поле и без того было уже здорово покалечено – в нескольких местах чернели воронки с вывернутой наизнанку землёй. Почва тут была полосатая: в лесу песчаная, желтоватая, на равнинах – удобренная, тёмная. В сельскохозяйственной науке такая почва имеет какое-то название, но какое именно, Чердынцев не знал.
Он поднялся на ноги, повесил на левое плечо винтовку, правой рукой подхватил покрывшийся от тумана холодным потом автомат и произнёс буднично:
– Потопали!
Момент был удобный – из леса выполз новый пласт тумана, тяжёлый, серый, заколыхался студёнисто и начал медленно, всей своей огромной массой наваливаться на поле. Хоть и казалось, что движется туман медленно, на самом же деле он за несколько минут накрыл половину поля. Лейтенант первым нырнул в дрожащую ватную плоть, скрылся в ней с головой, но в следующий миг голова, будто большой круглый поплавок, вынырнула на поверхность, заколыхалась резво. Фуражку Чердынцев снял – слишком уж яркой была она, издали бросалась в глаза. Лейтенант пригнулся – круглый поплавок вновь погрузился в туман.
Он понимал, что поле это, как пить дать, находится под прицелом какого-нибудь сонного немецкого пулемётчика, оно обязательно должно находиться под прицелом, раз в лесу остановилась воинская часть, ежели, конечно, командиры у неё не дураки… Что-то не помнил лейтенант Чердынцев по лекциям в пограничном училище, чтобы кто-нибудь из преподавателей называл немцев дураками, поэтому на «авось» надеяться тут нельзя.
К врагам вообще положено относиться не только с ненавистью, но и с уважением. Так было ещё во времена Суворова: не дай бог недооценить противника – битым будешь.
Эх, знать бы, что произошло и вообще знать, на каком свете они с Ломоносовым находятся. Может быть, кутерьма эта происходит лишь на их участке границы, а на остальных тихо – несут люди караульную службу и настороженно прислушиваются к звукам далёкой пальбы – такое может быть?
Может. И очень хотелось бы, чтобы так оно и было. А что происходит на самом деле?
Не знал ещё Чердынцев, да и многие в Советском Союзе, несмотря на выступления Сталина и Молотова, не знали, что немцы напали на нашу страну, напали не в одиночку, а скопом: вместе с ними выступали румыны, итальянцы, венгры, чехословаки, финны, в эти минуты бои вели три группы гитлеровских армий, а это ни много ни мало пять с половиной миллионов человек.
Первый удар на себя приняли пограничники. Большинство застав погибли целиком – ни одного человека не осталось, как, например, на шестой заставе, где должен был служить Чердынцев. Таких застав на границе было четыреста восемьдесят пять.
Если бы пограничники дрогнули, попятились, не было бы выиграно время, не удалось бы подтянуть войска второго эшелона, и тогда война пошла бы развиваться совсем по иному сценарию… Этого лейтенант Чердынцев не знал – впрочем, не знал не только он, а и тысячи многих других командиров Красной армии.
Лейтенант не подозревал, что так тяжело будет идти по хлебному полю, ноги увязали в почве, злаки цеплялись за одежду, не пускали, словно бы просили: «Не уходи! Останься!» Но не уходить Чердынцев не мог. Для того чтобы остаться и занять какой-нибудь оборонительный рубеж, он должен был получить приказ.
Посреди поля лейтенант остановился, на несколько мигов зажал в себе дыхание, послушал, идёт сзади маленький боец или не идёт? Тот находился совсем недалеко, не отставал от командира, – шумно сопел, чавкал сапогами, с хрустом ломал хлебные стебли. Чердынцев поморщился: слишком много шума начал производить однофамилец великого русского учёного.
Туман сгустился, он теперь наползал из леса валом, плотными клубами, пахнул горелым порохом, сырыми головешками, какой-то сладкий незнакомой химией и непонятно было, то ли туман это, то ли дым – может, где-нибудь тлеет склад с армейским имуществом или горит фабрика, выпускающая галоши. Сопя и отплёвываясь, маленький солдат подгрёбся ближе, толкнул лейтенанта в спину.
– Тьфу!
– Больно шума от тебя много, боец! – строго выговорил ему лейтенант. – Идёшь, будто бегемот с повышенной температурой.
– У бегемотов повышенной температуры не бывает, товарищ лейтенант! Они хладнокровные. Как рыбы.
– Откуда знаешь?
– Из учебников.
Чердынцев поправил на маленьком бойце пилотку, усмехнулся: