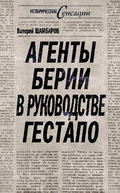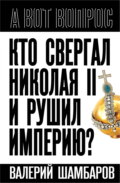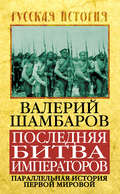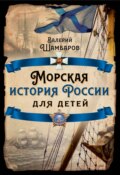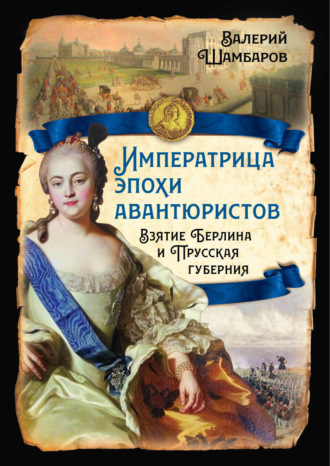
Валерий Шамбаров
Императрица эпохи авантюристов. Взятие Берлина и Прусская губерния
Глава 4. Под властью матери

Коронация Петром I своей жены Екатерины
Болезнь Петра прогрессировала. Наследника он не назначал, надеялся выкарабкаться. Но все же решил подстраховаться. В ноябре 1723 г. издал манифест, что намерен короновать Екатерину. То есть не просто надеть на нее корону, а провести обряд венчания на Царство. Жена при этом получала Божье благословение на верховную власть. Формально становилась даже соправительницей мужа, и если с ним что случится, под властью супруги подрастут дочери, внук Петр, а там уж время покажет, кто займет престол.
Но венчание на Царство всегда осуществлялось в священном месте, Успенском соборе Московского кремля. Эту традицию Петр нарушать не хотел. Он-то и задумывал, чтобы обряд не смог оспорить никто. А сам так расхворался, что не мог доехать до Москвы. Церемонию отложили, и она состоялась только 7 мая 1724 г. Специально изготовили первую императорскую корону (ранее все цари короновались Шапкой Мономаха). В Успенском соборе Петр своими руками возложил ее на супругу. К коронации сформировали и новую часть лейб-гвардии, эскадрон кавалергардов – личный конвой императрицы.
А приступы у царя повторились. Врач Горн сделал ему операцию, и вроде бы полегчало. К этому времени шведы подтвердили, что голштинский Карл Фридрих – главный кандидат на их трон. Согласились вместе с Россией заставить Данию отменить нашим судам пошлины в проливах, а Голштинии вернуть Шлезвиг. Тогда и Петр объявил Анну невестой Карла Фридриха. Перед обручением они подписали брачный договор: оба заведомо отрекались от претензий на корону России. Но по секретной статье Петр оставлял за собой право назначить наследником их гипотетического сына.
А тем временем на царя продолжали сыпаться и доклады о хищничествах его приближенных. Разгневанный Петр отдал Меншикова под следствие, отстранил от всех должностей, не желал больше видеть. Стало вскрываться и воровство архиепископа Феодосия (Яновского). Самым же страшным ударом для императора стали доказательства измены только что коронованной жены с камергером Монсом. Екатерине он ничего не сказал, но приказал проверить дела Монса. В результате прилюдно выворачивать грязное семейное белье вообще не понадобилось. Камергер управлял канцелярией императрицы и организовал натуральное бюро взяток. Собирал жирный навар за ходатайства Екатерины перед мужем: кого простить, кого повысить – чем и пользовались Меншиков, Волынский, Шафиров, Феодосий и иже с ними.
Это творилось прямо в семье Петра! Сообщниками «бюро» были сестра Монса – статс-дама государыни Матрена Балк, секретарь Столетов, шут Балакирев, паж Соловов. 26 ноября камергера казнили сугубо за должностное преступление, роман с царицей на суде нигде не упоминался. Матрену били кнутом, остальных – батогами, отправив в ссылки. А с женой царь перестал общаться. Исключением стал день рождения Елизаветы. Она, может быть по наущению матери, упросила отца, чтобы оба были не ее празднике. И выглядела такой же беззаботной, будто в семье ничего не произошло. Петр не стал портить 15-летие любимой дочки выяснением отношений, но двери в его покои остались для жены закрытыми.
Ну а в январе 1725 г. на Водосвятии государь застудился, и болезнь свалила его совсем. Только тогда он допустил к себе Екатерину, вызвал Меншикова. С ними Петра связывали лучшие годы жизни – победы, свершения. Вот и цеплялся невольно за прошлое. От боли царь кричал, потом даже на это не стало сил. Екатерина не отходила от его постели, дежурили дочки. В ночь на 28 января, соборовавшись и причастившись Святых Таин, Петр отошел к Господу. Преемника он так и не назвал – в мучениях впал в забытье и в сознание не приходил [12].
А собравшиеся во дворце сановники, военные, духовенство уже спорили, кто займет трон. Родовая знать во главе с Голицыными и Долгоруковыми (их фамилию писали и иначе, Долгорукие) уверенно прочила внука, Петра. Прямой наследник! И ведь для них открывалась идеальная возможность захватить ребенка под свое влияние. «Худородные» выдвиженцы Петра доказывали, что венчанием жены на царство он уже выразил свою волю, Екатерина остается законной императрицей. Впрочем, решающими стали не юридические аспекты, а энергия и хватка «худородных».
Меншиков и его товарищи еще при живом царе договорились с гвардией. Она императора обожала, любила и его жену: Екатерина навещала воинов с мужем, запросто беседовала, опрокидывала с ними чарку. По сигналу Меншикова гвардейцы оцепили дворец, вломились в зал, наполненный вельможами. Гаркнули «виват!» Екатерине – и аристократам пришлось подхватить, кланяться той, кого в своем кругу величали «портомоей» (прачкой). Сенат и Синод мгновенно решили вопрос о наследовании.
Вскоре за царем умерла и младшая его дочка, 6-летняя Наташа. Хоронили их вместе. Но Россия продолжала жить по распоряжениям, отданным еще Петром. Единственным неприятным и неожиданным эксцессом при смене монарха стало дело архиепископа Феодосия (Яновского). Он понадеялся, что слабую женщину, только что потерявшую мужа и дочь, можно подмять под свое влияние, запугивая «Божьими карами». Повел себя откровенно вызывающе, оскорблял сенаторов и Меншикова. Но ошибся, Екатерина манипулировать собой не позволила. За Феодосия взялись серьезно, и открылись масштабное воровство, крупные подозрения в ереси и даже создание в Церкви тайного «ордена» – он заставлял подчиненных приносить особую присягу на верность лично себе [13]. В итоге отправился в заточение в Николо-Корельский монастырь, и эта история лишний раз подтвердила правоту Петра, упразднившего пост патриарха. Первым претендовал на него именно Феодосий.
А Екатерина по натуре была женщиной доброй. Ей хотелось заслужить любовь подданных, сделать для них что-то хорошее. Незадолго до смерти, в 1724 г., Петр ввел «подушную» подать на содержание армии и флота. Перепись населения насчитала 5 млн 800 тыс. «душ мужеска пола». На них, независимо от возраста и состояния здоровья, распределили суммы, необходимые на военные нужды. Получилось 74 копейки в год с крепостных, с государственных крестьян дополнительно 40 коп. (им не надо было платить оброк помещику, трудиться на барщине), с горожан – 1 руб. 20 коп. Духовенство и дворяне налогами не облагались, но должны были собирать их со своих крестьян.
Хотя подать оказалась очень обременительной, и Екатерина загорелась снизить ее. Но из-за расходов на те же армию, флот, строительные проекты денег в казне остро не хватало, и пожелание императрицы выполнили чисто символически, снизили на 4 копейки. Зато амнистию она провела широко. Первым делом освободила и возвысила пострадавших по делу Монса. Простила и воров, вроде Шафирова, и даже осужденных по делу царевича Алексея. Кроме его матери Евдокии. Ей единственной наказание ужесточили. Перевели из монастыря в камеру Шлиссельбургской крепости. Она была не рядовой соучастницей сына, а одним из организаторов заговора. Сочли, что без Петра она представляет даже большую угрозу, чем при нем.
От мужа Екатерине досталась весьма квалифицированная команда в правительстве. Меншиков, восстановленный в должностях президента Военной коллегии, сенатора, генерал-губернатора Петербурга. Генерал-прокурор Сената Ягужинский. Начальник Тайной канцелярии Петр Толстой. Международные дела возглавил молодой выдвиженец Петра Генрих Иоганн Остерман – в России его назвали Андреем Ивановичем, талантливый дипломат, именно его заслугой стал непростое заключение Ништадтского мира.
К государственным делам пришлось приобщиться и Елизавете. Потому что ее мать так и не освоила грамоту. Вот и пригодился каллиграфический почерк дочки. Когда нужна была подпись императрицы, Екатерина вызывала ее. А среди тех, кто попал под амнистию, был врач Иоганн Лесток. Уроженец немецкого княжества Люнебург, но по происхождению француз и отъявленный авантюрист. Успел послужить лекарем во французской армии, отсидеть в парижской тюрьме. Подался в Россию, сумел хорошо преподнести себя и стал лейб-медиком царицы. Екатерине он очень нравился. Высокий, веселый, по-французски галантный. Но он сохранил и французские нравы. Соблазнил и жену, и дочерей царского шута Лакосты, со шпагой вступил в драку с его слугами, и Петр сослал нарушителя порядка в Казань. Теперь государыня возвратила Лестока, но место ее личного врача было уже занято, и она назначила француза лейб-медиком к Елизавете. Столь колоритная фигура не могла не оказать на девушку сильного (и отнюдь не благотворного) влияния.
Впрочем, у нее перед глазами был и пример матери. Екатерина и при Петре любила выпить, а теперь прикладывалась постоянно, напаивала придворных дам. Окружила себя и другими удовольствиями, по ее понятиям – «царскими». Объедалась сладостями. Едва миновало 40 дней строгого траура, нашла себе фаворита, молоденького прибалтийского дворянина Рейнгольда Лёвенвольде. Взяла его к себе камергером, двух его братьев устроила на дипломатическую службу, всех троих возвела в графское достоинство.
Но простая и недалекая женщина на царском месте возомнила, что и править страной она сможет сама. Объявила своей программой «заветы Петра». Открыла, например, Академию наук по указу покойного мужа. Хотя такие события для нее становились лишним поводом к пышным празднествам и застольям. Эту сладкую жизнь она по-простому хотела подарить и своим крестьянским родственникам. Справки о них наводил еще Петр, но возвышать их явно не собирался. А сейчас Екатерина отыскала брата Карла, сестер Христину и Анну с семействами. Сделала их графами Скавронскими, потомственными дворянами Гендриковыми и Ефимовскими, наделила богатыми имениями. Однако современники называли их «темными», «глупыми и пьяными». Поэтому царица оставила при дворе фрейлиной лишь племянницу Софью Скавронскую. Остальных поселили за городом, в Стрельне, учили грамоте и правилам приличий.
Но и политику России Екатерина взялась строить из недалеких «родственных» понятий. Форсировала переговоры о браке Елизаветы и Людовика XV, соглашалась даже на его наследника. И была уверена, все в порядке. Значит, и французы почти «родственники». Они этим пользовались. Как раз собирались воевать с Испанией, и посол Кампредон приносил Екатерине самые цветистые послания… с просьбами прислать русских солдат. Царица соглашалась! Ну а как же, «по-родственному».
Столь же горячо она ухватилась за жениха Анны Карла Фридриха, совершенно неумного и безвольного, герцогом всецело манипулировал его министр Бассевич. Но для Екатерины он стал любимым зятем. Его избрание королем Швеции царица считала делом решенным. 21 мая молодых обвенчали. Секретарь герцога Берхгольц записал в журнале, что накануне Карл Фридрих впервые помылся в бане (в России он был уже пятый год). Свадьбу Екатерина закатила на 2 дня. Пиршества для знати, для народа жареные быки и бараны на вертелах, фонтаны вина из бочек.
К двум российским орденам, Андрея Первозванного и Святой Екатерины, Петр хотел добавить третий, Святого Александра Невского, да не успел. Вдова, со ссылкой на его заветы, учредила этот орден в честь свадьбы, на радостях награждала всех приближенных. Но раскипятилась и помочь зятю, отвоевать для него Шлезвиг у Дании. Под винными парами сыпала угрозы, и датский посол панически доносил о скором вторжении.
Российские сановники были далеко не дружными между собой. Меншиков враждовал с Ягужинским, с ними обоими – аристократы. Но им приходилось объединять усилия. Кое-как разруливали обещания Екатерины прислать солдат французам. Дополняли их условиями, что надо бы сперва официально решить насчет брака Елизаветы. Нет, тут французы увиливали, отделывались цветистыми заверениями, что портрет цесаревны висит в спальне короля (вероятно, копия того самого, в виде Флоры). Вельможи всячески тормозили и позывы царицы воевать с Данией. Объясняли ей, что армия не готова и с финансами худо. Она ничего слышать не хотела, упрямилась, стояла на своем.
Но ее «семейные» проекты стали с треском рассыпаться. Французский регент Филипп Орлеанский, с которым Петр нашел общий язык, давно умер. Во власти заправляли герцог Бурбон и его фаворитка де При. Их правительство рассудило, что после смерти Петра Россия ослабела. Пользу от союза с ней считали сомнительной. Тем не менее, с подобной союзницей надо было считаться, учитывать ее интересы. Зачем? Королеву решили искать такую, чтобы, наоборот, расширить собственное влияние. Браком с Елизаветой русским только морочили головы. И как раз в расчете на неопытную царицу, вдруг и впрямь даст войска?
Война с Испанией так и не началась, за нее вступился император Карл VI, заключил с ней Венский союз. Но с Францией взялась наводить дружбу Англия. 3 сентября 1725 г. был заключен Ганноверский союз – Англия, связанный с ней Ганновер и Франция объединились против Австрии с Испанией. И против России! Стороны обязались не позволить царице отобрать у датчан Шлезвиг [14, с. 21–22]. А буквально на следующий день, 4 сентября, Людовика XV обвенчали с… дочерью Станислава Лещинского!
В европейской политике разорвались две бомбы! К Ганноверскому союзу сразу примкнули Дания, Голландия. Присоединилась и Пруссия – король Фридрих Вильгельм прикинул, кому будет выгоднее продать прусскую армию в назревающем столкновении. Но союзницей Франции оставалась и Османская империя. Австрию грозили раздавить с разных сторон. Как только император Карл VI узнал, что против него поднимается такая буря, он дал своему военачальнику Евгению Савойскому указание: «Не теряя времени начать переговоры с Москвой». Всполошился и польско-саксонский Август. Франция признавала альтернативного короля!
А для Екатерины и всей России это стало плевком в лицо. При переговорах о браке французы морщили носы, что царевна – «бастард», а взяли дочку вообще не настоящего короля, шведской марионетки! Наша страна его ни дня не признавала, и прогнали-то его русские. Но выбор в королевы Марии Лещинской сбросил и маску дружбы. Показал, что Франция возвращается к прежней линии, против России. Что она намерена подбирать под себя Польшу. И Османскую империю толкать на австрийцев и русских. Остерман, Меншиков, Ягужинский сошлись в общем мнении – необходим альянс с Австрией. С естественной союзницей и против турок, и против французов, и их поползновений в Польше.
Но в это же время добавила сюрприз и Швеция. Глава ее правительства Горн прислал вдруг сногсшибательный «тайный» проект. Предлагал Екатерине дать за дочкой Анной побольше приданого Карлу Фридриху – всю Прибалтику. Доказывал, что тогда-то его точно изберут королем Швеции. И вдобавок Горн настаивал, что надо похерить и отказ герцога с Анной от российской короны. Если ее унаследует Карл Фридрих или его жена, наши державы вообще объединятся. Возникнет гигантская империя – Россия, Швеция, Голштиния. А жить они будут примерно так же, как Германская империя. Император один, а его вассалы – русский царь, шведский король, голштинский герцог. Можно еще какие-нибудь королевства выделить, вроде Украины.
Расчеты опять строились на полной наивности Екатерины. Но она все же не была такой дурочкой, чтобы не понять – под видом «приданого» у России хотят оттягать завоевания Петра! Все советники в один голос подтвердили ей: подлый и наглый обман. Однако тот же Горн когда-то был воспитателем юного Карла Фридриха. Прекрасно знал, что человек это пустой и никчемный. Зачем он был нужен шведам без «приданого» в виде Прибалтики? Когда уловка не сработала, Горн сам возглавил кампанию против избрания Карла Фридриха. А Швецию повернул вступать в антироссийский Ганноверский союз.
Для Екатерины подобные политические игры получались слишком сложными, как и свалившиеся на нее хозяйственные, административные вопросы. А воспользовался этим один из лидеров аристократической партии Дмитрий Голицын. Английский посол Рондо характеризовал его: «Он имеет необыкновенные природные способности… одарен умом и глубокой проницательностью, важен и угрюм, никто лучше его не знает русских законов, он красноречив, смел, предприимчив, исполнен честолюбия и хитрости, замечательно воздержан, но надменен и жесток». Голицын вынашивал грандиозный план. Ни больше, ни меньше, как… порушить Самодержавие. Исполнить вековую мечту бояр, которую лелеяли заговорщики еще при Иване Грозном. Повернуть Россию на путь аристократического «конституционного» правления по образцу Польши. Или по свежему примеру Швеции.
Но сценарий Голицына был тонкий, многоходовый. Для начала он прикинулся другом Меншикова. Предложил ему создать новый правящий орган в помощь царице. Тому понравилось. Чтобы не ущемлять самолюбия Екатерины, для нее составили обоснование, что из Сената ее заваливают кучей бумаг по самым разнообразным делам. Вот и нужен новый орган «как бы сбоку» государыни. Он будет просеивать этот поток документов, «как ситечко», докладывать только самые важные, а остальные решать в рабочем порядке.
Екатерина одобрила, и в феврале 1726 г. учредила Верховный тайный совет. В него вошли Меншиков, Голицын, адмирал Апраксин, канцлер Головкин, Толстой, Остерман. По персональному указанию императрицы был включен и ее зять Карл Фридрих. Меншиков подружился с Голицыным, был благодарен ему за идею. Ведь в результате он обставил Ягужинского. Его соперник руководил в Сенате, а Верховный тайный совет очутился не просто «сбоку» Екатерины, а над Сенатом. Даже статус прежнего высшего органа был понижен. Название подправили, вместо Правительствующий Сенат – Высокий Сенат. Функции правительства перехватил Тайный совет, и заправлять в нем стал Меншиков. Но и для России новшество сперва принесло ощутимую пользу. Верховный тайный совет стал готовить для государыни проекты указов, регулировать политику. На первом же заседании он постановил заключить союз с Австрией.
Глава 5. Царевны на выданье и женихи

Дворец князя Меншикова
Нездоровый образ жизни государыни сказался очень быстро, она все чаще лежала больная. Тем не менее, рвалась воевать, отбить для зятя и дочки Шлезвиг. Накачавшись венгерским, распоряжалась изготовиться к весне 1726 г. К балтийским портам стягивали войска, снаряжали корабли. Хотя Швеция отказалась помогать, Пруссия была уже во враждебном лагере. Как перебросить армию до Шлезвига? Но Екатерина не желала знать возражений. Велела строить побольше галер, высаживать десанты.
Чтобы не губить солдат за чужой Шлезвиг, правительство и военные начали просто саботировать ее приказы. Докладывали, что корабли нуждаются в ремонте, часть галер сгнила. Потом на Галерном дворе случился пожар… А едва в Финском заливе сошел лед, на Балтику пожаловала огромная британская эскадра, к ней присоединился датский флот, блокировав морские дороги. Царице передали письмо короля Георга, что он не позволит нашему флоту выходить из гаваней. Поход на Данию отменился.
Но неожиданно разгорелся еще один конфликт, вокруг Курляндии. 71-летний герцог Фридрих Кетлер на родину так и не приехал, уютно устроился в Данциге. Но он был последним мужчиной в роду Кетлеров! Поляки с нетерпением ждали, когда он умрет, чтобы забрать выморочное герцогство под полную свою власть. Курляндских баронов никак не устраивало, что у них будут распоряжаться паны. И вдруг герцога им предложили французы, Морица Саксонского.
Даже в XVIII в. назвать другого такого авантюриста было трудно. Он был внебрачным сыном польско-саксонского Августа и самой яркой его любовницы Авроры Кёнигсмарк, успел повоевать в австрийской, русской, саксонской армиях. Август признал его сыном, дал графский титул, женил на богатой графине фон Лебен. Но Мориц гулял со всеми женщинами подряд, растранжирил приданое и добился развода. Решив, что в Саксонии его недооценивают, подался во Францию. Там заметили его военные дарования, он стал лагерным маршалом (что соответствовало бригадному генералу).
А через Курляндию открывалась заманчивая возможность влезть в польские дела. И самому Морицу показалось интересным получить герцогство. Французское правительство дало ему денег, опытного агента полковника де Фонтене. Мориц должен был действовать как бы сам по себе, но оставаясь на службе Людовика. Фонтене в Курляндии обработал баронов, что лучшего герцога им не найти. Правда, влияние в герцогстве сохраняла и Россия. Но ее присутствие в Митаве обозначала вдова Анна Ивановна! Она по-прежнему едва сводила концы с концами. В письмах царице, царевнам, Меншикову, Остерману умоляла не только о деньгах, но и как-то устроить ее личную жизнь, ей уже было 33. Фонтене сошелся с ее управляющим и фаворитом Бестужевым, и тот рассудил, что для Анны брак с Морицем – отличный вариант. Помог французу в переговорах с местными баронами.
Мориц заявился в Митаву и сделал Анне предложение. Неотразимый кавалер, покоритель несчетного количества сердец! Всеми забытая вдова ошалела от счастья. Написала царице, упрашивая разрешить ей замужество. Про Морица деликатно выразилась: «он мне не неприятен», неумело маскируя влюбленность по уши. Но в Петербурге схватились за головы. Сразу раскусили, что это происки Франции. Да и Август через сына постарается забрать Курляндию в свою собственность. И ко всему прочему, роль герцога уже примерял для себя… Меншиков. Честолюбие заносило его все круче. Светлейший князь, богатства, власть. Но герцог – это было куда выше. Коронованная особа! Считай, в числе европейских монархов. Царице он доказал, что в сложившейся ситуации надо брать Курляндию под себя.
Анну Ивановну приехавший Меншиков окатил ледяным душем: о ее браке с Морицем не может быть и речи. Она помчалась в столицу, упала в ножки государыни, чтобы дозволила, – бесполезно. Интересам России это никак не соответствовало. Но и Меншиков испытал шок. Оказалось, что ландтаг Курляндии уже собирался, низложил Фридриха и уже избрал герцогом Морица [5, с. 56]. «Полудержавный властелин» приказал здешним баронам переголосовать в свою пользу. Они отказались. От такого неповиновения Меншиков отвык. Разбушевался, оскорблял, запугивал войсками. Послал отряд драгун схватить Морица. Но курляндцы предупредили его. Русских встретили огнем, побили и прогнали.
Меншиков запросил разрешения царицы ввести в Курляндию войска. Однако уже забурлила Польша. Сейм Морица герцогом не признал. Объявил бандитом «вне закона». Но паны возмутились и тем, что Меншиков на территории Речи Посполитой распоряжается, устраивает потасовки. Зазвучали призывы вооружаться: если курляндцы низложили Фридриха, то и их герцогство кончилось, пора забирать. Екатерина срочно послала Ягужинского улаживать скандал с поляками. Меншикова отозвала, использовать войска запретила. Мориц так и остался в Курляндии. Только теперь скрывался, кочуя из одного места в другое, всюду соблазнял дам и девиц, но Анной больше не интересовался.
Зато с Австрией в августе 1726 г. заключили союз, и это сразу оздоровило международную обстановку. Император Карл VI признал за Екатериной титул императрицы, от чего до сих пор отказывался. Пруссия увидела, что русские заодно с австрийцами, и тут же перекинулась на их сторону, выйдя из Ганноверского блока. А во Франции власть переменилась. Воспитатель Людовика XV кардинал Флери настроил короля, и тот отправил в ссылку главу правительства Бурбона. Провозгласил, что отныне будет править сам. Хотя на самом-то деле Людовика интересовали только женщины, балы, охота. Править стал Флери. Он, как и Бурбон, поддерживал союз с Англией. Но учитывал, что Франция измоталась в прошлых схватках, большой войны избегал. А маленькой с оглядкой на Россию уже не получалось. Поэтому кардинал вместо войны предложил созвать в Суассоне конгресс по урегулированию споров – рассчитывал там половить рыбку в мутной воде.
Но и в Петербурге обстановка менялась. Екатерина, невзирая на болезни, прежних пристрастий не оставляла. Даже завела себе нового фаворита, польского проходимца Петра Сапегу. А в итоге здоровье государыни совсем надломилось. Закрутились интриги: кто сменит ее на троне? И на этот раз партия аристократов готовилась заблаговременно. Обхаживала маленького Петра Алексеевича. Пристроила к нему гоф-юнкером 17-летнего Ивана Долгорукова. Он только недавно приехал в Россию, вырос в Польше, там были послами его дед и дядя. А двор Августа Саксонского по развращенности мог поспорить с французским (историки насчитали у короля 120 только «официальных» любовниц, без мимолетных приключений, 354 побочных ребенка). Петр в жизни еще ничего не видел. Иван рассказами о собственных приключениях пленил его, стал другом и наставником. Увлек его выездами на охоты. Возил и к родственникам, они тоже становились друзьями мальчика.
Хотя претендентами на престол были и Елизавета, Анна с мужем – они-то отреклись от русской короны, но долго ли было царице переиграть для «любимого зятя»? И тогда очередной ход сделал Дмитрий Голицын. Чтобы посадить на трон Петра, решил перетянуть на его сторону самого могущественного из вельмож, Меншикова. Голицын привлек и австрийского посла Рабютена. Карл VI тоже хотел видеть на престоле Петра, своего родственника по материнской линии, это способствовало бы австрийскому влиянию на него. А Голицын научил Рабютена – чтобы заинтересовать Меншикова, надо предложить ему выдать за мальчика-царя собственную дочь.
У Александра Даниловича от такой перспективы аж голова закружилась. При малолетнем Петре царский тесть станет вообще властителем страны! Он поддался, перешел в лагерь аристократов. Деятельно занялся царевичем. Приставил к нему воспитателями Остермана и Левенвольде. Они начали возить Петра с сестрой Наташей в гости во дворец Меншикова. Светлейший баловал их играми, развлечениями, старался подружить со своими детьми, особенно с дочкой Машей.
Правда, Остерман выдвинул другой проект. Примирить между собой разные группировки знати. Женить 11-летнего Петра на его 15-летней тетке Елизавете [9, с. 130]. Тем более что и сам Петр по-мальчишески был влюблен в нее. Веселая, задорная, она и в танцах была первой, и наездницей отличной. Царевич увлекся охотами, и Елизавета их любила. Но Верховный тайный совет идею Остермана отмел, указал на родство, грех кровосмешения. Впрочем, были и иные причины. Меншикова пьянила возможность самому породниться с будущим императором. А граф Толстой, начальник Тайной канцелярии, когда-то выманил из-за границы царевича Алексея, возглавлял следствие над ним. Если воцарится сын Алексея, Толстому могло прийтись худо, и он стал сколачивать партию в пользу Анны и Карла Фридриха.
Но Меншиков подрывал позиции противников Петра. Екатерине он и его сторонники преподнесли поярче западные нападки на Тайную канцелярию (которые были всегда, хотя во всех странах были свои застенки, палачи, репрессивные органы). Для повышения престижа России тайную канцелярию упразднили. Как бы без обид для Толстого, он остался в Верховном тайном совете, но лишился главного своего орудия, политического сыска. А безвольным Карлом Фридрихом полностью рулил голштинский министр Бассевич. Меншиков подкупил его. Уточнил, что с надеждами вовлечь Россию в войну за Шлезвиг пора прощаться, и Бассевич от лица своего герцога обратился к Дании. Соглашался отказаться от претензий, но хотел сорвать за это денежную компенсацию. А Меншиков тут же донес об этом воинственной Екатерине, зять в ее глазах стал трусом и тряпкой.
Александр Данилович силился нейтрализовать и Елизавету, оторвать от влюбленного в нее Петра. Поводы давала она сама. Женское естество в ней играло слишком бурно. Она допускала откровенные нескромности с молодыми придворными. Матери докладывали: как бы до греха не дошло, надо скорее замуж. А в женихи Меншиков предложил… Морица Саксонского – заодно и с Курляндией проблему решить. Императрицу настроили: один зять рохлей оказался, зато второй будет какой боевой! В посредники привлекли посла Саксонии Лефорта. Он передал Морицу портрет царевны, добавил от себя, что она «хорошо сложена, прекрасного роста; прелестное круглое лицо, глаза, полные воробьиного сока, свежий цвет лица и красивая грудь». Уверял, что девушка ждет отважного жениха «с величайшим нетерпением».
Но Мориц… не клюнул. Вероятно, он счел, что это ловушка, что его хотят подобной приманкой выманить из Курляндии. К тому же, за Елизаветой не было герцогства. А превратиться в одного из российских генералов он не пожелал. Да и для Франции, организовавшей операцию, была важна Курляндия, а не его карьера в Петербурге. Что ж, тогда по указаниям Меншикова срочно нашли другого жениха, Карла Августа Голштинского. Он был двоюродным братом Карла Фридриха, князь-епископом Любекским. В церковном понимании епископом он не был. Но Любек юридически считался епископством, и когда Карл Август его унаследовал, то и стал «князь-епископом». Княжество было микроскопическим. Но шведы уже отвернулись от Карла Фридриха, и у его двоюродного брата появились шансы стать шведским королем.
За предложение брака он ухватился двумя руками, в декабре 1726 г. примчался в Петербург. Царице он понравился, а Елизавета его даже полюбила. Голштинцы, разумеется, расхваливали свою страну, и невеста представляла ее прекрасной. Грезила, как будет там жить, ездить в гости к соседней герцогине, сестре Анне. Воспитывали Лизу для Франции, но она и немецким владела свободно, а нравы и манеры в Германии господствовали французские. Прусский посол писал про царевну: «Она совершенная немка по духу и только ждет, чтобы уехать отсюда».
Весной 1727 г. Екатерина совсем слегла, стала задыхаться. В 43 года она стала полной развалиной. Но и страдания вместе с лекарствами заливала венгерским. Не хотела тишины. Приказывала, чтобы во дворце играла музыка, танцевали. Императрицу вывозили на это натужное веселье в коляске. Она допускала придворных к ручке, поднимала бокал – и увозили обратно. Одним из последних дел, которые ей довелось решать, стало расследование, начатое еще при Петре.
Богатые евреи из Польши во главе с Лейбой Борохом незаконно урвали на откуп таможенные и кабацкие сборы на Смоленщине, обворовывали государство. Верховный тайный совет постановил выслать их из России. Разгневалась и Екатерина. Возможно, ее настроение подогрел Меншиков – он вел большую торговлю продукцией своих имений на Украине, и евреи были его конкурентами. 26 апреля 1727 г. Елизавета от имени матери подписала указ: евреев, «которые обретаются на Украине и в других городах, – тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно и впредь их ни под каким образы в Россию не впускать» [15, с. 40].
Но до исполнения указа никому уже дела не было. Шла грызня за трон. Против Меншикова и Голицына боролись две группировки. К Толстому примкнули комендант Петербурга Скорняков-Писарев, генерал-полицмейстер Девиер, генерал Иван Бутурлин Они собирались у Карла Фридриха. Обсуждали, как возвести на престол его с Анной. Из своих личных интересов не задумывались, что фактически отдают Россию чужеземцам – наша страна увязла бы в совершенно не нужных ей проблемах Голштинии, на все теплые места понаехали бы голштинцы. Вторая группировка была совсем не против Петра, состояла из персональных врагов Меншикова. Возглавляла ее завзятая интриганка графиня Волконская.