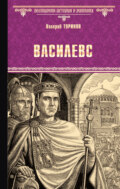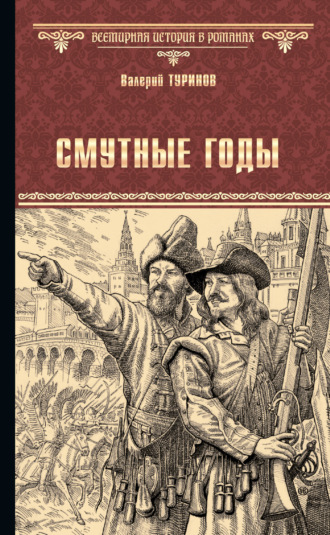
Валерий Туринов
Смутные годы
Среди Лыковых и Кашиных, из рода Оболенских, князь Борис Михайлович был самым «лучшим» и болезненно воспринимал всё, что касалось принижения его по лествице. И немало эта причина побудила его жениться на Анастасии Романовой, младшей дочери боярина Никиты Романова-Юрьева, сестре митрополита Филарета, сейчас в эту пору находящегося в Тушино, при Матюшке…
– Брехня это, Борис Михайлович! – громко выкрикнул Барятинский и пренебрежительно махнул рукой. – Брехня!
– Яков Петрович, силён этот поляк и опытен на коне! – стал уговаривать его князь Михаил. – На разные полки идти нельзя… Одна голова нужна!
Барятинский насупился:
– Вот и вели её снять, но не вели ходить в товарищах с князем Борисом!
Он побагровел тоже, и лицо у него покрылось испариной.
– Ох, Яков Петрович, Яков Петрович! – сокрушённым голосом заговорил князь Михаил. – Такое время, а ты!.. Скверно, скверно! Бей челом государю! Не возьму назад указ, не возьму! Но смотри: государь не простит чести князя Бориса!.. И раз так – подавай случаи!
Он отвернулся от Барятинского и крикнул дьяку:
– Тимофей, проверь по делам Разряда! И на Москву отпиши!
Барятинский смолчал, еле сдержался, чтобы не наговорить грубостей Лыкову да и тому же Скопину.
– Ладно, подождём государево слово! – натянуто сказал князь Михаил и обратился к Лыкову: – А под Суздаль ты пойдёшь!.. Всё, господа, на сегодня всё!
Он устало поднялся с массивного дубового кресла.
Воеводы шумно зашевелились, встали с лавок и кучно вышли из палаты.
– Тимофей, останься! – окликнул князь Михаил дьяка. – Ты вот что, – подошёл он к нему, – как он подаст челобитную, отправь к государю без мешкоты. Чтобы ответ до Юрьева пришёл…
Ответ на челобитную Барятинского пришёл быстро. И князь Михаил тут же вызвал заместничавших воевод к себе в ставку.
Дьяк Тимофей развернул грамоту и приготовился читать.
– Чти, чти, – сказал ему князь Михаил и стал прохаживаться по большой воеводской палате.
Несмотря на свой рост в добрую сажень, он был ловок и двигался легко, изящно. Лишь под тяжестью его громадного тела жалобно поскрипывали половицы. С большой круглой головой, ранними зализами и слегка вздёрнутым твёрдым подбородком, который подпирал высокий воротник кафтана, он ходил и ходил, не глядя на воевод, заранее хмурил лоб, нагоняя на лицо строгость.
– «От царя и великого князя Василия Ивановича всея Руси, – начал читать дьяк, раскручивая столбец, – большому воеводе нашему, князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. А писал ты к нам, великому государю, что князь Яков Петрович, не послушав твоего указа, не пошёл с боярином нашим Борисом Михайловичем против литовских людей под Суздаль. И получив ту челобитную Якова, и рассмотрев дела местного приказа и Разряда и случаи, что дал князь Яков, решили мы: не по делу бьёт челом князь Яков… Под Суздаль же, на Лисовского, послать их по разным полкам. Но “литву” непременно повоевать»…
Он дочитал до конца и свернул столбец, скреплённый размашистой подписью дьяка Дворцового приказа.
– Указ государя исполнить! – холодно сказал князь Михаил заместничавшим воеводам, чтобы те поняли – никаких уступок не будет. – Готовтесь к походу… Всё, господа!
Лыков и Барятинский молча вышли из воеводской.
На Лисовского они выступили раздельно, двумя полками. К Суздалю их полки подошли ночью и с двух сторон ворвались в посад. Всполошив выстрелами весь город, они смяли передовые заслоны гусар и пробились к крепости. Но тут Лисовский собрал весь свой полк в один кулак и стремительно ударил конной атакой по пехоте князя Лыкова. Он опрокинул её и выбросил из города. Такая же участь постигла воинов Барятинского.
Потрёпанные русские полки бежали, спасаясь по лесам от полного разгрома. В Александровскую слободу они вернулись раздельно, так же как и уходили.
Князь Михаил, раздосадованный на воевод, не стал выяснять причины поражения и передал дело в Дворцовый приказ: для проведения сыска и разбора его дьяками.
* * *
К высоким деревянным воротам царских хором, построенных в Александровской слободе Иваном Грозным, подкатила пара под охраной верховых стрельцов. Кучер остановил лошадей: «Тпр-р, родимые!» – и соскочил на плотно утоптанный снег, цепко придерживая концы длинной уздечки.
Стрелецкий десятник заглянул в сани, где дремал воевода, и громко окликнул его: «Приехали, Григорий Леонтьевич!»
– А-а, уже! – отозвался Валуев, с трудом открывая слипшиеся веки.
Он окинул взглядом высокую каменную стену и не сразу сообразил, куда же их занесло-то.
Валуев любил ездить по делам в санях. Давно и безвозвратно связал он себя со службой государю, стал привычен ко всем её тяготам и, бывало, по нескольку дней не слезал с коня в больших походах. Но как только выдавалось затишье, на коня он не садился. В этом неприятии верховой езды чувствовались глубокие наследственные корни его предка из Литвы, Окатия, выехавшего в Московское княжество ещё три века назад. Окатий верно служил великому князю Ивану Калите, за что получил от него чин боярина и вотчинки, а среди них и малое село Валуево на тихой, заросшей вязами речке Ликовке, что впадала в грязную Пахру.
– Мирошка, давай во двор! – крикнул он кучеру. – И вы тоже! – приказал он стрельцам.
От ворот к возку подошёл сотник в огромном тулупе, с большим пистолетом, засунутым за широкий кушак, и строго спросил: «Кто такие?» Но, узнав думного дворянина, он неуклюже захлопотал, побежал к караульным: «Пропускай, пропускай!»
Мирошка снова вскочил на коренную, стегнул её плетью, и возок так дёрнуло, что Валуев невольно лязгнул зубами и сердито сплюнул: «Ну ты, пёс шелудивый!..»
Сани миновали ворота и вкатились на просторный двор. Мирошка лихо развернул пару и остановил её у хором.
И тут же с крыльца вприпрыжку сбежал Иван Максимов, войсковой дьяк Скопина, подлетел к саням.
– Григорий Леонтьевич, князь ждёт тебя! Уже не раз справлялся, не приехал ли!
– Один? – спросил Валуев дьяка.
Он скинул тулуп и стал неспешно выбираться из саней. Выбравшись, он громко высморкался, утёр ладошкой острый нос упрямца, торчавший вперёд.
– Нет, там ещё Фёдор Иванович и Михайло Бороздин!
Иван Максимов держался свободно, до фамильярности, со всеми боярами и князьями в войске Скопина. Они все знали его, и он ловко пользовался этим, через их связи выколачивая на Москве лишние десятки четей земли к своему поместному окладу.
– Зачем так спешно вызвал? – поправляя съехавшую набок саблю, вопросительно глянул Валуев на дьяка с явной издёвкой на маленьком круглом лице.
– На поиск, – важно ответил Максимов, как будто ему было что-то известно, но то воеводская тайна, и он не вправе раскрывать её, хотя Валуев и узнает всё через какие-нибудь четверть часа.
– А куда? – пропыхтел Валуев, поднимаясь по крыльцу хоромины вместе с дьяком. – Да говори ты, говори! – шутливо подтолкнул он в бок его.
Но Максимов скорчил оскорблённую мину так, чтобы стало ясно: спрашивать об этом бесполезно. Он не имеет права говорить, ибо то решать Скопину.
Валуев, не поверив ни одному его слову, невозмутимо хмыкнул про себя: «Хм! Вот ведь, проходимец, как наловчился!»
Сейчас, однако, он волновался не о предстоящем ему деле, а о своей жене Ульяне, которая осталась дома одна с детьми. У него был невеликий двор в Москве, где он жил с семьей вообще-то не слишком богато, но и нужда не посещала их. А дети что?.. Старший Иван, и тот был ещё мал даже на службу. Что уж говорить о дочерях, о Марфе и Татьяне. Те-то когда ещё будут ходить в девках… Вот и живут они там без мужского глаза. Его мать, правда, с ними тоже, с тех пор как не стало отца. Да, семья там, а тут дело…
– Пойдёшь к Троице. Долгоруков просит помощь, – сказал князь Михаил ему, когда он предстал перед ним. – Действовать будешь вместе с Жеребцовым. Проведаешь силы у Сапеги – и назад… В крупную стычку не ввязывайся. Только поиск. Понятно?
– Да, Михайло Васильевич!
– Тимофей, готовь указ о походе! – приказал князь Михаил дьяку, сидевшему у оконца за столиком. – С росписью людей, припасов и как вершить дело!
Он прошёлся по палате, остановился, погрозил пальцем Валуеву:
– Смотри, только по росписи спросится!.. Знаю я тебя: всё норовишь воевать по-своему!
Продолжая наставлять его, он заговорил о заразе, что поразила обитель, попросил его жить там осторожнее да высмотреть, устоит ли ещё монастырь хотя бы немного.
– А Жеребцов пока останется там. Ударит из монастыря, как пойдём на Сапегу… Хватит ему, настоялся, наворовал! – тихо проговорил он, и на юношески гладком лице у него проступила жёсткая складка.
– Какой силой-то, Михайло Васильевич? – спросил Валуев, нахмурив круглый лоб.
Он был, вообще-то говоря, человеком, долго думающим. И всё услышанное тут, пока не утрясётся у него, ещё помучит его.
– Многим скрытно не пройти! – раздался голос Шереметева с красной лавки в углу приказной палаты, где Валуев сразу и не заметил даже его.
Шереметев встал с лавки, достал платок из кармана, отёр вспотевшее лицо: в палате было жарко – натоплена была, и душно, хотя была пустой. Затем он так же степенно сложил платок, сунул его обратно в карман, огладил широкой ладонью короткую русую бородку и снова сел.
Со стороны Фёдор Иванович смотрелся солидно. Но в то же время в нём проглядывало что-то простоватое, посадское, въевшееся, что невозможно ничем вытравить: это печать, с ней рождаются и умирают. Ему было тридцать семь лет. И хотя он был старше Скопина на целых пятнадцать лет, однако чувствовал себя рядом с ним неуверенно, терялся, редко подавал голос. Двоюродный же его брат Пётр Никитич Шереметев, схоронив свою первую жену, сестру жены Фёдора Мстиславского, женился второй раз. Он взял за себя сестру Григория Рощи-Долгорукова, который сейчас-то и сидел в осаде в Троице-Сергиевской обители. Так что Фёдор Иванович в некотором роде был его свойственником. И по доброте своей души он беспокоился за него, когда из обители стали доходить слухи о разладе Долгорукова с другими воеводами. Что такое недобрые слухи и как они бьют под самое сердце, он уже испытал на себе совсем недавно, когда оставил остров Балчик и отошёл к Царицыну. Тогда по Волге прокатился слух, что в Астрахани объявился новый царевич Лаврентий, назвался сыном царевича Ивана и царевны Елены… «Вот и племянничка Бог послал!» – с сарказмом подумал тогда Фёдор Иванович, поставленный в затруднительное положение, понимая, что нужно как-то очищать от наговоров имя своей сестры… Но всё разрешилось само собой: «племянничек» погулял по Волге, взял да опрометчиво сунулся в Тушино, и там его повесили…
– Да, – согласился Скопин с Шереметевым. – Наряд и пеших оставишь в Слободе. Лишь с конными пойдёшь. Отряд возьми подвижный, небольшой, пять сотен конных. Но таких, чтобы рубились за двоих!
Глава 2
Троице-Сергиев монастырь
Вот так Валуев получил своё очередное задание: идти походом на Троицу. И уже в ночь с четвёртого на пятое января 1610 года его отряд конных воинов скрытно шёл по Ярославской дороге. Стояла тёмная метельная ночь. Непогода и долгий переход вымотали людей. И Валуев, подумав, не сделать ли привал, крикнул сотнику, чтобы нашёл проводника:
– Яков, Тухачевский, слетай и приведи его!
Сотник стегнул коня, скрылся в темноте, через минуту вынырнул из снежной круговерти. За ним появился мужик средних лет с густой бородкой клинышком, светловолосый и голубоглазый: со всеми признаками, что его предки происходили откуда-то из скандинавских или польско-литовских земель.
«А ведь на полячка похож, – мелькнуло у Валуева, подметившего это ещё днём. – Как пить дать – полячок!»
– Что надо, воевода? – грубо спросил проводник.
– Далеко ещё?
– Не-е! Сейчас Сватково будет, а там уж вёрст десять останется. На разъезды бы только не наскочить. Тогда поляк всполошится и уже не пройти… Ты, воевода, не сомневайся, но только накажи ратным: не вольничать, мирно, тишком идти.
Валуев успокоился, заметив, как проводник говорит о поляках. Но тут же он недовольно фыркнул, не стерпел, что тот учит его, воеводу, как ему поступать, что делать на походе. И вообще, говорит развязно, смело. Он раздражённо прервал его и отослал опять в голову отряда.
На подступах к монастырю по цепочке полетела приглушённая команда: «Не отставать… Тихо…»
Всадники сбавили шаг и медленно двинулись вслед за разъездом. Миновали Нагорный пруд. Впереди тёмной громадой замаячили высокие каменные стены.
Конники подошли вплотную к Красной башне и остановились. И тотчас же со стены раздался тревожный окрик: «Стой! Кто идёт?!»
– Свои! – зычно крикнул Валуев, подъехав с проводником к воротам башни. – Зови Жеребцова! Да поживей! Пришёл Валуев – передай!
– Григорий, ты, что ли?! – вскоре послышался голос со стены.
– Да – я! Не делом встречаешь, Давыд!
– Сейчас откроют!.. Подожди!
Вверх поползла решетка, заскрипели дубовые ворота, и Жеребцов вышел к Валуеву. Он пожал его жёсткую ладонь и обнял его:
– Ну, наконец-то! Мы заждались! С кем пришёл-то?
– Потом, Давыд, потом! Дай за стены войти! Люди пристали!
Жеребцов заторопился: «Да, да, заходи!» – пропуская в ворота конников Валуева.
И сотни одна за другой скрылись в обители.
– Раз ты здесь, тебе бы надо знать, – начал Жеребцов, заходя с Валуевым в крепость. – Непорядок у нас – в разномыслии живём. Долгоруков не ладит с Голохвастовым. Архимандрит – тот сам по себе, за обитель стоит! А мы за что? – недоумённо спросил он. – Так что, Григорий, надежда на тебя – принимай мою сторону!
– Не с руки, Давыд! Зачем встревать в вашу канительку? Я ведь сюда по скорому делу!
Окольничий приуныл: «А-а!..»
– Тут как с заразой-то? – спросил Валуев его, оглядывая пустынный монастырский двор, занесённый снегом, с редкими утоптанными узенькими тропинками.
– Утихла. Тут иная беда. Есть такие – перекидываются. У Сапеги донцы переманивают. Живём осторожно… Планы шибко не выговаривай, а то как бы литва на прознала их наперёд игумена! Ха-ха-ха! – громко рассмеялся Жеребцов над своей же шуткой.
Они подошли к длинной келейной, подле которой уже бегали сотники, размещая на постой воинов.
Из дверей игуменской вышел архимандрит Иоасаф, а за ним князь Григорий Долгоруков.
Валуев подошёл к настоятелю, поздоровался, склонив голову, поцеловал у него руку.
– Да хранит тебя Господь, Григорий Леонтьевич! – перекрестил его архимандрит. – Слава тебе, Господи, услышал ты наши молитвы! – И он, с надеждой в голосе, спросил его:
– Когда же придёт наш избавитель, Михайло Васильевич?
– Скоро, отче, скоро! – ответил Валуев и обратился к Долгорукову. – Дело у меня к тебе, Григорий Борисович! Пока устрой, отдохнуть бы немного. Потом совет: наказ есть от Михайло Васильевича!..
Малая трапезная, холодная, пустая, стол голый, длинный, деревянный, скоблили его когда-то тщательно, сейчас же был засаленным и грязным, а пол заплёван. Бревенчатые стены, обшитые досками, растрескались и пожелтели: до них добралась, иссушила старость… Здесь-то и собрались на совет все начальные люди монастырского войска. Пришёл осадный голова Сила Марин, родом из Тулы, осмотрительный и смекалистый, как и его земляк, сотник-алексинец Иван Ходырев, которых в обители всегда видели вместе. Кучкой держались сотники-переславцы Борис Зубов и братья Редриковы. Владимирский сотник Иван Болоховский захватил с собой пятидесятников. Пожаловал Алексей Голохвастов, за ним пришёл архимандрит и ключарь Гурий Шишкин. Давыда Жеребцова сопровождали боярские дети. Последним явился Долгоруков. Он прошёл вперёд и сел во главе трапезного стола, за которым уже расселись кучками собравшиеся. Кивнув головой в сторону Валуева, он сообщил, что тот пришёл от Скопина и доведёт до них его слово.
Валуев поднялся с лавки, в тусклом свете жирника увидел усталые измождённые лица: все глядели на него и чего-то ждали особенного… А что он мог сказать им, кроме того что было в наказе большого воеводы? Утешить, что скоро снимут осаду?
– Товарищи, князь Михайло Васильевич собрал большое войско под Слободой. Пробился к нему на соединение и Фёдор Шереметев с понизовыми. Много иноземцев, шведов, все воины умелые… Но выступать под Троицу пока не будем!
– Доколь же стоять тут ворогу-то – под нашей святыней?! – гневно вырвалось у Иоасафа, и он нервно сжал в кулачки пальцы, озябшие от холода.
– Погоним, отче, ой как погоним! – ответил Валуев. – Только дай договорить… Михайло Васильевич послал меня с наказом – испытать силу Сапеги!
– Что пытать-то? – хмуро забурчал Голохвастов. – Пытано, сколько раз уже!
Он заёрзал на лавке, настороженно глянул на Валуева, стараясь угадать, к кому пристанет, если задержится в монастыре надолго, вот этот думный дворянин, крутой и сильный воевода, которого, как слышно, побаивается даже сам Скопин… Голохвастов был уже немолод. Ему перевалило давно за сорок.
– Вот и спытаем ещё! – неодобрительно покосился Валуев на него. – Велено пытать – будем пытать! И боем!.. А если тебе большой воевода не по нраву, то мне он указ!
– Григорий Леонтьевич дело говорит, – поддержал его Долгоруков.
Все осадчики хорошо понимали, что надо выступать немедленно, пока в стане гетмана не узнали, что к обители подошла помощь.
– Григорий Леонтьевич, иноки тоже пойдут на вылазку, – предложил архимандрит Валуеву, чтобы хоть этим внести от обители свою лепту в предстоящее дело и сгладить впечатление от явного нежелания Голохвастова рисковать своими поселянами.
– У тебя, отче, их уже и нет! – язвительно поддел Голохвастов его.
Иоасаф не ответил на этот выпад воеводы. Лишь посиневший от холода нос заострился у него, и скорбь глубокая искусно скрылась под маской смирения, скорбь от разлада в монастыре…
Долгоруков приказал оставить только наблюдателей на колокольне и у осадного, а всех остальных выводить за стены и распустил начальных людей. Сотники разошлись по своим отрядам. За ними ушёл Голохвастов, затем и Долгоруков. В трапезной с Валуевым задержались только его сотник Яков Тухачевский, Иоасаф и Жеребцов.
– Почто здесь лютый холод? – толкнул Валуев в бок Жеребцова, потирая друг о друга ладошки и чувствуя, что замерзает. – Ты на Мангазее воеводил, тебе это за обычай! – ухмыльнулся он над хмурой физиономией окольничего, недовольного его отказом пристать к нему.
– А где эта Мангазея-то? – спросил Яков.
– Не забегай вперёд – узнаешь! – посоветовал ему окольничий.
Тухачевский вопросительно глянул на него, в его глазах блеснул живой огонёк интереса. Он, молодой, по виду – не прожил ещё, пожалуй, и четверти века, служил городовым боярским сыном. Валуев, приметив как-то в разговоре, что он хорошо разбирается в войсковых делах, к тому же обучен грамоте, взял его в сотники к себе из смоленского ополчения: выклянчил из полка у того же Якова Барятинского. Одет он был скромно, как видно, жизнь достатком не баловала его. За ним, за Яковом Тухачевским, числилось поместьице под Смоленском, деревенька в четыре крестьянских двора.
«Юнец!» – мелькнуло у Жеребцова.
– У тебя Сибирь написана на роже! – ответил он. – Строптивый!.. Только туда не пожелаю никому попасть…
На массивном угловатом лице окольничего выступили красные пятна, но руки, крупные и узловатые, оставались спокойными, в них таилось много силы и добра… Он, тугодум и отчего-то честный, вернулся недавно с воеводства из Мангазеи, пушного края, откуда рекой текли меха в казну царя.
Иоасаф встал с лавки. Звонко щёлкнули его коленки. И он невольно присел, лицо исказила боль и отразилась в его страдающих глазах. Его мучил, грыз кости ревматизм.
– Пошли как-то на вылазку, по дрова, так казаки атамана Чики всех побили! – с возмущением пробасил Жеребцов.
– Вот…! – выругался Валуев. – На кол сажать надо гадов!
– Вешаем, если попадают, – лаконично промолвил Жеребцов.
– Не все предали землю и веру, – тихо заметил архимандрит.
– Да, да! – поддакнул Жеребцов и рассказал, как летом Сапега повёл под стены подкоп, а куда – было неизвестно. И в обители чуть не сошли с ума от страха. Но из табора Чики выбежал казак и донёс, что, мол, под юго-западную, наугольную, ведут. И тут же навстречу им под землёй пошла команда монастырских, дошлых в горнокопном деле. Затем они сделали вылазку: взорвали подкоп, да наспех – десяток троицких мужиков насмерть задавило…
Иоасаф вернулся в свою келью, куда следом за ним пришёл ключарь Шишкин.
– Отец Гурий, сходил бы ты к сторожам, – попросил он ключаря. – Глянул, как там, всё ли тихо в станах у поляка.
– Отче, пошли молодого инока. Стар я. А это же такая верхотура! Аж в самый барабан лезть надо!.. А может, отсюда кликнуть? Услышат, если не спят.
– Кого же я пошлю-то?! – воззрился архимандрит на Шишкина, раздосадованный внутренне на него.
Он догадывался, что донос на монастырского казначея Девочкина и Голохвастова был делом его рук. Из-за этого-то с тех пор воевода и смотрит косо на него, считает, что и он тому виной. А ключарь умён, хитёр, уличить нечем.
«И как мог Девочкин стакнуться с поляками? – много раз задавал Иоасаф сам себе этот вопрос. – Такого человека замучили на пытках, не за потех…»
– Иноков-то осталось осьмеро, – печально произнёс он. – И те пойдут за стены. Пускай немного отдохнут. Может, это последний их денёк!
– Тогда из служилых или поселян, – не унимался Шишкин.
– Какие служилые! – поразился Иоасаф. – Там, в темноте-то, бывалый шишаков набьёт, прежде чем взлезет!.. Сходи, Гурий, сходи, надо это, для дела, для Троицы!
Скользя бесшумно, бестелесно по узкой келье, он остановился у ветхого киота и машинально подвигал его дверцу. И петли заскрипели, певуче и приятно. А он замолчал, прислушался… Их напев, неповторимый, странный, как слог молитвы, смысл её глубокий, лечил и успокаивал его… Он мягко улыбнулся, с любовью ласково на ключаря взглянул.
От его взгляда Шишкин смешался и торопливо вышел от него. Он знал, что архимандрит упрям и не отступится, когда речь идёт о благе обители. Вернулся он не скоро. С трудом отдышался от непривычного подъёма на колокольню церкви Пресвятого Сошествия Духа, высоко взметнувшуюся над всеми монастырскими постройками, и вошёл в келью к архимандриту.
Иоасаф молился, стоя на коленях подле киота.
– Тихо у поляка, отче, тихо, ни огонька, – сообщил ключарь. – Спят, должно быть.
Иоасаф сухо поблагодарил его и тяжело поднялся с колен: «Теперь пора и к воеводам…»
Перед рассветом на монастырский двор полезли люди из келий, палат, амбаров и щелей. Забегали стрельцы и поселяне, петляя, как зайцы на свежевыпавшем снегу. Они сбивались в сотни, строились и собирались у соборной церкви. В огромной людской массе совсем исчезли иноки архимандрита, как бусинки, упавшие в песке. В чёрных рясах, с длинными волосами, которые упрямо лезли из-под скуфеек на белый свет, чуть сутулые, с костлявыми плечами, они, взяв в руки сулицы, смиренно встали со всеми вместе в ряд.
Над площадью клубился пар, носился приглушённый говор, и тут же вздохи, стук копыт, и бряцало оружие. Топтались пешие на месте, а всадники ругались сонно, вяло горяча коней…
– Тише, братцы! Глянь – идут!
Из собора вышел архимандрит, за ним князь Роща-Долгоруков, Валуев, Голохвастов и Жеребцов с сотниками. Долгоруков остановился на паперти, рядом с Иоасафом, и поднял руку.
– Товарищи, братья мои! – крикнул он воинам. – Скоро, очень скоро сюда придёт большим полком Скопин-Шуйский! И Сапега побежит! Сочтены его дни под стенами! Нам же повелел князь Михайло испытать его силу! Покажем, что умеем драться, защищать свои дома, жён и малых! Сейчас, на вылазке – всем гарнизоном!..
Он отступил в сторону, давая место Иоасафу.
– Сыны мои! – дрожащим голосом заговорил архимандрит. – Мы чаяли милосердного, в Троице славимого Бога нашего милости и оборонялись от польских и литовских людей. И не оскорбил латынянин своей ногой нашей святыни. Кельи и палаты обители запустели, ибо прошёл злой мор за грехи наши перед Богом: за то, что каждый стал думать токмо о своей выгоде в ущерб вере и государю. Из-за этого литва и поляк в тесноту велию ввергоша обитель святого Сергия! И Господь Бог, и прах дедов наших повелели отомстить за это надругание над отечеством и верой. Сыны мои! Во имя веры православной, греческой, истинной, на которую покушается латынянин, творящий беды многие на Русии! Во имя Отца и Сына и Святага Духа благословляю вас, православные, на битву с ворогом!.. С Богом, сыны мои!.. – захлебнулся он в крике и поперхнулся.
Но тут ключарь подал ему всесильный аметистов крест, и он, собравшись с духом, благословил сначала князя, воевод, затем перекрестил и воинов.
На площади захрустел снег, забряцало оружие, отряды двинулись к крепостным воротам.
В морозном воздухе вдруг глухо ударил набатный колокол, вверх поползли тяжёлые решетки – скрип дуба не смутил уже никого.
Валуев вышел с конными стрельцами за ворота, построил сотни, и они покатились волнами, обогнули Мишутин овраг и вскоре выметнулись на Княжье поле. Тут они смяли польские заставы и, преследуя, погнали их в стан Сапеги.
А там уже тревожно пели трубы, поднимали на коней гусар.
По шуму со стороны монастыря Сапега понял, что это не простая вылазка, и вывел против русских все свои полки. И полуторатысячное войско ратников из крепости столкнулось с пятью тысячами гусар. Из станов выступило столь же пятигорцев[2], пахоликов[3], и челядь пошла тоже в бой. Их поддержали казаки донского атамана Чики.
И под стылым небом, на полях вокруг монастыря, в тот день, как раз в сочельник, сошлись полки в неравной схватке. И жарко там пришлось стрельцам Давыда Жеребцова на Волкуше: они дрались, стояли, не выдержали и отступили… А у Келарева пруда в строю, все пешие, возились с пахоликами поселяне и стрельцы, а среди них последние монахи.
А на Клементьевском поле Валуев натолкнулся на ряды гусар, которые тут выскочили наперехват ему. И сшиблись конные, пошли рубиться накоротке, саблями, и тяжело сопя. На снег, на поле, падали гусары, кони и стрельцы.
Валуев опрокинул там гусар и прошёл к Красной горе. Туда он вышел неожиданным наскоком с тыла. И в тот же момент туда же подоспели и осадчики. Они вырубили у пушек прислугу и захватили всю полковую батарею Сапеги. Вместе с ней захватили и осадную, чудовищных размеров пушку с разбитой затравкой и развороченным жерлом, разинувшую болезненно свой зев пороховой.
– Трещора! Наших затинщиков дело!
– Достали мастерски!
– Эй, мужики, матерь вас за…! – закричал Марин на поселян. – Глянь, литва прет!
На батарею плотными рядами бежали с копьями наперевес пахолики, а за ними челядинцы и донские казаки…
К полудню защитники обители стали изнемогать под давлением намного превосходящего их по силам противника. И осадный колокол тревожно загудел, зазывая обратно воинов за стены. И те поспешно отошли к монастырю.
– Григорий Леонтьевич, что с этими делать? – спросил Тухачевский воеводу, загоняя на крепостной двор пленных.
Валуев, дико уставший за последние бессонные сутки, равнодушно отмахнулся от него и приказал вырубить их.
– Ты что – выруби?! – вскинулся Жеребцов. – Не дам!
– А чем кормить будешь?! – сам не осознавая почему, вдруг рассвирепел Валуев. – Самим ведь жрать нечего! Два месяца уже тут! Не изголодался?! А туда же – кормить эту сволоту!
– Да, меня эти месяцы чему-то научили! Ты же и дня не побыл, а уже командуешь всеми!
– Ну и хрен с тобой! Оставайся с ними! Хоть целуйся! А я ухожу!
Злоба, внезапно вспыхнув, быстро ушла из него. И он, оправдываясь, проворчал: «Вот эти, пахолики, в пень вырубили Дедилов. Не пощадили малых и жёнок…»
Мысль о том, что из монастыря надо уходить, пока Сапега не очухался и не перекрыл все пути, появилась у него во время сражения. Он своё дело сделал: бой дал полное представление о полках гетмана. Сапега оказался силён. Малым войском его не оттолкнуть от Троицы.
– Нам тяжело, но совесть мы не забыли, – тихо заговорил архимандрит, внимательно приглядываясь к нему, оказавшись невольным свидетелем этой перепалки воевод.
– Ты же сам, отче, вот только что призывал погибель на их голову! – вырвалось у Валуева; он не ожидал нападения с его стороны. – Ты что, ты что? – грубо насел он на него.
– На поле все они враги. А здесь, в обители, у Господа, лишь овцы, – продолжил Иоасаф, с сожалением видя, что Валуев не понимает этого. – Ты воевода добрый, да на расправу больно скор…
– Враги тогда лишь хороши, когда убитыми лежат они! – отрезал Валуев и, чтобы больше не слушать ни игумена, ни окольничего, повернулся и пошёл к келейной, еле волоча от усталости ноги.
Он поднялся на крыльцо и крикнул сотнику:
– Яков, поди сюда!
Тухачевский подбежал к нему.
– Ты пленных не трогай, – зашептал Валуев ему, уставившись на его бородавку на лице, под носом… «Её, кажется, не было у него!» – с недоумением мелькнуло у него. – Оставь им. А мы до ночи отдохнём и уйдём. Но об этом молчок! Не то найдётся свистун, перекинется к литве и заворует. Всё! Распусти людей по палатам!
Он открыл дверь в келейную и скрылся за ней.
– Эй, сотник! – окликнул Тухачевского осадный голова Сила Марин. – Помоги собрать вот этих! – показал он на пленных.
Подталкивая рогатинами пленных, еле тащившихся по глубокому снегу, поселяне и стрельцы загнали их на скотный двор.
Внутри просторного бревенчатого сарая было тепло и сухо, но стояла удушливая вонь, так и не выветрившаяся от подохшего монастырского скота.
«Помрут иные!» – подумал Яков, наблюдая, как Марин равнодушно захлопнул за пленными дверь сарая и задвинул на ней засов.
– Стоять тут! Потом сменят! – приказал Марин поселянам и по-мужицки хитровато, но выразительно подмигнул Тухачевскому: «Ну, пойдём, сотник, я угощу тебя!»
Яков отпустил стрельцов и пошёл вслед за ним к длинному братскому корпусу, в опустевших кельях которого обосновались поселяне и Жеребцов со своими воинами.
Около портомойной, отданной Иоасафом под женские кельи, они столкнулись на узкой тропинке с двумя монахинями. Пропуская их, Яков отступил в сторону и увяз по колено в снегу.
Первая, уже пожилая монахиня, важно прошествовала по тропинке, не глядя ни на кого. Молодая же, следовавшая за ней, взглянула на Якова, обдала его жаром больших красивых тёмных глаз, обрамлённых густыми, чёрными, дугой, бровями. Заметив у него под носом бородавку, она чего-то смутилась и быстро опустила голову. А он невольно вздрогнул и вскинул руку, словно защищался от её глаз…
Монахини прошли мимо них и направились к игуменской палате.
Яков выбрался на тропинку и стал тщательно отряхивать шапкой сапоги, не поднимая головы, боясь взглянуть на Марина, чтобы не выдать себя. Сердце же у него часто-часто колотилось, готовое вот-вот выскочить из груди. Оно держало его и в то же время толкало вдогонку вот за ней, за чёрной, тенью исчезающей фигурой…
Успокоившись, он распрямился.