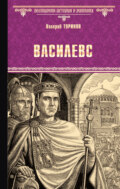Валерий Туринов
На краю государевой земли
© Туринов В. И., 2009
© ООО «Издательский дом «Вече», 2009
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
* * *
Посвящается 400-летию г. Томска
Глава 1. Сургутские
7117 год от сотворения мира[1], по летоисчислению которого когда-то, еще до реформ Петра I, жила Московская Русь, отсчитывая начало года с первого сентября.
Октябрь месяц. Кремль. Просторный двор московских приказов. С трех сторон он был зажат длинным двухъярусным зданием. С четвертой стороны он выходил к Архангельскому собору и был грязным и суетным. Здесь постоянно бегали приказные, бездельно толкались мелкие служилые, у коновязей громко ругались боярские конюхи и холопы, а под окнами Судного приказа недельщики и батожники вели обычный правеж. Изредка через двор проплывала высокая горлатная шапка боярина. А впереди нее, расчищая ей путь, испуганно покрикивая, бежали холопы. И весь день здесь хлопали двери приказных палат, входили и выходили люди, занятые какими-то важными делами.
Место здесь было необычное, особенное. В этом большом двухъярусном здании сосредоточилась государственная жизнь всей Московии, невидимая и непонятная для непосвященных. Сюда стекались отписками и челобитными значительные и маломальские государевы дела. Отсюда же, грамотами и указами, они разбегались по всем уголкам быстро распухающего огромного государства, стягивая его в единое целое и заставляя ритмично двигаться, чутко реагируя на малейшие изменения где-нибудь на стыке с ногаями или на подвижки калмыков. А то вдруг лихорадочно пускались догонять уже прошедшие события под Смоленском, в Диком поле или на «свейской» границе.
Большие и светлые палаты, выходящие окнами на три стороны, – на Ивановскую площадь, к Архангельскому собору и во внутренний двор – занимал Посольский приказ. Рядом с ним, в нижнем ярусе, разместился более влиятельный приказ, Разрядный. В обиходе его называли просто – «Разряд». Он ведал всякими военными делами Московского государства. Возле Разряда находился самый многочисленный по штату приказ, Поместный. Он выходил на угол всего этого приказного здания. Подьячие его, а их было за сотню, всегда были завалены делами о тяжбах, и двери палат ежедневно подпирала толпа просителей. Кучно по палатам сидели подьячие приказов помельче: Большого прихода, Разбойного, Стрелецкого, Пушкарского, Иноземного и Ямского. В них обитало по десятку, а то и меньше, совсем уже худородных подьячих[2], вся жизнь которых, с рассвета и до поздней ночи, была заперта в тесных и темных палатах.
Худородный грамотей начинал свою службу обычно с «молодого» подьячего. Затем он поднимался до «среднего» и «старого». Если выслуживался, то ходил «с приписью», когда ему доверяли подписывать, скреплять «по скрепам» столбцы документов. И мечтой такого подьячего было выйти в повытчики, ведать повытью, куском московской земли. И уж совсем захватывало дух, когда удавалось «сесть на стол», почувствовать под своим пером, под своей рукой, солидную территорию, подведомственную приказу.[3]
Это приказное семя, брошенное царем Иваном Грозным на благодатную русскую почву, быстро проросло, дало невиданные всходы и обильный урожай, который Россия была уже не в состоянии перемолотить за последующие века.
Приказ Казанского дворца, ведавший новыми московскими провинциями, Казанским ханством и Сибирским, располагался далее за Поместным приказом. Он тоже был на первом ярусе, занимал хоромы в торце этого здания. Окнами же он смотрел на улицу, за которой стоял двор боярина князя Федора Мстиславского, главы государевой думы. И там же, подле двора боярина, блестел маковками храм Николы Гостунского. Он бросался сразу в глаза, как только выглянешь в окна из приказных палат.
И вот здесь-то, в одной из комнаток приказа Казанского дворца, за своим столом сидел дьяк Семен Еуфимьев, заправляя всеми приказными делами. Дьяк был седовлас, ему уже минуло за пятьдесят, что было заметно по жиденькой копне волос, когда-то густых и темных. Лицо его, полноватое, изрытое грубыми морщинами, выдавало, что жизнь прошлась по нему рубцами. Глаза же его, с просинью, взирали на двоих служилых, сидевших напротив него на лавке, смущенно сжимая в руках шапки.
Один из них был большеголовый крепыш. Другой, среднего роста, был тонок в кости и казался на вид слабым. На его скуластом лице выделялись выразительные зеленоватые глаза с затаенной печалью, придавая ему вид безобидного покладистого простачка. Большеголовый, Тренька Деев, ходил сургутским пятидесятником у казаков. А тот, другой, среднего роста, Иван Пущин, был сургутским стрелецким сотником.
И вот сейчас их, сотника и пятидесятника, долго расспрашивал о Нарымском остроге дьяк. Он почему-то дотошно интересовался его постройками, как будто не было у него под рукой десятка отписок Григория Елизарова, тамошнего воеводы.
Такое, чтобы простых служилых пытал расспросами сам дьяк Еуфимьев, свояк Гришки Отрепьева, самозванца, бывшего царя, а сейчас уже покойника, бывало не часто. Поэтому они чувствовали себя неважно.
Наконец, дьяк отпустил Пущина, но еще задержал у себя Деева.
Тренька, вспотевший от волнения, глянул на приятеля, отразив на лице, жалком и потерянном, всю тоску по воле: той, совсем рядом, что была за дверями приказа.
Иван нерешительно затоптался на месте, не зная, что делать: то ли уйти, то ли подождать его.
– Иди, иди, Пущин! – строго сказал ему дьяк. – А мы еще потолкуем, – кивнул он головой на Треньку.
– Ладно, до постоялого! – бросил Иван приятелю и вышел из палаты.
На дворе он облегченно вздохнул. Он всегда чувствовал себя неуютно в обществе дьяков и подьячих.
Оказавшись на свету, после темных палат, он зажмурился от яркого, но уже по-осеннему скупого на тепло солнца. По его лицу мягко скользнули и пробежали солнечные блики, отразившиеся от маковицы колокольни Ивана Великого. И чтобы не поймать «зайчиков», Пущин осторожно приоткрыл глаза, наклонил голову и взглянул снизу вверх на эту маковицу, словно впервые увидел этот пылающий золотым огнем факел посреди Кремля на гигантской белокаменной башне. Он же, этот факел, плыл по голубому безоблачному небу и вызывал почему-то бессознательное чувство грусти и тревоги.
Пущин любил столицу, любил так, как обычно любят ее провинциалы. Все в ней кажется им наполненным особенного смысла и предназначения, чего-то более высокого, чем их простая жизнь. Чем она была для него, он не смог бы связно объяснить даже сам себе, хотя всегда с нетерпением ожидал поездки сюда. Приехав же, он томился, не знал к чему себя приложить. Помучившись, он покидал ее обычно с облегчением, чтобы вскоре затосковать вновь.
Из этого приятного расслабленного состояния его вывели громкие крики за углом приказного здания. И он увидел, что во дворе у коновязей поднялась суматоха. Боярские холопы как будто ждали этого сигнала. Они вскочили на коней, кучно двинулись со двора и скрылись за углом приказного здания.
Озадаченный этим, Иван бросился вслед за ними, завернул за угол и остановился, пораженный открывшимся зрелищем.
На площади, под колокольней, разворачивалось самое настоящее побоище. Там дико ржали кони и метались всадники. Кто-то уже летел на землю… Дрались и на мостовой, жестко втаптывая в грязь упавших. Общая свара затягивала в свой оборот и праздных зевак…
«Так то же сшибка!» – мелькнуло у Пущина. Он догадался, что это была обычная для Москвы драка ярыжных и боярских холопов.
Об этом он уже слышал. Однако ни разу до сих пор ему не довелось воочию наблюдать ее вот так близко, как сейчас. Вспомнил он и предостерегающие советы доброхотов: держаться от этого подальше. И он решил благоразумно убраться с площади.
Но в этот момент на площадь хлынули конные и пешие стрельцы. При виде их холопы и ярыжки[4] смешались в кучу. Она закрутилась водоворотом коней и людей, затем рассыпалась по кремлевским подворьям и переулкам, точно порывом ветра смахнуло жухлую осеннюю листву.
Мимо Пущина, припав к гриве коня, пронесся холоп с развевающейся копной светлых волос и, походя, играючи, ожёг его по лицу плеткой.
От неожиданности Иван растерялся, но тут же взметнувшаяся злоба толкнула его вслед за наглецом. Он ринулся за ним, повернул за угол приказного здания и оказался в знакомом дворе.
А там, в дальнем углу двора, к коновязям один за другим подлетали и ловко скатывались на землю холопы. И среди них был тот самый…
Иван сжал кулаки и бросился к коновязям.
Холоп обернулся в его сторону, узнал и на мгновение растерялся. Затем он решительно двинулся навстречу ему. За ним последовали его дружки. Видя, что он один, они заранее горячились от предвкушения потехи.
Злоба ослепила Ивана. Он не успел ничего сообразить, как был опрокинут на землю. Над ним кто-то тяжело засопел и крякнул: тупая боль обожгла ему грудь, перед глазами полыхнули красные круги, и он провалился в темноту…
Очнулся он не скоро, с трудом приподнялся и сел. Придерживаясь руками за какой-то забор, он встал на ноги и осмотрелся: узнал двор князя Мстиславского…
«Вот паскуды!» – мелькнуло у него, когда он сообразил, куда его затащили холопы.
Острая боль пронзила виски и отдалась во всем теле. Он поморщился, ощупал лицо, понял, что его здорово избили. Он выбрался из канавы на мостовую и снова увидел колокольню Ивана Великого. Та плыла все также в поднебесье и блестела позолотой, равнодушная ко всему в мире и к тому, что вот только что произошло с ним, с Иваном.
И он с чего-то обозлился на Москву, на ее скандальных и жадных жителей и на эту золоченую колокольню, вселенским пупком торчавшую посреди деревянных кремлевских изб и вонючих дворовых пристроек, разбросанных вперемежку с конюшнями и теремами. Обозлился он и на усохшую зелень огородов, опоясанных сточными канавами, в одной из которых он только что валялся, брошенный туда, как паршивый пёс, московскими холопами.
Он заскрипел зубами и замотал головой. Рукавом кафтана он вытер заслезившиеся глаза и медленными шажками побрел к колокольне. Выйдя на площадь, он обогнул обширную усадьбу, бывшую совсем недавно за боярином Никитой Годуновым, родным дядькой царя Бориса, и поплелся вниз, к Троицким воротам.
У Кутафьей башни, за подъемным мостом, он свернул направо и спустился на берег Неглинки. Став на раскоряку, он попробовал было дотянуться до воды. С первого раза это не удалось. Он усмехнулся, подумав, что сейчас стал похож на Дарью, жену. Та, когда была беременна, с большим животом, обычно теряла устойчивость и приобретала ее по-новому, фигуристо изгибалась для баланса.
Он присел на сырые, почерневшие от времени сваи, нагнулся и зачерпнул ладошкой воды. В боку что-то резко кольнуло и тут же отпустило.
Он умылся, почистил кафтан, приободрился, подвигал плечами, чувствуя, как с каждым мгновением возвращаются силы.
Отдохнув, он выбрался назад на мостовую и пошел по Никитской.
Стоял теплый осенний вечер. Было сухо и по особенному тоскливо, как обычно бывает в большом городе сельскому жителю, каким он и был по натуре. Он родился и вырос в селе. Сначала это была крохотная вотчинка его родителей. Потом она приросла небольшим поместьицем: временный дар за крепкую службу его отцу, мелкому служилому, не поднявшемуся выше сотника, как и он в нынешнюю пору. Здесь же, в большом и падком на все заморское городе, на бревенчатых мостовых которого, не ровен час, можно было и покалечиться, особенно по пьяному делу, осень выглядела совсем по-иному. И от этого, и гадкого состояния на душе сердце у него стиснула боль, и он ускорил шаг.
На постоялый двор он притащился поздно, когда уже все сургутские были в сборе.
Тренька сидел с казаками за столом, пил бражку и о чем-то оживленно болтал с ними. Увидев его, он разинул от удивления рот, икнул и громко загоготал: «Га-га-га!.. Вы только гляньте на него, казаки, а!.. Гы-гы-гы! Вот это я понимаю! Хо-хо-хо! Как отделали-то!»
Иван бросил на него равнодушный взгляд, грубо толкнул в бок казака: «Подвинься», – и сел на лавку. Взяв из миски пирог с капустой, он стал медленно жевать его, осторожно ворочая челюстью, как старый беззубый пёс.
– Я же говорил тебе, это не Сургут, – сказал Тренька, успокаиваясь и с интересом разглядывая его разукрашенную физиономию. – Вишь, как накостыляли!.. Скажи, слава богу, не порешили. Не то мы сейчас заместо этого, – стукнул он пальцем по кляге с бражкой, – поминальную глушили бы. Ха-ха-ха! Ну и мастак же ты, встревать в разные канительки! Где это тебя так? И кто тот молодец, что отдул самого сотника! Грозу остяков и вогулов! А, Иван?.. Это тебе не киштымы! Хо-хо-хо! И не аманатов драть за косы![5]
– Ладно, будет тебе. Налей-ка лучше, – показал Иван на кружку.
Тренька налил ему. Он выпил. От выпитой бражки сразу исчезли усталость и боль. Внутри у него словно что-то оттаяло. Стало легко, и ушла неприязнь к шумному городу, с его кабаками, ярыжными, наглыми холопами и боярскими сынами, кичливыми, хотя и влачившими полуголодную жизнь в осажденном городе.
«Что за город? – вяло подумал он. – Воры, грабители, сводники… Шиши[6], и те в городе. То появляются, то куда-то исчезают, нутром чуя добычливые места»…
* * *
Прошло два месяца. Наступил декабрь. На все тот же двор московских приказов из приказного здания вышли трое служилых. Одеждой, грубыми обветренными лицами и свободной размашистой походкой они разительно отличались от массы ловко снующих вокруг мелких приказных людишек. И здесь, на дворе, они остановились, словно для раздумий, что делать дальше.
Двое из них были наши старые знакомые, Иван Пущин и Тренька Деев.
Тренька оскалился, широко развел в стороны руки и шумно вздохнул:
– Ух, ты-ы! А хорошо-то здесь!.. Как же они, окаянные, проводят там всю жизнь? В этих чертовых палатах! Так и помереть недолго!
Он толкнул плечом стоявшего рядом высокого блондина, третьего их спутника, с чертами лица, наводящими на мысль о нем, как о выходце из западных мест, откуда-то из-за Смоленска.
– А, Андрюха?
– Не мрут – как видишь.
– Только плодятся, – сказал Пущин так, будто расстраивался из-за того, что московские приказы разбухли подьячими.
– Ну, тебе-то, Иван, грех жаловаться на приказных, – пожурил Тренька его.
– Тебе тоже, – добродушно проворчал Пущин. – Это же надо – Тренька вышел в атаманы! Нам бы того, – сделал он красноречивый жест, показав, что не прочь был бы выпить. – Сё дело божье. Не так ли, Андрюха? – обернулся он к блондину и уставился на его длинный прямой нос, так и притягивающий взгляд своей изящной формой.
Андрюшка молча согласно кивнул головой.
– Ну что, служилые! Теперь домой, в Сургут, а? – спросил Тренька приятелей.
Пущин, ничего не ответив ему, обвел взглядом приказной двор.
Приезжая сюда, в Москву, он первым делом приходил на этот двор: по делам службы. И место это было для него самым памятливым, знакомым до мелочей. За многие годы этот двор вроде бы не изменился. И все же он каждый раз, как Иван появлялся в Москве, казался ему новым, необычным. Может быть, причиной тому была пестрая московская жизнь. Она сразу захватывала и не оставляла ни минуты свободного времени. Потом же, далеко в Сибири, когда он вспоминал Москву, то у него в памяти, прежде всего, всплывал этот двор, а в ушах звучал, голосом басовитого дьякона, колокол Ивана Великого.
За спиной сургутских хлопнула дверь, и во двор, громко ругаясь, вышли два человека.
– Поразорили поместьице, сучьи дети! – визгливо выкрикнул полный мужчина в собольей шубе, все еще, по-видимому, не остыв от перебранки с дьяками. – Я же говорю ему: то ж мои людишки!..
– Дал бы подьячему, так сыск взвел бы того же часу, – удивленно развел руками его спутник. – Скуп ты стал, Гаврило Григорьевич, скуп! И попомни, не только дьякам, но и мне не покажешь милости, впредь за тебя докучник не буду.
– Ладно, ладно, Семен Лукич, сочтемся, – миролюбиво сказал Гаврило Григорьевич, затем вдруг резко повернулся в сторону коновязей, где кучно стояли холопы, и зычно крикнул: «Назарка, пёс!»
На сердитый окрик оттуда к нему бросился статный парень в овчинном зипуне с фасонистым воротником. Пробегая мимо сургутских, он метнул на них взгляд темных глаз, и в них мгновенно высветился характер сытого и наглого малого.
Иван узнал сразу же его. Кровь ударила ему в голову, и он невольно присел от слабости в ногах. Этого холопа он запомнил на всю жизнь и узнал бы из тысячи. От того столкновения с ним, вот в этом самом дворе два месяца назад, в первый день его приезда в столицу, у него навсегда осталась заметка в виде длинного шрама над бровью.
Холоп проскочил мимо служилых, подбежал к хозяину, вытянулся перед ним, дохнул морозным парком: «Слушаю, Гаврило Григорьевич!»
– Ах, ты – слушать! Коня подавай, паршивец! – выругался тот, срывая на нем раздражение от посещения приказных палат. – Что стал – как дурная девка! Коня – тебе говорят!
Напуганный непонятным гневом хозяина, Назарка сорвался с места и кинулся назад, не видя от страха ничего вокруг. Холопы у коновязей встретили его насмешками. Один подставил ему подножку, а другой толкнул в бок. Назарка ловко увернулся, двинул в ответ кого-то кулаком по зубам, подскочил к игренцу и лихо взлетел ему на спину.
«А красив – проказник!» – невольно мелькнула у Треньки завистливая мысль.
Коротконогий и мешковатый он за всю свою жизнь так и не научился ездить верхом на коне. Не то чтобы совсем, а вот так – по-молодецки, как этот холоп. И его съедало страстное желание, хоть когда-нибудь складно покрасоваться в седле. Эта его слабость была известна в Сургуте всем, и служилые посмеивались над ним. Но пронять его было не так-то просто.
«Сосунок!» – мелькнуло у Пущина, когда он разглядел холопа.
И ему стало еще обидней от мысли, что его избил какой-то щенок.
– Это же тот, скотина! – тихо процедил он сквозь зубы, глянув в сторону коновязей, откуда уже мчались сани к подъезду приказного здания, а впереди на красивом игренце пружинисто покачивался Назарка.
– То ж болярский холоп! – испуганно обернулся Тренька в сторону подъезда, где в шубе и высокой горлатке, неповоротливый и величественный, как соляной столб, стоял сокольничий Гаврило Григорьевич Пушкин.
Пущин шагнул было вперед, чтобы загородить дорогу саням и ухватить рукой под уздцы жеребца.
Но его одернул атаман: «Тише, Иван! Остынь, не рвись на батоги!»
Пущин выдернул шубу из рук атамана и оттолкнул его.
– Отстань! Я не девка, не хватай за подол!
– Иван, Иван, не дури! – схватил Тренька его за руки. – Андрюха, да помоги же ты…! – выругался он, загородив Пущину дорогу. – Одумайся, чумовой! До дому же пора! Ну ее, эту Москву, к бычьим потрохам! Здесь того и гляди: то ли ножом пырнут в кабаке, то ли на Пыточном зубы выбьют!
Пущин крутанулся, стараясь вырваться от него. Но Тренька, наседая на него и пытаясь удержать, обхватил его сзади за плечи. Пущин дернулся, но руки атамана сковали его наглухо, как замком. Под кафтаном у него хрустнула свернутая трубочкой грамота, и это сразу же отрезвило его.
– Пусти, – спокойно буркнул он. – Да пусти же, тебе говорят! Не трясись, бузило!.. Грамоты подавишь, старый пёс! – грубо, с нежностью в голосе, ругнулся он на атамана.
– Да хрен с тобой, делай что хочешь! – обозлился тот на него, разжал руки и отступил назад.
Иван поправил смятый кафтан, чувствуя под рукой грамоту, которую спрятал вместе с годовым жалованием в кожаный мешочек, висевший у него на шее под рубахой.
А та грамота была, пожалуй, важнее оклада. Наконец-то он получил долгожданное государево разрешение на службу в Томск, куда задумал перебраться с семьей. Написанное же в грамоте он помнил слово в слово, так как был памятлив, в роду это у них. Бывало, прочтет что-нибудь, и все словно отпечатается в голове.
Государевой грамотой на день Зачатия святой Анны, бабий праздник, как говорили в ту пору, т. е. 9 декабря 1609 года с Рождества Христова, с Москвы были отпущены служилые люди: сургутского города боярский сын Иван Пущин, литвин[7] Андрюшка Иванов, казак Петрушка Павлов, да стрелец Михалко Лукьянов. Сургутским воеводам, Федору Васильевичу Волынскому да Ивану Владимировичу Благому, грамотой было велено тотчас же, не издержав, как только служилые приедут, отпустить незамедлительно Ивана Пущина и Андрюшку Иванова, со всеми их животами[8], к новому месту службы: в Томск, самый отдаленный и пограничный город Московского государства. И велено было в Томске служить Пущину сотником у стрельцов, а Андрюшке быть конным казаком. Казаку же Петрушке Павлову и стрельцу Михалке Лукьянову было велено государеву службу служить в Сургуте по-прежнему, по их старым окладам.
Этой осенью в Москве сургутских оказалось не мало. Одни приехали с посылками – ясаком[9], другие с челобитными и отписками. На Москву всегда ехали охотно, так как знали, что заодно получат сполна оклады, причитающиеся за прошлые годы службы.
Стрелецкий пятидесятник Тренька Деев в этом году пошел в гору. Здесь на Москве он получил новое назначение – в атаманы «литвы и черкас». И хотя станица их в Сургуте была невелика, всего двадцать восемь человек, однако по новой должности Треньке причитался и новый оклад, и весьма немалый. За прошлый год он получил, как пятидесятник, шесть рублей без чети[10]. Получил и новый годовой оклад атамана в восемь рублей. Остальное, по государевой грамоте, восемь четей муки, одну четь крупы и одну четь толокна, приказано было воеводам выплачивать ему на месте – в Сургуте. О чем было отписано в грамоте, которую он вез тоже с собой и дорожил ей не меньше, чем Пущин своей.
* * *
С Москвы сургутские выехали длинным обозом саней, груженных дорожными припасами и товарами, закупленными для дома по лавкам на столичных базарах. Ночью они обошли проселками наезженную польскими разъездами, из Тушинского стана второго Лжедмитрия, дорогу на Дмитров, выбрались на Волгу и по зимнику, больше не таясь, покатили на Калязин. Оттуда, все так же по зимнику, они добрались до Ярославля, а дальше двинулись прямо на север – на Вологду. С Вологды же начинался знакомый промышленным и служилым людишкам торный путь в далекую Сибирь.
За неделю они добрались до Сухоны. Затем через Тотьму до Великого Устюга, и по северной Двине, по не разоренным смутой ямам, в сопровождении ямских охотников, обоз двинулся на Соль-Вычегодск. И запетляла укатанная зимняя дорога по закованной в ледяной панцырь Вычегде, среди густых темных пихтовых лесов, до самого устья Сысолы. В устье Сысолы зимник повернул на юг и, все так же, по реке, пошел на Кай-городок.
Темно зимой в приполярье: темно в тайге, темно на реке, темно ночью, утром и вечером. Только в середине дня природа чуть-чуть разлепит сонные очи, взглянет вокруг мутным взором и снова погружается в долгую зимнюю спячку.
Санный обоз, поскрипывая полозьями, медленно тащился по зимнику. На передках саней метались огни факелов, высвечивая маленькие согбенные фигурки людей. Изредка покрикивали возницы, погоняя лошадей, да из тайги доносилось сухое потрескивание деревьев, схваченных лютым морозом.
Пущин очнулся от дремоты, почувствовав, как от долгого неподвижного сидения совсем одеревенели ноги. Он вывалился из саней, вскочил и побежал рядом с ними, чтобы размяться. Согревшись, он остановился, пропустил пару возов, с ходу завалился в сани к атаману и придавил его всем телом.
Тренька ворохнулся, легко стряхнул его с себя, и чуть было не выбросил из саней.
– Ну, ты, чудило, задавишь!
– Тебя-то?!
– Испугал, ошалелый!.. Я уж подумал: не матерый ли!
– Они подались на юг. Там раздольно… Испортятся, вот тогда уж залютуют. А сейчас по здешним местам тихо.
– Зачем тогда ямские палят огонь?
– Так веселей… Привык народ. Привычка дорогу коротит и натуру прямит.
– Завтра, почитай, до Кай-городка доберемся! А, Иван?
– У ямского спроси, он верней скажет…
Заметив неразговорчивость приятеля, Тренька уткнулся в шубу и тоже замолчал. По натуре он был балагур и весельчак. Однако в дороге он чаще отсыпался под убаюкивающее пофыркивание лошадей. И обычно, перед тем как тронуться с ямской заставы, он плотно наедался, заваливался в сани, глубоко укутывался в шубу и отдавался во власть сонной одури и ямских проводников.
– Послушай, Тренька, а ты через Обдоры ездил?[11] – высунул Пущин из шубы нос и толкнул в бок атамана.
– Да, бывало.
– Как там?
– Таможня, что ли?
– Да.
– Туда, что Обдоры, что Тура – все едино.
– А оттуда?
– Засекут – враз! На Обдорах люто… А у тебя что – заповедный[12]?
– Да нет, я так. А девку, аль пацана выпустят?
– Это полегче. Досматривают, но не так. Кому надо везут. И туда, и сюда. Да тебе-то что? Ты же в Томской. И теперь на всю жизнь… Там, говорят, места добрые, а?
– Хороши, пашенны…
– Да-а, повезло тебе, сотник!
Они замолчали, думая каждый о своем и прислушиваясь к тишине хмурой и мрачной северной урёмы, все выплывающей и выплывающей навстречу им за каждым поворотом реки…
К концу Рождества обоз добрался до Бабиновской дороги. Хорошо укатанная, с широкими вырубками и исправными мостами, эта дорога сначала шла в верховья Яйвы. Затем она перевалила на Косьву, к устью Тулунока, проходила вдоль ее северного берега и выходила на Кырью. Там начинался длинный подъем на Павдинский камень.
Скинув тулуп, Пущин размеренно шагал на этот затяжной подъем рядом с рыжей кобылкой, ведя ее на поводу. Он, как и она, упарился и шумно дышал, хватая открытым ртом разряженный стылый воздух.
Впереди и позади него также шли за санями ездовые и лихо покрикивали на лошадей.
– Хо-хо! А ну, Кавурик, Кавурик!..
– Давай, давай!..
– Тяни, тяни, матерь твою!..
На верху перевала он остановился передохнуть и подождать Тренъку: тот поднимался вслед за ним со своими возами.
– Ух, ты! Ну, кажется, все! – тяжело сопя, облегченно выдохнул атаман, подходя к нему. Из-под сплошной снеговой шапки на голове у него торчала заиндевелая курчавая борода и большой, побелевший от натуги нос с едва заметной горбинкой. Ему, коротконогому и грудастому, по природе не ходоку, такие пешие переходы давались тяжелее, чем другим.
– Впереди спуск! – сочувственно заглянул Пущин в темные влажные от усталости глаза атамана.
– А что спуск? Это не в гору! – хмыкнул Тренька.
– Да опасливей будет… Здесь катун, знаешь какой!
– Ничего, задом тормознем, пронесет.
– Потаены береги: каженик Авдотье без надобности! Ха-ха-ха! – засмеялся Пущин.
– Э-э, дурень, что зубы скалишь! – отмахнулся Тренька. – Давай, двигай, до стану недалеко!
Сзади, напирая на них возами, загалдели казаки. Всем не терпелось скорее добраться до стана на Павде. Он был где-то там, внизу. Отсюда же, с высоты перевала, он не проглядывался, закрытый сплошным морем черневого леса с редкими белыми прогалинами, похожими на дыры в кафтане нищего.
Пущин, крепко натянув повод, осторожно двинулся на спуск рядом с кобылкой, с опаской поглядывая, как она, выбившись на подъеме из сил, с трудом удерживает груженые сани. Но все равно он не досмотрел за ней: на середине спуска у кобылки подсеклись передние ноги. Он же, попытаясь помочь ей, с силой потянул на себя повод и этим лишь запрокинул ей назад голову. На нее накатили сани, сшибли и увлекли вниз. Сильный рывок вырвал у него из рук повод, он не удержался на ногах, полетел вперед и зарылся с головой в глубокий сугроб.
Передний воз Пущина, пронзительно заскрипев, покатился по крутой обледенелой дороге вниз, беспорядочно скручиваясь, сшибая и ломая все на своем пути.
Когда Иван выбрался на дорогу, внизу, около разбитых возов, уже копошились мужики, освобождая из постромков покалеченных лошадей.
– Ну ты и слабак! – накинулся на него Тренька. – Глянь, сколько лошадей изувечил!
– Ладно тебе, атаман! – вступился ямской проводник за сотника. – Его вина тут мала. Кобылка стара уж… А ну, мужики, тягай их за лодыжки на обочину! После приеду, заберу…
Обозники посудачили об опасностях этого перевала, затем расчистили дорогу и двинулись дальше, к Павдинскому стану.
А вот и он сам. На высоком берегу Павды стояла большая, рубленая в охряпку изба. Рядом с ней громоздился сарай с сеновалом и стайка. Поодаль, на берегу реки, из-под сугробов торчала крыша бани. Над избой тоненькой струйкой поднимался вверх дым. В морозном воздухе остро пахло хлебом, щами и навозом. Крохотный ямской стан, затерявшийся в тайге, сулил теплый и сытый ночлег.
И путники, при виде его, сразу оживились, как будто у них и не было позади тяжелого перехода через Павдинский камень.
– Эй, есть тут кто-нибудь! – гаркнул Тренька, не по виду ловко вываливаясь из саней на снег. – Принимай гостей, хозяин!
– Лиха на тебе нет, мил человек, – ворча, выполз из избы мужик с всклокоченной бородой.
Грязный от копоти и жира, в старых катанках и дырявом однорядном зипунишке, прожженном на спине, в теплых, по-стариковски обвисших штанах, он был похож на обычного деревенского деда. В пустых же светло-голубых его глазах застыла ранняя скука и равнодушие к жизни.
– Принимай, принимай, дед! – подошел к нему Пущин. – Чай, затосковал без людей-то?
– Тю! Какой я тебе дед?.. Сорок годков еще не жил. А на сие место токмо едина тоска будет – кабы от пришлого люду упасу найти.
Подошел проводник, за ним казаки и мужики: «Устраивай, дед!»…
– Ты что, как малой? Занимай что хошь – сё государев двор!
– Иван, бери припасы и айда за мной! – подтолкнул Тренька в спину Пущина. – Забивай места в рубленке, покуда казачки не набились!
В просторной избе было пусто и холодно. Вдоль глухой стены сплошным длинным рядом были настланы широкие нары. У маленького оконца, заволоченного тусклым бычьим пузырем, кособочился на чурбаках стол, к нему приткнулись такие же кособокие лавки. В переднем углу виднелись закопченные образа с потухшей лампадкой и висели черные от сажи рушники.
Вслед за атаманом и сотником в избу шумно хлынули обозники, подняли в ней сутолоку.
Тренька ловко растолкал казаков, покидал на нары свои узлы и пихнул в спину замешкавшегося Пущина.
– Не лупись – на полу спать будешь!
Он выхватил у него из рук мешок и бросил его рядом со своими пожитками.
– Вот теперь ладушки!
В избу заглянул ямской проводник, обвел недовольным взглядом забитые до отказа нары.
– Казаки, подводы надо поставить и лошадей пораспрягать. Они пристали не меньше нашего…
– Идем, идем! – откликнулся Пущин и стал натягивать на себя опять шубу.
– Поставь и моих, – попросил его Тренька, деловито копаясь на нарах. – А я здесь пока устрою. Не то, кабы, не занял кто.
– Добро, – буркнул Пущин и вышел вслед за проводником во двор стана.
В избе скоро все разобрались с местами, поели и улеглись по нарам.
– Эй, ямской!
– Чего тебе?
– По Чусовой-то ближе будет, аль нет?.. Эй, ямской! – позевывая, спросил Тренька проводника, широко раскинувшись на мягком тулупе.