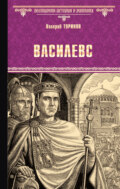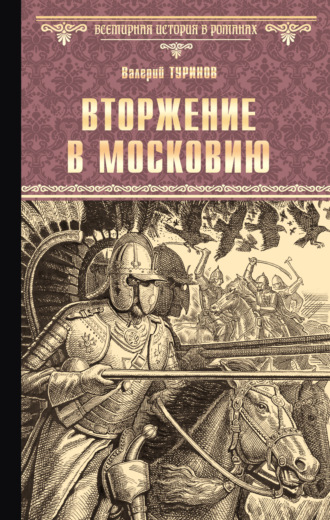
Валерий Туринов
Вторжение в Московию
Глава 2. Стародуб
За городские стены Путивля вышли три путника. Поправив за спиной котомки, они побрели по дороге, что вела в Стародуб. Путь их был не близким, но они надеялись, что их нагонит какой-нибудь поселянин на телеге и хотя бы немного попутно подвезёт.
Один из них, Гринька, по прозвищу Горлан, плотно сбитый коротышка с жиденькой бородкой, пощипанной в какой-то драке, еле плёлся в тесных сапогах. Он снял их в Путивле с гулящего, когда тот загнулся с перепою в кабаке. И вот теперь он мучился, все ноги поистёр. Затем, сплюнув, он снял сапоги, связал их верёвкой, перекинул через плечо, засеменил, лишь замелькали пятки грязные, взбивая клубы пыли над дорогой, и песню затянул. Да унылую какую-то, без слов: то остановится, вздохнёт, а то мурлычет всё то же дальше.
Вторым путником был Матюшка, наш незнакомец. Третьим, их спутником, оказался писарь Алексей, рыжий и худой, и тоже не в годках. Он шёл, молчал, на все вопросы односложно отвечал: «А-а!.. Что?.. Да!..» На этом заканчивался разговор с ним, как будто с немым или глухим.
В крохотной деревеньке на Десне, всего из двух дворов, их приютил один хозяин на ночь. Сараи, избы, крытые соломой, навесы и амбары. Как пьяное перекосилось прясло, ворота хлипкие, колодезный журавль вверх тянет шею тощую свою – всё говорило здесь, что дряхлость поселилась в деревеньке. Вокруг же буйно разрослась зелёно-грязная трава, а подле изб в пыли возились дети. Хозяин, с квадратным торсом мужик Николка, прицыкнул на мальцов. Тотчас они исчезли с глаз, как дикие, пугливые щенята. Здесь, в одной из махоньких избёнок, наши друзья и заночевали. Наутро Николка проводил их до Десны, нашёл спрятанный в кустах челнок и перевёз их на другой берег.
– Вон там, – показал он рукой вперёд, в сторону дороги с разбитой тележной колеёй, – вёрст через десяток, в урочище, Сенька шалит с дружками. Днём-то опасно. А по темноте-то совсем жутко. Как пить дать, на них выйдете. Подкарауливают съезжих-то у оврагов, не то что пеших…
Горлан, поджав губы, ворохнул воинственно плечами:
– Побьём, если их будет даже втрое больше!
И посмотрел на Матюшку, мол, так ли я говорю.
Но тот даже не обернулся к нему. И Горлан зажался, замолчал.
– Ну-ну, храбрец! – бросил Николка, смерив ироническим взглядом его короткую фигуру, и залез в челнок. Взяв в руки весло, он оттолкнул челнок от берега и поплыл обратно к себе, на свою сторону. Ни разу не оглянулся он на ходоков, которых оставил на пустынном берегу, перед неизвестной дорогой через большой и тёмный лес.
Они пошли. Всё было как обычно: теплынь стояла, и солнце пробивалось сквозь густую крону, ложилось пятнами под ноги на дорогу. Но скверно было сегодня на душе у них: им отравил дорогу поселянин рассказами о шаловливых… Перед урочищем они отдохнули, поели, затем пошли дальше. И даже Горлан притих, уже не мурлыкал свои песни без слов и лишь подтягивал штаны ежеминутно, враз отощав с чего-то. Но пыль взбивал он и сегодня босыми тёмными ногами. Алёшка же по своему обыкновению молчал, но молчал заметно по-иному. Один лишь Матюшка, вроде бы, не изменился.
Вот так и шли они. Вечерело, а их путь всё не кончался.
– Николка, видно, с вёрстами маленько промахнулся, – не выдержал и забурчал Гринька. – А может, сбились мы с дороги?.. Идём совсем уж не туда. Тут деревенькой и не пахнет…
Николка указал им, где можно было найти ночлег и выспаться у его приятеля в сарае. Он советовал пристать на ночь к тому и не искать себе неприятности у костра в глухом лесу.
А Матюшка глядел на своих спутников и ухмылялся в свои колючие усы. Они кудрявились у него большими завитками жёсткими.
Шли, шли они и уже мечтали о ночлеге, как вдруг бесшумно вышли три фигуры на дорогу, им путь загородили. Какие-то бездомные, бродяги, свой брат… «Бить будут!..» Вот это Гринька точно знал и сразу же в кусты подался.
– Стой, куда ты!.. – рявкнул Матюшка вслед ему.
И Гринька замер, как будто к матушке-земле прилип, и в плечи голову втянул… «Бить будут!» – опять защекотала его всё та же мыслишка где-то по низу живота… Но нет, всё тихо, никто не тащит за волосы его, не бьёт и не орёт… Он обернулся и увидел, что его попутчики уверенно отмахиваются от бродяг. Тогда он заспешил к ним неторопливо. И радостно взирал он со стороны, как ловко орудует Глазастый одной лишь палкой… «И справиться он сможет без меня!..» Вот одного достал Глазастый здорово. И завертелся тот на месте, схватился за голову разбитую и тут же дунул зайцем по дороге, прочь от настырных товарищей своих… И писарь тоже оказался неплохим бойцом: подбил он глаз грабителю второму. А третий не стал ждать, когда очередь дойдёт и до него: исчез в кустах, куда вот только что хотел сбежать и Гринька.
– Вот так мы их – воров, грабителей! – прокричал вслед им Гринька и пустился в пляску на дороге, воинственно размахивая чужими, в заплатах сапогами.
И даже писарь, молчун Алёшка, взвизгнул, пронзительно и тонко, и начал выделывать в пыли коленца.
– Ладно, хватит – пошли! – остановил их Матюшка, взирая равнодушно на них, своих случайных спутников, оборванных завзятых простаков… «Ну точно кармелиты!..»
Друзья взбодрились после драки и теперь уже смело двинулись через тёмный лес.
– Убивцы!.. Канальи! – провожая их, ещё долго неслись крики из глуши урмана и эхом отзывались на лесной дороге. – Ужо пойдёте тут!.. Тогда и поквитаемся!.. Собаки!.. Голодранцы!..
На ночь они устроились всё в том же лесу, у костра, уже уверенные, что больше никто не посмеет и пальцем тронуть их.
Горит костёр. Тепло. Матюшка щедро накормил попутчиков своих: из тех запасов, что добыл в деревне у Николки. И Гринька, поев, сразу же сомлел, клюнул носом, свалился тут же, захрапел. А Матюшка ещё долго сидел с Алёшкой у огня и говорил, а тот, «Немой», молчал обычным делом. Так время шло у них… Матюшка выговорился весь и стал пустой. И вот, скучая, решил он поиграть с Алёшкой.
– Ты знаешь, – тихо шепнул он писарю, – я – Андрей Нагой, дядя царя Димитрия, – сверкнули в ночи большие глаза его. Свет от костра пятном рассёк его широкий подбородок. И по лесу как будто шорох пробежал, и кто-то дико там захохотал: «Ха-ха-ха!..» Похоже, филин пугает, на всех наводит страх…
Алёшка вздрогнул. Он не был слабаком, но был напуган с малых лет рассказами о ведьмах, леших и водяных. Он верил, что ночью те выползают из своих нор под пятницу, как раз сейчас, вот в эту ночь, когда они оказались тут, вот в этом «Чёртовом» лесу… И погнал же их кто-то именно в такую пору идти пешком на Стародуб, к тому же через этот окаянный лес. Ведь про него им здешние старожилы говорили: мол, не ночуйте на дороге, пройдите лес тот засветло. Но кто же знал, что их тут стерегут бродяги. Как видно, не боятся те сказок о здешних лесах. И сами-то они, подравшись, забыли о тех советах сведущих людей.
– А почто ты молод так? – подозрительно глянул он на родича царя. – Димитрий-то твоих годков.
– Отец мой, покойник Фёдор Фёдорович, в боярстве уже, на старости, женился второй раз… И я родился в тот же год, как и царевич.
– А-а! – промолвил Алёшка и заворочался на тонкой подстилке, почувствовав, как тянет холодком земля, подставил к огню другой, замёрзший бок. – А на меня ты положись – могила! – с чувством произнёс он и снова вздрогнул отчего-то…
А на следующий день, на День Всех Святых, в святую пятницу, на десятой неделе после Святой Пасхи, они вступили в Стародуб. Шёл год 7115-й от Сотворения мира, по календарю которого жила тогда святая Русь, отсчитывая начало года с первого сентября в пику всей Европе католической. На Сёмин день, на день Симеона Столпника, всё начиналось в Московии в ту пору.
Они подошли к городским воротам Стародуба, когда уже вовсю разгулялся день. Но стражники у ворот, похоже, не скучая, шныряли взглядами по лицам входящих, по одежонке и котомкам… А что несут?.. Вон там кого-то остановили, котомку отобрали, его тряхнули самого…
– Вор! Держи собаку!..
А тот сорвался с их вялых рук, метнулся, как заяц запетлял по узкой улочке, вмиг скрылся между избёнок, прилипших друг к другу тесно.
– Сёдня пятница, – запыхтел Гринька рядом со своими дружками, не обращая внимания на стражников и воров, обычный шум у городских ворот. – Кажись, ночлежка забита на субботу… Ох, леший бы её побрал, жизнь нашу бродяжью! – стал ворчать он, прихрамывая всё в тех же тесных сапогах; их он натянул вот только что у города, перед воротами.
Поплутав по улочкам, кривым и грязным, они добрались до площади, когда день пошёл уже на убыль и уже не так остервенело крутилась толкучка на базаре. Но с криками всё так же приставали торгаши ко всем, расхваливая свой товар напропалую…
Они двинулись по толпе, протискиваясь, на всё глазели. Их голод гнал, нужна была харчевня, ночлежка тоже. У Гриньки в кармане была одна лишь мелочишка, как будто кот туда наплакал. Алёшка из скромности богатством тоже не хвалился. И они с надеждой поглядывали на своего товарища: того-то нищим никак не назовёшь. И ждали от него, что он накормит их. А если поставит ещё и по чарке крепкой, то уж тогда пошли бы за ним в огонь и в воду. Ну, в воду ещё может быть, умели плавать, вся жизнь их проходила в барахтанье на мели; в огонь подумали бы и прежде дали бы попробовать ему…
– О-о, вот что-то есть! – воскликнул Матюшка, увидев ветхий сруб, похожий на кабак.
Корчма стояла на посаде, а в городе, в базарной толчее, господствовал царёв кабак. Когда-то, лет пять назад, ещё при Годунове, он был отдан кому-то на откуп. Сейчас же никто не платил с него в казну кабацких денег: всё уходило в наживу воеводам. Но кабак оказался, на удивление, закрыт. И они двинулись на посад.
Ну вот наконец-то и сама корчма: просторный двор, осёдланные кони томятся под навесом. А вон спальная изба, напротив – кабак. И тут же к ним прилипла церквушка древняя, а там на перекладине висят позеленевшие колокольца… Вот в них ударил пономарь, он бьёт, и голос их, унылый, слабый, едва перекрывает лишь этот постоялый дворик.
Алёшка и Гринька поспешно закрестились на церквушку под удары колоколов негромких. Их спутник тоже положил крест на себя, но неумело, не поднимая глаз на церквушку древнюю. Затем он, тряхнув чёрными кудрями, словно подбадривал себя, стал подниматься по крыльцу. Оно было высокое, давно уже покосилось, перила сгнили, вот-вот, казалось, упадут, если налечь на них неосторожно…
Они вошли в кабак. Полно народа. Всё те же лица: ярыжки[5], нищие, бродяги, казаки… Столы растрескались, покрылись грязью, скоблили их, как видно было, десятка два лет назад, ещё при царе Грозном… Герои наши прошли подальше в темноту, вглубь кабака, уселись там за стол, под ними шатко заходили лавки… Гудели ноги, и горло пересохло, хотелось чем-нибудь смочить его.
Кабатчик подал сразу же им пиво и молча заглянул в лицо Матюшке: в нём по одёжке опознав того, который денежкой богат, за всех заплатит.
Матюшка подтёр нос кулаком и жестом показал ему на стол: «Пожрать, покруче и живее! Что ты как дохлый!.. Пся кровь!»
Кабатчик хитро хмыкнул: «Хм!.. Всё будет, как изволит пан!»… И вёртко крутанулся он, и словно ветром его сдуло.
Дневной свет струился слабо сквозь оконце. В кабаке, в угарном мраке, двигались какие-то, как призраки, живые тени.
Тут кабатчик вынырнул откуда-то из темноты. Перед ними появилось по лепёшке. Кинул он на стол ещё кусок от окорока, сразу же исчез опять в хмельном чаду.
Они поели и запили мясо пивом. Матюшка вытер руки о свой поношенный кафтан, сыто икнул на весь кабак и показал своим товарищам на дверь: «Пошли!..» Он поднялся с лавки, небрежно бросил кабатчику затёртый алтынец и неторопливо прошёл к выходу, подвинув рукой кого-то, вставшего ему на пути.
Они вышли с постоялого двора и направились опять к базару, по улочкам пустым и тесным.
– Ну ты, Матюшка, бога-ач! – завистливо пропел высоким тенорком бродяга Гринька. – Вот повезло-то нам! – затараторил он, с подобострастным блеском в голодных глазах. – Откуда столь серебра нахапал, а?! Богат – как царь!
Матюшка остановился возле какого-то переулка. Остановились и они. И он посмотрел на них колючим взглядом. Впервые они увидели в его глазах что-то людское… Он же постоял молча, как будто о чём-то размышляя, затем заговорил, глядя на Горлана:
– Да, Гринька, ты прав – я царь Димитрий! Но о том – молчок! Не то! – с усмешкой погрозил он ему пальцем; глаза же его вновь покрылись холодком, опять в них засквозило безразличие и что-то тёмное. – Ну как – теперь-то догадались?!
От этих его слов Алёшка побледнел. Он искренне был набожен и верил в праведность людей на свете. И отдал бы он не мешкая свою жизнь за вот такого царя, каким он представлял его себе. Он думал, что царь где-то там, в Москве, а он, оказывается, здесь, рядом с ним, как тот же Иисус с апостолами. Чем протоиерей Фома, который жил когда-то по соседству с Алёшкой, смутил его пустую голову ещё с пеленок: что тот, мол, всё видит, поможет в горе и в ненастье и злую руку отведёт…
– Устою на пытках даже я! – весь задрожал он, как в бреду. – Но не выдам я царя! Вот те крест! – выхватил он нательник из-под рваной рубашки. – Целую я на том его! – припал он к нему губами и дальше горячо забормотал: «Ты волен осудить и голову мне снять, коль заворую!»
И Гринька, бродяга, последний голодранец, которого жизнь учила, учила, но так ничему не научила, измучилась, оставила в покое, тоже выпалил испуганно и громко:
– Клянусь быть верным до конца!
– Ох и люблю же я вас, щенков! – с чувством воскликнул самозваный Андрей Нагой и обнял их.
Но его глаза стеклянным взором взирали без теплоты на них, на мир, ему чужой, убогий и неполный. И он, похлопав их отечески по плечам, потащил за собой опять в базарную толкучку.
* * *
Несколько дней они шлялись по посаду и в самом городе, от безделья глазели на всё подряд. К ночи же, когда становилось опасно на тёмных улочках от воров, грабителей лихих, они приходили на постоялый двор. За ночлег, еду и кабацкое питие – за всё щедро платил Матюшка, крепко прикармливая к себе своих случайных дружков-приятелей.
Однажды, на седьмой день по их приходе в Стародуб, на посаде появились скоморохи, ватагой шумной и крикливой. Вожатый заходил перед зеваками с медведем, держа на цепи его. Медведь же, худой, с подтянутыми скулами, весь замордованный, глядел со страхом на него, хозяина, мучителя, который выбил из него уже давно его звериную породу. И он покорно исполнял все прихоти его: ходил на задних лапах и как ватный кувыркался. И если бы умел он изъясняться, то извинения просил бы у зевак за всю породу зверскую свою… Слепой старец возложил на гусли свои тонкие персты, едва коснулся их… И струны что-то ответили ему, от нежности заныв, пропели и сразу, как в испуге, замолчали… А он, подняв персты над ними, замершими, жаждущими ласки, устремил свои незрячие глаза куда-то в пустоту, поверх голов людей… Но вот руки слепца упали на струны, на тело тёплое его потасканной штуковины, и дьявольские страсти заиграли… Он начал изощряться, щипать и бить по струнам, отбрасывать их прочь, подальше в сторону, и вниз, до унижения, чтобы гудели, плакали и выли, пощады, милости просили… Гусляр, бродячий песнопевец, был стар. Но струны его пели, вещали молодым о том, что жизнь от сладострастия пьяна и ей ли умирать…
И тут же ловкий жилистый горбун паясничал в наряде шутовском Петрушки. На голове его торчал цветной колпак, весь в колокольчиках, и одежонка пёстрою была. Он сильно хромал и был смешон, но ещё больше жалок. Кривлялся, прыгал, показывал он фокусы замысловатые. И вдруг он подскочил к Матюшке и колесом прошёлся перед ним. Затем он ухватился за пуговицу на его кафтане и дёрнул слегка её, расхохотался громко:
– Ха-ха-ха!.. Тебя я знаю! Ты щедр, как царь! Вот и меня побалуй денежкой серебряной из гамалейки[6] или вина скорее мне налей-ка!.. Заметив его резкое движение, он отскочил от него. Но острых глазёнок не опустил он перед ним, раз ловко кувыркнулся через голову: горб, безобразный, в воздухе мелькнул…
– Я – Петрушка-молодец! – пронзительно понеслось по площади. – Меня выпорол отец! За то, что к девицам ходил, вино сладкое я пил! На мне платьице худое, да к тому же и чужое!..
Дудки яростно свистели, скоморохи веселили честной народ, толпа напирала на них, слышался хохот. Под удары колотушки прохаживался вожак, водил по кругу медведя с шапкой в зубах и заставлял его кланяться, собирал копейки и полушки…
Когда скоморохи угомонились и суета вокруг них стала затихать, Матюшка подошёл к их старшему, тому вожатому с медведем, оттащил его в сторону и пристал к нему.
– Продай шута! Я дам знатную цену! – звякнул он тугим мешочком с серебром перед физиономией опешившего вожака.
Эти деньги были князей Вишневецких. И он не дорожил ими, транжирил, щедро кормил, поил своих дружков-попутчиков, ярыжек угощал, пьянчужек в кабаке и нищих, бродяг не забывал. При этом он приговаривал на ухо им: «Вот-вот придёт царь Димитрий и вас пожалует ещё дарами!..» И посад, он слышал уже об этом, заговорил, пока ещё втихую, опять о царе Димитрии. Его здесь ещё помнили хорошо, как и в Путивле.
Вожак раздумывал недолго: они ударили по рукам. Всего за десять рублей, такова была цена плохонькой лошадки, продал он горбуна, своего товарища по ремеслу. Так Матюшка в тот памятный для него день завёл своего первого холопа и всё никак не мог наглядеться на него. Горб безобразный казался ему прелестным, рост малый не смущал его. А то, что злой – на то причины есть: шут ядовитым, как поганка, должен быть. Держал он впроголодь его, чтоб ум острее был и не терял бы ловкость он, живот не портил бы горбатую осанку… Петрушка Кошелев, так звали шута, уже не удивлялся в жизни ничему, зажил за новым хозяином своим: уж если купил – пускай и кормит…
А самозваный Андрей Нагой нашёл себе на посаде двор, снял там избу, точнее угол, стал жить свободно. Днём он пил вино с хозяином двора Нефёдкой, мелким торговцем на посаде, на его летней повалуше[7], срубленной на подклети. В жару прохладно было в ней. А по вечерам его, пьяного, из кабака приводили Гринька и Алёшка. Но даже пьяным он держал язык на привязи, по себе отлично зная, что чем сильнее жажда, тем злее будет питься хмельная влага. Ни разу не проговорился он больше о том, о чём лишь однажды открылся, как ни пытались они выведать ещё что-нибудь о нём: Алёшка – млея от него, кумира своего, а Гриньке то наказал воевода. Тот припугнул его под страхом смерти, когда и до него дошли слухи о странном Нефёдкином постояльце.
Андрей Нагой, а Матюшка вжился в эту роль уже, шатался по Стародубу, кутил, порой скандалил, дрался. О нём все бабы судачили по городку, украдкой девки косили глазами на него. А мужики качали головами, глядя на его беспечное житьё-бытьё: «Вот дал же Бог кому-то всё!»
Завистливо подумывал и Гринька о своём дружке, счастливчике. А тот нашёл себе игрушку: с шутом частенько веселился.
– Давай, давай, Петька! Ещё разок! – сквозь взрывы хохота слышалось теперь.
И шут потел, кривлялся, хозяину старался угодить.
Так прошёл месяц, как заявились наши приятели в сей городок на окраине земли Московской. А уже поползли слухи о том, что царь Димитрий здесь, в Стародубе, среди них живёт и ходит, скрывается до времени, вот-вот объявится. И на город опустилась странная лихорадка. Все ждали с нетерпением царя Димитрия, но никто не видел его никогда и не знал, каков же он из себя обличьем.
Приятелям Матюшки казалось, что они знали о нём всё. Так думал и тот же Меховецкий. Но как же ошибались-то они! Не знали, не догадывались они, что он прятал Талмуд[8] на дне своей грязной котомки, но чаще баловался чернокнижием[9]. Он верил в числа. Свою судьбу он просчитал уже на много лет вперёд и знал, что ему помогут потусторонние силы совершить в жизни что-то необычное. Так вытекало из тех странных, каббалистических чисел[10]… И он решил ввериться тем силам. От Сёмина дня он отсчитал назад число каббалистическое 77. К нему он прибавил ещё три дня, по 13-м числам те силы обычно отдыхают, воскресный день есть и у них тоже, прикинул – и у него вышло, что он должен был вступить в Стародуб именно в тот день, когда они пришли, в День Всех Святых, как раз в пятницу на десятой неделе после Пасхи… Да, да, те силы распяли Его на Пасху, в пятницу!.. А он, Матюшка, начнёт восхождение с неё… Всё получалось так, как говорила каббала. Задержка хотя бы на один день сдвигала все числа, и его судьба уходила совсем в иные миры, те числа рассыпались… Да, это он просчитал уже, и не один раз, и каждый раз смущался… Вот связка времен – и она ждёт его!.. К тем десяти неделям, 70 дням от Пасхи, он прибавил свои 77 дней, отпущенных ему до срока: вновь получилось каббалистическое число, 21 неделя. Он разделил это число на семь и получил три недели, «их недели», сил потусторонних… Год на Руси шёл тогда 7115-й от Сотворения мира, и в этих числах, в сумме их, ему мерещились всё те же две семёрки.
Он лихорадочно заходил по избёнке, голый по пояс. Вспотев от волнения, он схватил со стола кувшин с пивом, припал к нему: большой кадык затрепетал на его шее. Он осушил кувшин, но не напился, сжал пальцы в кулаки, чтобы унять дрожь в теле… Да, да, всё верно, правильно, он не ошибся, и всё идёт в развязке… «Какой же?!» – заработал в горячке его мозг, толкал куда-то. И он, не выдержав томления в груди, схватил кафтан, напялил его прямо на голое тело, выскочил во двор и бросился бегом в кабак: скорей залить огонь внутри, тот жёг его.
И в этот день он здорово напился. С утра же на следующий день, как раз в пятницу, он валялся всё ещё пьяным, когда во двор Нефёдки вломилась кучка стародубских властных людей, с толпой посадских и городских.
– Андрей, Андрей, вставай! Ты что заспался-то! – стал тормошить его Нефёдка.
Он испугался огромной толпы, она уже ломала его ограду, втискивалась в его убогий дворишко. Шум, грохот, пока ещё приглушённый. Ропот и сопение чем-то рассерженных людей… И всё тут, у него, у Нефёдки!..
– Нефёдка, выходи! – застучал воевода палкой в дверь, запертую изнутри. – И постояльца давай сюда!.. Да живо! Не то раскатаем по брёвнышкам твою избёнку!..
– Да чичас! – отозвался Нефёдка, ознобливо задёргался, расталкивая своего пьяного постояльца. – Вставай, вставай, ты!.. – выругался он в сердцах. – Вот напасть-то! За что мне Бог послал такого! – забормотал он, потащил его с лежака, не в силах приподнять тяжёлое тело.
Матюшка свалился на пол, мягко, как подушка.
– Да вставай же ты, дерьмо собачье! – засуетился вокруг него Нефёдка, затормошил, затем подскочил к кадушке. Зачерпнув ковшиком воды, он плеснул её в лицо ему.
Матюшка зафыркал, стал плеваться: «Хр-р!.. Тьфу, тьфу! Фыр-р-р!» – и потянулся рукой к нему: «Я те рыло сверну, вонючка!»…
Он поднялся с трудом на ноги, повёл бессмысленным взглядом по тесной избёнке, заметил Нефёдку, тупо всмотрелся в него, пытаясь что-то сообразить: кто он и что здесь происходит…
– А-а! – промычал он и вспомнил, как вчера опять набрался сверх меры в кабаке.
Избёнка же, бедная избёнка уже ходила ходуном под напористыми сильными плечами. А дверь скрипела и скрипела… И вдруг раздался ужасный треск. Дубовая задвижка лопнула, дверь распахнулась настежь, и в неё, в пустой проём, свалились кучей у порога три здоровенных мужика, с пыхтением и бранью: «Собака!..»
А со двора донёсся всё тот же повелительный и резкий голос: «Тащите сюда… этого Нагого!»
Матюшка протрезвел от страха быстрей, чем от холодной воды, хотел было бежать куда-то, но не мог ступить и шага. Он понял, что влип, и его ноги приросли к полу.
А мужики уже тут как тут, подле него, умело заломили ему руки, нагнули низко шею и потащили во двор.
– Да хватит же, больно! – взвыл он, взирая, как перед самым носом у него полощутся вонючие мужицкие порты.
Но мужики отпустили его только во дворе. И он, ворохнув плечами, оправил на себе помятый кафтан, увидел перед собой огромную толпу, а впереди неё городских «сильников».
Вчерашний боярский сынишко[11], из здешних, городовой, его он поил вечером в кабаке, был тоже здесь. Он стоял, понурив голову, возле Гриньки… «Да, точно, выдал он!»
Приставы тем временем вытащили вперёд Алёшку и Гриньку и толкнули их к нему, лицом же к воеводе и толпе, к этой ужасной толпе. Алёшка жалобно глянул на него и отвернулся. А Гринька глаз не поднимал. Несколько дней назад он проболтался об их странном приятеле, кормильце и добродетеле. Из зависти к нему он выложил всё, по пьянке, кому-то в кабаке и не мог даже вспомнить кому. И вот сейчас он понял, что слух о том дошёл и до его родного Путивля, если от крутого тамошнего воеводы Григория Шаховского здесь появились «с доездом» сыщики: «сыскное дело» завести.
«И дознаются!» – похолодело всё внутри у него, когда он заметил за воеводой палача Ерёмку, тот притащился сюда с подручными… «Вон инструмент уже!» – углядел он у них жаровню, огромные щипцы, колодки…
Подручные спешат, уже прилаживают козлы для пытки наскоро, но ремесло поставлено умело.
– Вот ты, Нагой, болтаешь здесь, что, дескать, царь Димитрий жив и вскоре опять придёт сюда! – заговорил воевода, заложив руки за широкий кушак, подтянул большой живот, запыхтел, отдуваясь от жары.
Она, жара, накрыла городок и степь. Леса горели в этот зной, парили редкие озера за городскими стенами.
– Да вот заждались что-то мы его! – выкрикнул кабацкий голова.
Тут откуда-то вдруг появился дьяк Пахомка, забегал подле воеводы и стал толковать ему.
– Князь Лука, а князь Лука, ты не трогай вот его, вот его-то! – показал он на Матюшку.
Его, дьяка Пахомку из Москвы, Матюшка тоже припоил, тот стал ручным, его радетелем.
– Придёт, придёт, друзья… – залепетал Матюшка. Он испугался натиска толпы и воеводы, мелких служилых, боярских детей и казаков.
– Ну как вот вам такое, а?! И мы же оказались в дураках! Послушайте, послушайте его! – бросил воевода в толпу, и та заволновалась сразу же. – Так где же он?! – вскричал он, взвинчивая ленивых и зевак.
– А мы же верили в его наследный трон! – раздался пронзительный вопль какого-то юнца.
– Он, как сатана, всем милость обещал! – вдруг заголосила какая-то баба, худая, тёмная, и стала рвать на себе волосы. И её грязное платье, в лохмотьях, полетело на землю, обнажая всю её срамоту…
«Ну так и есть – юродивая! На Русь попал, святую!» – с сарказмом пронеслось в голове у Матюшки. Сердце у него дрогнуло, и сразу стало легче: опять всё то же, он снова был дома, где всё по-прежнему и всё знакомо…
– А ты-то знаешь – когда же явится наш царь?! – съехидничал воевода, приставив к лицу Алёшки кулак. – Отвечай, вонючее гусиное перо!
Алёшка струсил, и изрядно, но гордость всё ещё брала в нём верх, себя топтать не позволяла, выкручивалась, как умела.
– Ох, как же ты, боярин, нетерпелив! – умышленно польстил он воеводе, хотя тот был всего лишь мелкий дворянин.
– А ты, питух, спесив! И не по месту! Сейчас вот зададут тебе!.. – даже не заметил воевода, по тупости своей, лесть тонкую Алёшки и обернулся к стрельцам, которых толпа приволокла сюда за собой. – Схватить его!
И стрельцы тут же подскочили к приятелям, схватили Алёшку, подтащили к козлам: «Держи, Ерёмка, твоя работа!» – со смехом бросили его на руки подручным палача. Те на лету словили писаря и ловко разложили на козлах его, Алёшку, кудрявого и славного, всего лишь молчуна, к тому же безобидного пьянчужку.
– Пытать, пока не надумает сказать: почто царь не идёт и медлит, шлёт вести устные одни! – с сарказмом проворчал воевода, тряхнул отвисшим животом. – Хе-хе!
– Государь, откройся им, – стоя рядом с Матюшкой, зашептал Гринька и выбил зубами дробь, когда увидел, как с писаря сдёрнули рубашку и порты, чуть-чуть на козлах потянули, точь-в-точь как шкуру с какого-то коняги, чтоб задубить и просушить.
Матюшка сглотнул тугую слюну и прошелестел сухим языком своему кабацкому дружку: «Донесёшь – на кол пойдёшь, паршивый пёс!»
Гринька всхлипнул, зажал было рот, но его губы сами собой тряско запрыгали: «О-о, государь, молю – прости!..»
– Давай, Ерёмка, давай! – крикнул весёлый воевода палачу. – Пусть скажет, мерзавец, нам речь! Он писарь, его слова давно летают по кабакам! А ну-ка, сними кожу с него и псам отдай! А потроха – вон той убогой! – пыхнул он смешком в клочковатую бороду; его заплывшие глазки сверкнули по сторонам, остановились на юродивой, которую стрельцы вытаскивали со двора. – Вот пусть она и погадает: когда же к нам явится Димитрий, сам царь! А не собак кабацких зачем-то присылает! Ха-ха! Начинай, Ерёмка, попарь его: по заднице, по спинке!..
Ерёмка принялся за дело: бич свистнул… Алёшка взвизгнул, всем телом изогнулся. Но крепко, узлами, притянули его руки к толстому бревну.
– Да что ты гладишь-то его! – рассердился воевода, вынул кулак из-за широкого кушака и погрозил им Ерёмке.
Ерёмка, презрительно сплюнув себе под ноги, прошёлся снова бичом по спине Алёшки. И покраснела она теперь, как от стыда… Вот тут уже Алёшка заверещал, заёрзал руками, не в силах дотянуться до спины, заполыхавшей огнём.
– Я всё скажу – только уймитесь! – запричитал он, обнимая шершавое и тёплое бревно. – О Николай Чудотворец, помоги!.. Какие все вы дураки!.. Хы-хы! Помыслить сами не хотите! Хы-хы!..
– Так видел ты царя или нет?! – спросил воевода его.
Алёшка всхлипнул, послушно закивал головой.
– И как же ты признал в нём царя, а?!
– По осанке… Осанка царская его меня смущает…
– Ха-ха! – глупо хохотнул кто-то в толпе.
Воевода сдвинул брови и повёл взглядом по головам, и все бездумно замолчали снова. А он стал медленно поворачиваться и вот, когда повернулся, махнул рукой палачам, чтобы оставили писаря, и показал пальцем на Матюшку: «Теперь беритесь за Нагого!»
Но в этот момент кликуша вырвалась из рук стрельцов. Те волокли её со двора, грязную, нагую, а она, не пьяная, орала: «Здесь, здесь дух его! Сейчас увидите его! Он, сатана, пришёл до вас! А вы!.. Тьфу, тьфу!» – вдруг плюнула она в лицо одному стрельцу. Плевок попал бедняге прямо в глаз. Тот выругался, зашарил сослепу руками, ловя её… Она же вырвалась из рук другого стрельца и кинулась назад, во двор, всё с тем же воплем: «Сатана-а!..» И там она уткнулась в толпу, глазевшую, как расправляется палач с кабацкими ярыжками, забегала среди людей, со страстью вглядываясь им в лица… Но вот она остановилась перед каким-то зевакой: тот пялился во все глаза на то, как бич со свистом режет плоть несчастного Алёшки… И она, жеманно подмигнув ему, хихикнула и голым задом бесстыдно повела. Затем вскинула она вверх руку, показывая неизвестно куда-то, и опять заголосила: «Он!.. Он – глядите!»